
Автор — ученый и путешественник — посвятил животным всю свою жизнь.
Его увлекательная книга, написанная простым языком и рассказывающая о впечатлениях, чувствах и событиях, знакомых каждому с самого детства, никого не оставит равнодушным.
Заповедными тропами

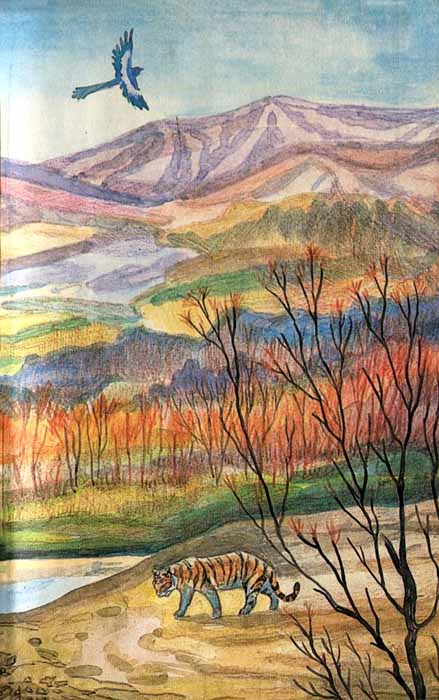


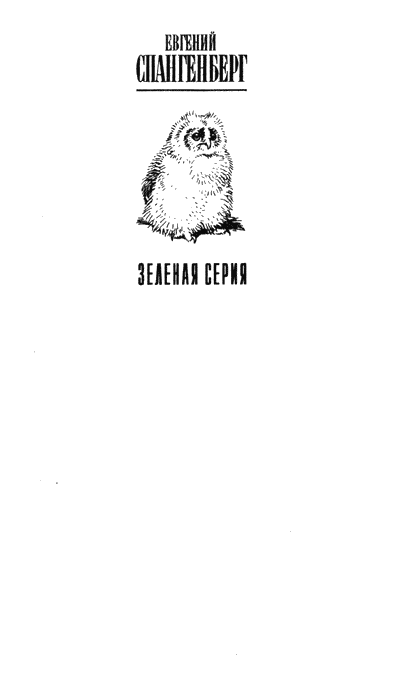


Е. П. СПАНГЕНБЕРГ — УЧЕНЫЙ И ПИСАТЕЛЬ
Имя Евгения Павловича Спангенберга сейчас почти забыто. И об этом нельзя не пожалеть. В отечественной орнитологии, науке о птицах, середины XX века он занимал совершенно особое, уникальное место: Е. П. Спангенберг был настоящим ученым-натуралистом. Быть натуралистом — это исключительный и редкий дар, это особый строй мыслей, своеобразная философия и система знаний. Натуралистом не становятся, а рождаются. Орнитологи-натуралисты — это в известном смысле первопроходцы, которым мы обязаны изначальными сведениями о птицах необъятной территории Российской империи, впоследствии именуемой Советским Союзом, а сейчас сжавшейся до Российской Федерации.
Евгений Павлович был потомком дворянского рода фон Спангенбергов, восходящего к XVII веку. Его дед, Евгений Иоганнович Спангенберг, датчанин по национальности и капитан дальнего плавания по профессии, женился на украинке Надежде Тарасенко. С этого события и началось обрусение Спангенбергов.
Отец Евгения Павловича, Павел Евгеньевич Спангенберг, был инженером-путейцем и поэтому вынужден был довольно часто менять места жительства.
Евгений Павлович Спангенберг родился в 1898 году на станции Андриановка Читинской области. Раннее детство его прошло в Санкт-Петербурге. Особое влияние на формирование взглядов и интересов маленького Жени имел семидесятилетний дед-капитан. Он считался «морским волком»: дважды объехал вокруг света, побывал во многих странах и даже посетил Чукотку, которая в те времена казалась «краем света». Вместе с тем дед был страстным любителем природы и, по-видимому, многосторонним и ярким человеком. Он привез с собой собрание чучел редкостных птиц и коллекцию различных сувениров. Усаживаясь по вечерам перед камином, дед рассказывал о своих путешествиях, приключениях, природе дальних стран и встречах с людьми. Эти рассказы очаровывали мальчика и будили в нем еще не осознанное стремление к странствованиям, пристальный интерес к природе.
Несколько позже семья переехала из Петербурга в маленький железнодорожный поселок Ахтубу, затерянный в степях Нижнего Поволжья. Здесь началась совсем иная жизнь. Большой запущенный сад вокруг дома, соседство первозданной, еще не изуродованной людьми степи, неспешное чередование времен года — все это давало простор для развития душевного строя и способностей будущего натуралиста. Огромное влияние на мальчика оказали также постоянные выезды с отцом на охоту и рыбную ловлю, самостоятельные походы в степь, отдельная комната, отведенная для содержания всякой живности. Вся семья доброжелательно и терпеливо относилась к постоянно обитавшим в доме птицам и зверькам. У мальчика проявилась поразительная способность выкармливать птенцов и ухаживать за подранками и другими животными. Ему не надоедало возиться с ними днями, неделями и месяцами, тогда как обычно уход за животными уже после трех-четырех дней переходит к взрослым.
Жене было всего шесть лет, когда отец впервые взял его на охоту. А в семь лет он уже получил в подарок свое первое ружье. С тех пор охота прочно и полноправно вошла в жизнь будущего исследователя и превратилась в одну из главнейших страстей его жизни, а охотничьи собаки стали его постоянными спутниками.
Незаметно летит время, и вот уже семья Спангенбергов снова живет в Сибири, в Иркутске, куда перевели работать отца. В настоящую тайгу нужно было добираться целый день, а значительную часть времени теперь отнимала учеба в гимназии. Однако и здесь Евгений Павлович, тогда уже юноша, находил возможность при первом удобном случае вырваться из города, и снова ружье, собаки, охота.
В 1918 году Евгений Павлович закончил Иркутскую гимназию. Надо было определяться в жизни, а четкое решение еще не созрело. Евгений Павлович переезжает на Украину, в город Запорожье. Время было смутное и опасное, на Украине шла война. Вскоре он был призван в Красную Армию и около двух лет прослужил в ней рядовым бойцом в войсках Южного фронта.
Через год после демобилизации он поступает в Московский университет, на естественное отделение физико-математического факультета. Учеба в университете, помимо систематических знаний по зоологии, сформировала личность Евгения Павловича как настоящего орнитолога-натуралиста.
Но только в 1946 году он наконец обрел ту работу, к которой стремился всей душой. Он стал сотрудником Зоологического музея Московского университета. Здесь он проработал до своих последних дней, то есть полных двадцать два года.
Но жизненный путь человека не определяется только датами и местами службы! Поэтому если говорить о биографии Е. П. Спангенберга, то прежде всего следует рассказать о его экспедициях. Они, и именно они, составляли основу жизни этого замечательного натуралиста, были тем стимулом, который постоянно поддерживал его в трудные минуты.
Настоящая экспедиционная жизнь началась у Евгения Павловича, когда ему было двадцать шесть лет. Еще будучи студентом, он совершил первую поездку в Северную Азию, в район нижнего течения Сырдарьи. Природа и особенно птицы этого края покорили ею воображение, и последующие четыре года он посвятил исследованию этого района. В 1928 году Евгений Павлович пересек пешком Приаральские Каракумы и некоторое время работал на побережье Аральского моря. Он, однако, не считал исследование законченным и неоднократно возвращался к изучению птиц Южного Казахстана. В 1936 году ему удалось обследовать труднодоступный участок Кызылкумов, лежащий между старым руслом Жанадарьи и станцией Арысь. Были собраны ценнейшие коллекционные материалы и наблюдения, послужившие основой для монографического описания птиц Нижней Сырдарьи. Этот капитальный свод, опубликованный в 1941 году, может служить прекрасным образцом классической региональной работы: он содержит исчерпывающие сведения о размещении и биологии птиц интереснейшей территории.
Параллельно исследованию птиц Средней Азии Евгений Павлович начал цикл экспедиций в Закавказье. Первая поездка в Азербайджан относится к 1925 году, затем он работал в Ленкорани. Результат этих экспедиций — несколько статей о птицах и интересные исследования по биологии лесной сони и сони-полчка. К изучению птиц Ленкоранского побережья Евгений Павлович возвращался постоянно, и главное свое внимание в этих поездках он уделял пролету птиц и состоянию их зимовок.
Закавказье интересовало Евгения Павловича и в более широком плане. Он обследовал орнитофауну ряда районов Армении и написал серию статей о ее зимующих птицах. Хотя главная его задача — создание общей монографии о птицах Закавказья — осталась неосуществленной, по Азербайджану такой обзор все же был опубликован значительно позже, в книге «Животный мир Азербайджана» (1951 г.).
Евгений Павлович обладал исключительной энергией. Казалось бы, исследование Средней Азии и Закавказья, длившееся с 1924 по 1937 год, просто не оставляло времени для другой работы. Но нет, Евгений Павлович сумел за этот период посетить еще создававшийся тогда заповедник «Семь островов», район станции Акбулак в Оренбургской области, окрестности поселка Кара-Балты в Киргизии и озеро Сары-Челек в Фергане, где он проверял результаты расселения ондатры и енотовидной собаки.
В 1938 году внимание Евгения Павловича привлек Дальний Восток. Тогда этот край в орнитологическом отношении представлялся совершенной загадкой, и первая же поездка Евгения Павловича в долину реки Иман принесла много неожиданного. После новых поездок в пятидесятых годах, когда ему удалось детально обследовать южные районы Приморья, Евгений Павлович приступил к подробному описанию орнитофауны Дальнего востока. Эта работа, содержащая ценнейший фактический материал по биологии птиц, увидела свет в 1965 году.
Великая Отечественная война прервала экспедиционную деятельность Евгения Павловича. Однако сразу же после ее окончания, в 1946 году, Евгений Павлович начал изучение птиц Рыбинского водохранилища, где был создан Дарвинский государственный заповедник. Обзор орнитофауны Рыбинского водохранилища был опубликован двумя годами позже. К сожалению, работа эта осталась незавершенной.
В 1955 году Евгений Павлович начал изучать птиц Европейского Севера. Он совершает первую поездку на полуостров Канин, а в 1956 и 1957 годах проводит там полный полевой сезон. Чтобы сравнить орнитологическую характеристику европейских тундр с азиатскими, Евгений Павлович осуществил трудную поездку на северо-восток нашей страны, в низовья Колымы. Здесь исполнилась его заветная мечта: он собственными глазами увидел розовых чаек.
Перечень мест, где работал Евгений Павлович, будет неполным, если не сказать несколько слов о Крыме. Евгений Павлович отлично знал Крым, его птиц, его природу, и написал несколько статей о его фауне. С особой нежностью рассказывает он о Крыме и в своих мемуарах.
Между тем, однако, годы летели, и здоровье Евгения Павловича начало сдавать. Для дальних поездок от него стали требовать медицинские справки, что он просто ненавидел. Три или четыре года зоолог вообще никуда не выезжал, потом почти нелегально отправлялся на Рыбинское море. Однако и этому вскоре пришел конец. Евгению Павловичу осталось только Подмосковье, да и то ненадолго.
Евгений Павлович был ученым совершенно особого склада. В каком-то смысле он был анахронизмом даже для своего времени. Он не вел детальных полевых дневников, не пользовался фотоаппаратом, не делал зарисовок, не записывал голоса птиц. Он совершенно не знал английского языка, а потому вся огромная англоязычная литература по птицам оставалась ему неизвестной. Но он обладал бесценным даром: он знал, чувствовал птиц и как этолог, и как систематик, знал тончайшие нюансы, мельчайшие штрихи, интимнейшие детали поведения любой, даже самой редкой птицы.
Тех, кто работал с Евгением Павловичем в поле, всегда поражала способность его с первого взгляда, часто на большом расстоянии, безошибочно определять пролетающих уток или куликов. Так же безошибочно узнавал он до подвида любую птицу в музейных коллекциях. Ученый был необычайно строг и требователен к себе и к своим публикациям. Он считал, что лучше промолчать, нежели говорить предположительно. Вот почему его работы составляют золотой фонд отечественной орнитологической литературы.
Своеобразны были и методы сбора научного материала. Евгению Павловичу был совершенно безразличен точный количественный учет, он не признавал инструментального изучения гнездовой биологии птиц, не знал даже элементов классической этологии. Все, чем пользовался в поле — это бинокль и ружье. И поразительно острые зрение, слух и память. Помимо прямых наблюдений за птицами, единственно ценным научным материалом он считал коллекционные тушки и кладки. Коллекционер он был, что называется, «от Бога». Только в Зоологический музей МГУ им передано около одиннадцати тысяч экземпляров тушек. Кроме того, ценнейшая эталонная коллекция, бывшая собственностью Евгения Павловича, хранится ныне в Тимирязевском музее в Москве. Он был виртуозом препарирования птиц.
Особенно ярко проявился дар коллекционера, когда Евгений Павлович начал собирать кладки яиц. В этой области он был бесспорным пионером, разработав методику сбора кладок, препарирования и хранения. По сути дела, Евгений Павлович превратил развлечение в научный процесс. Он первым начал собирать кладки вместе с гнездом или гнездовой подстилкой, что значительно повысило их информативность. Коллекция Евгения Павловича, насчитывающая свыше полутора тысяч кладок, относящихся к примерно пятистам видам, хранится сейчас в Новосибирске, в Биологическом институте СО РАН. В собирании он был скорее коллекционером, чем ученым. Каждая новая кладка, найденная им или подаренная кем-либо (или выменянная!), долгое время была предметом горячих рассказов и переживаний. Была и жгучая ревность, и кровные обиды, когда кто-нибудь не отдавал ему интересную кладку. Впрочем, такие случаи бывали редко, для всех нас было и честью, и радостью делиться с ним находками в первую очередь. В те годы собирание кладок было почти повальным увлечением, и Евгений Павлович как-то незаметно был его пружиной и двигателем.
Оглядываясь сейчас на научную деятельность Евгения Павловича, поражаешься, как много он успел сделать. Им написано более ста статей о птицах и млекопитающих. По нынешним временам это не так уж и много. Но за этими статьями скрываются годы и годы полевой работы, работы в самых трудных, малодоступных местах, почти без финансирования, на голом энтузиазме. В то время в распоряжении зоологов не было ни вертолетов, ни автомашин, ни моторных лодок, ни даже палаток или спальных мешков. Тысячи и тысячи километров проделал он пешком, верхом или на веслах. Один только путь через полупустыни и пустыни Казахстана и Средней Азии от Оренбурга до Ташкента, который Евгений Павлович прошел пешком, составляет более полутора тысяч километров! Заметим, что почти все экспедиции Евгений Павлович проделал в одиночку и редко — вдвоем. Прекрасным свидетельством тому было его участие в подготовке замечательной коллективной монографии, шеститомника «Птицы Советского Союза», за которую ряд сотрудников Зоологического музея, в том числе и Евгений Павлович, были удостоены Государственной премии 1952 года.
Многогранность таланта Евгения Павловича особенно ярко блеснула, когда он попробовал свои силы в научно-художественной литературе. Замечательные «Записки натуралиста», не раз переиздававшиеся и переведенные на иностранные языки, — это действительно глубоко художественное произведение. Приступая к написанию этого очерка, я еще раз (в который уже?) перечитал эту удивительно милую и увлекательную книгу, еще раз подивился и феноменальной памяти Евгения Павловича, и верности его слова, и тонкости восприятия природы, и постоянной любви и сочувствия животным, и теплоте в отношениях с людьми. То, что написал Евгений Павлович, — это поэтический гимн родной природе, дальним дорогам, научному поиску, радости открытий, трудной Работе. Немало людей привела эта книга к пониманию природы, открыла им глаза, и потому пользуется необыкновенной популярностью.
Евгений Павлович был удивительным бессребреником. Получая нищенскую зарплату, он совершенно не стремился как-то улучшить свое материальное положение, хотя потенциальные возможности для этого несомненно были. Он жил аскетом, не требуя для себя лично никакого комфорта. Те, кто бывал у него дома, помнят, вероятно, полутемную лестницу в мрачном доме на улице Горького (как она тогда называлась), коммунальную квартиру, где его собственное жизненное пространство ограничивалось тесной проходной комнатой. Письменный стол, узкая постель, шкаф с книгами и коробки с коллекциями — спартанская обстановка, но никто никогда не слышал от него ни малейшей жалобы. Евгений Павлович очень любил визиты друзей, и надо было видеть, какой гордостью, какой радостью сияли его глаза, когда он открывал какую-нибудь коробку и показывал редкую кладку или тушку.
У тогдашнего поколения молодых орнитологов сложилась традиция после каждой экспедиции сразу же, еще под свежим впечатлением, заходить к Евгению Павловичу в Зоомузей. И каждый раз для него такой визит был праздником. Не было в Москве человека, кто более живо, с большим интересом и сочувствием, с такой непосредственностью откликнулся бы на рассказ об экспедиции, порадовался бы новым находкам, посетовал по поводу неудач. Евгений Павлович был замечательным слушателем, он просто загорался от услышанного, глаза становились более синими и глубокими, и даже казалось, что от возбуждения у него начинал слегка шевелиться кончик носа, как у землеройки.
Это очень приятно, когда тебя слушают, и каждый, кто приходил к Евгению Павловичу, старался принести в подарок кладку или тушку. И если кладка была редкой и хорошо препарирована, восторгу не было границ. «Золотая вещь!» — любил говорить Евгений Павлович в такие минуты.
Интересно, что из всех предметов его радовали только кладки и тушки. Вульгарный «вещизм», фетишизация чего-либо другого были ему абсолютно чужды. Будучи, например, страстным охотником, он никогда не стремился обладать дорогими ружьями, что было модным у других его коллег-охотников. У Евгения Павловича ружья были «среднего разбора», но с отличным боем. Да и библиотека у него была чисто рабочая, а не декоративная. Только то, что нужно для работы.
В коллективе Зоомузея он всегда жил несколько особняком, как чумы боялся всяческих «общественных нагрузок» и был совершенно вне мелких раздоров, которые, как и во всяком другом учреждении, немало волновали других сотрудников.
Евгений Павлович оставил глубокий след в умах и памяти целого поколения российских орнитологов, ныне, к сожалению, почти ушедшего. Когда стало очевидным, что экспедиционная работа для него закрыта навсегда, он потерял желание жить. Его трагический уход из жизни 25 июля 1968 года друзья поняли и не осудили.
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
При подготовке этого тома к печати редакция сократила отдельные главы, пожертвовав в первую очередь эпизодами слишком «убийственными», где утилитарный подход к природе выглядит вопиюще. Согласовав все купюры с правообладателями книги, издательство пошло на такие сокращения.

ОТ АВТОРА
Есть люди, каждая беседа с которыми оставляет неизгладимый след. Именно таким человеком и был мой учитель, профессор Борис Михайлович Житков. Когда я поступил в Московский университет, он читал нам курс зоологии позвоночных, много писал научных и научно-популярных статей и книг и как-то совсем незаметно, но в то же время серьезно руководил работой многих студентов и даже их жизнью.
— Знаете, друзья, — однажды во время беседы обратился он к нам, — за свою жизнь я написал много полезных книг, но интересно, что только с тех пор, как мой однофамилец Борис Житков издал свои увлекательные рассказы, я стал пользоваться особенной популярностью. Года два тому назад меня остановил в нашем дворе маленький мальчуган. «Это ты написал о слонах?» — спросил он, глядя в упор. «Нет, это другой Житков», — пояснил я. Одно мгновение, казалось, мальчуган был озадачен моим ответом. «Но ты Житков?» — наконец спросил он. «Да, Житков». — «И Борис?» — «Да, и Борис», — ответил я. «Ну, если ты Житков и Борис — значит, это ты написал о слонах», — безапелляционно заявил он. После этого случая моя популярность растет с каждым днем. «Вот тот Житков, который написал о слонах в Индии», — показывают уже все дети Зубовского бульвара, когда я там появляюсь.
Этот маленький эпизод из жизни старика профессора, рассказанный нам между прочим, также не пропал бесследно. Я понял, что необходимо уметь писать не только научные, но и научно-популярные книги. Ведь их прочтет и оценит не узкий круг специалистов, а масса людей, причем людей самых разнообразных профессий и возрастов. И хотя я не писатель, а научный работник, но, любя науку и вспоминая слова своего учителя, в этой книге я решил в доступной форме изложить те наблюдения над животными, которые вошли в мои научные работы.

ЮНОСТЬ
ВСТУПЛЕНИЕ
Мое раннее детство протекало в Ленинграде. Когда наступало лето, наша семья выезжала на дачу в Мартышкино, но жизнь за городом почти изгладилась из моей памяти. Из нее я хорошо помню только отдельные моменты. Как-то в воскресный день мы с отцом, вооружившись сачком и банками, отправились к небольшому пруду и, ловя тритонов и карасиков у провели на его берегу большую часть дня. Эта маленькая экскурсия живо сохранилась в моей памяти. В тот день я впервые услышал пение полевого жаворонка. Он взлетел недалеко от меня из травы, поднялся в голубую высь, и в течение долгого времени оттуда лилась чудная песня — ей, казалось, не будет конца.

Много времени прошло с того дня, но и сейчас я вспоминаю ее, и когда бываю весной в поле, вслушиваюсь в звуки, знакомые мне с детства, и пытаюсь отыскать в голубом небе маленького певца. Несравненно лучше я помню свою жизнь в городе. Мне вспоминаются скучная осень и сырая зима, небо, вечно затянутое серыми тучами, как сквозь сито моросит мелкий дождь, плачут окна. Тускло было на улице, но дома я не скучал. Усевшись на кушетку, часами я перелистывал толстые книги, рассматривал картинки и мысленно уносился на далекий юг, где, по моим понятиям, вечно блистало яркое солнце на голубом небе. Однажды отец приобрел десять томов Брема, и эти книжки с изображением разнообразных животных как-то сами собой перешли в мою собственность и вскоре стали для меня самой большой драгоценностью. Совсем недавно мне попала в руки моя детская тетрадка с наклеенными картинками. Она оказалась заполненной всевозможными зверями и птицами. Этим я хочу сказать, что уже в раннем детстве больше всего меня интересовали животные, их повадки и образ жизни. Приезд к нам моего деда сделал мою жизнь еще более интересной. В то время ему было семьдесят лет. За свою жизнь дед — большой любитель природы — много путешествовал и охотился на разнообразных животных. С его приездом в нашей квартире появились чучела белых цапель, уток, фазанов и мелких птичек, перья которых отливали всеми цветами радуги. Эти птицы были собраны самим дедом во время его интересных и долгих поездок. Переходя от одного чучела к другому, я не мог оторвать глаз, сравнивал их с рисунками в своих книгах, расспрашивал деда.
Но не только чучела птиц привез с собой дед. Из своих вещей он извлек большую шкатулку. Она оказалась заполненной всевозможными мелкими предметами. Здесь были ржавые наконечники стрел, древние монеты, каменные изображения людей, окаменелые раковины и куски дерева. Все это, по словам деда, он сохранил на память. Смысл сказанного я понял несколько дней спустя.
Однажды вечером, когда в комнате запылал камин, дед уселся против него в широкое кресло и поставил на пол свою большую шкатулку. Откинув крышку и вынув из шкатулки один предмет, он с любовью осмотрел его со всех сторон, потом устремил свой задумчивый взгляд на огонь и, держа в руке невзрачную вещицу, начал свой долгий, интересный рассказ. Но он рассказывал не только о том предмете, который лежал у него в руке, — с ним была связана часть его жизни, проведенной в путешествиях. В первый вечер дед достал маленькую коробочку со странным засушенным насекомым и рассказал нам о песчаных пустынях, где беспощадно палит солнце, где к самому небу поднимаются смерчи. В следующий вечер маленькая трубка, искусно вырезанная из кости моржа, перенесла нас на далекий восток. И перед нашими глазами одна за другой вставали неведомые картины: беспокойное море, мелкие скалистые острова, занятые птичьими базарами, парусное судно, скрипящее и плачущее на все лады даже при небольшом ветре.
И так долгими зимними вечерами по рассказам деда я познакомился с многообразной природой нашей Родины, а затем и с жизнью тех изумительно ярких тропических птиц, чучелами которых были завешаны наши комнаты.
Потом наступила другая пора в моей жизни.
Из многолюдного, большого города наша семья переехала на маленькую железнодорожную станцию, затерянную в степях Нижнего Поволжья. И тогда я изо дня в день непосредственно соприкасался с природой и полюбил ее всеми силами детской души. Много времени прошло с тех пор, но и сейчас я вспоминаю эту полосу своего привольного детства. Вот в моей памяти со всеми подробностями встает небольшой железнодорожный поселок — Ахтуба. Среди безбрежных степей ахтубинские сады были настоящим оазисом — весь железнодорожный поселок утопал в зелени. Белые акации, сирень, черешни, вишни и яблони скрывали здания, их ветви настойчиво лезли в окна.
Как любил я наш большой запущенный сад! Зимой я проводил в нем целые дни, и меня не тянуло за его пределы. Весь сад граничил с унылой, то серой, то покрытой белой пеленой степью. На юг и восток она уходила до самого горизонта и в то время казалась мне бесконечной. Непривлекательна была степь зимой. Зато как великолепен был сад! Иной раз ветви деревьев покрывались пушистым инеем, среди них алела грудка снегиря, где-то по стволу дерева деловито стучал дятел. А вечером сотни ворон и галок собирались на высоких акациях, и нестройный гомон голосов ночующей стаи проникал в самые отдаленные уголки нашей просторной квартиры.
Но и тогда я особенно любил весну и с нетерпением ждал, когда пройдет зима, когда наступит это чудное время года.
Вот весенний беспокойный ветер качает еще обнаженное дерево, а на его ветви, вздрагивая крылышками, поет скворец.
Холодно еще, неприветливо, а прилетевший скворушка поет с увлечением.

В его пении вы услышите кряканье утки, крик галки, скрипение немазаного колеса. Жадно вслушиваюсь я в эти нестройные звуки, узнавая в прилетевшем скворушке по манере петь старого знакомца. Второй год он прилетает в наш сад ранней весной и выводит птенцов в дупле тополя.
Еще пройдет неделька-другая — и степь покроется нежной молодой зеленью, а сад побелеет от цветущих фруктовых деревьев. На смену им зацветут сирень и белая акация, и тогда просторные комнаты нашего дома наполнятся пряным, одуряющим запахом.
Что сравнится с весной?
Весна была для меня самым большим праздником, и не только потому, что оживала природа, но и по той причине, что весна сулила мне интересные поездки с отцом на охоту и рыбную ловлю, далекие походы в степь за тюльпанами и новых питомцев. Уже в то время я привык видеть в нашей квартире всевозможных животных. Большая вольера с канарейками стояла в одной из комнат; на окнах помещались аквариумы с рыбками. Но яркие канарейки — любимицы моей матери — и красные рыбки со свисающими хвостами и выпученными глазами не привлекали моего внимания. Веселый, бойкий скворец, наш воробей и зубастый хищник — щуренок значительно больше нравились мне; жизнь их меня особенно интересовала. Выпавшие случайно из гнезд скворчата, молодые сорокопутики и птенцы других птичек неизменно весной попадали в нашу квартиру. Их вскармливание и воспитание занимало все мое время и делало мою жизнь осмысленной и интересной.
«Что может быть лучше, интереснее ручной зверушки или пичуги!» — думал я в детстве. И если моих сверстников-мальчуганов интересовали заводная машина, подводная лодка или волшебный фонарь, то эти пахнущие свежей краской яркие игрушки привлекали мое внимание лишь на самое короткое время.
— Кому что, а курице просо, — посмеивались надо мной в семье, когда в нашей квартире появлялось новое животное. Эти слова были сама истина. Кому что, а для меня в то время зверек или птичка были самым лучшим, самым дорогам подарком. Никогда не забуду одного дня в моей жизни. Из соседнего поселка как-то к отцу приехал сельский учитель. Он долго сидел у отца в кабинете, а затем вышел в столовую и, увидев меня, протянул мне картонную коробку. «Это тебе», — сказал он между прочим и спустился с крыльца во двор, где стояли его дрожки. В крышке коробки было пробито много отверстий; я сразу сообразил, что в ней какая-то живность. Но то, что я нашел в ней, превзошло все мои ожидания. В коробке сидел маленький живой зверек — тушканчик. Для меня это был ни с чем не сравнимый, драгоценный подарок.
В дальнейшем этот тушканчик стал совершенно ручным и, пользуясь моей заботой, прожил в нашей семье, вероятно, значительно дольше, чем живут эти грызуны на свободе. Спустя год в маленькой транспортной клетке, специально изготовленной моим отцом, он совершил переезд в Москву, а затем в Иркутск, где около шести лет жил на полной свободе в нашей квартире. Будучи настоящим ночным животным, дневные часы он неизменно проводил, свернувшись в комочек, в той самой клетке, которая была сделана для его перевозки.
Множество и других зверушек и птиц перебывало у меня в детские годы.
О них я смог бы написать большую книгу, но, обдумав, решил отказаться от этого. Слишком однообразны показались бы читателям мои рассказы, и поэтому я остановлюсь на поступках и поведении только немногих живших в неволе животных.
Свои рассказы я начну с описания простеньких случаев, которые произошли в моем детстве.
Глава первая
ОПАСНОЕ СОСЕДСТВО
Содержание мелких птиц в квартире, где живет домашняя кошка, небезопасно. Ведь кошка — настоящий хищник, и заставить ее отказаться от своих хищнических наклонностей чрезвычайно трудно. Как бы умна и воспитанна ни была кошка, ваши птицы всегда будут под угрозой смерти. В этом я убедился в самом раннем детстве, когда наш общий любимец, лентяй и неженка кот Васька задушил одну из моих египетских горлинок, как только она вылетела из клетки в комнату. Пока горлинки сидели в клетках, кот не обращал на них никакого внимания и этим усыпил нашу бдительность и осторожность. Это был для меня жестокий, но хороший урок, и в Ахтубе, где в нашей квартире обитали птицы, кот Васька не допускался в комнаты. Он жил в кухне и вел себя, как подобает хорошему и благовоспитанному коту. По словам моей няньки, он недаром ел хлеб — добросовестно вылавливал мышей. В свободное время кот спал на печке, а когда я забегал на кухню и гладил его выхоленную, блестящую шкурку, он терся ухом об руку и мурлыкал что было мочи. Но разве можно вполне доверять кошке? Собаке можно вполне верить, но кошке… Не было доверия у меня и к Ваське. Мне казалось, что под его привлекательной внешностью скрывается большой разбойник, гроза и истребитель всего живого.
В те дни, когда выпадал снег и почва покрывалась сплошным белым ковром, я неоднократно находил в саду Васькины следы. В виде ровной цепочки они уходили в отдаленные уголки сада и здесь прихотливо извивались среди густой сирени и малинника. «Что он тут делает? — думал я. — Наверное, ничего доброго, иначе он не вел бы себя таким образом, как это было несколько дней тому назад». Я осторожно шел по следам Васьки и на белом фоне заметил его издали. Он, как настоящий дикий зверь, затаился среди торчащей из-под снега желтой травы и неподвижными глазами следил за мной. Когда же я подошел к нему на несколько шагов и позвал его по имени, он выскочил из своей засады и как сумасшедший пустился к дому. Так мог убегать только застигнутый врасплох разбойник, опасаясь за свою шкуру. Однако с тех пор прошло много времени, пока наконец ловкий Васька не попался на месте преступления. Вот как это случилось.
Было чудное летнее утро. Рано проснувшись, я вышел на веранду и, ежась от утренней прохлады, остановился на верхних ступенях. Как великолепен был цветущий сад, залитый косыми и пока почти не греющими лучами солнца! Да, хорошо было кругом, и я был готов присесть на залитые солнцем ступени, как какие-то странные звуки заставили меня насторожиться. Это кричали знакомые мне птицы, но их тревожные голоса были так необыкновенны в тишине раннего утра. Желание понежиться на солнышке как рукой сняло; вслушиваясь в доносившиеся издали голоса птиц, я быстро пошел в глубину сада.
Вот кончились редкие яблони, окруженные широкими лунками, вот и край огорода с кукурузой и подсолнухом, а далее за ним — высокий дощатый забор и деревянный желоб, по которому с журчанием стекает вода в канавы сада. В этом сыром и прохладном уголке среди густой бузины и цветущей белой акации высоко поднимался погибший тополь. Дерево давно перестало жить. Местами его кора упала на землю, местами висела лохмотьями, обнажая источенный насекомыми ствол; немногие сохранившиеся голые ветви неуклюже торчали далеко в стороны. Отжившее уродливое дерево давно пора было срубить на топливо. Но мы медлили.
Жалко было расстаться со старым тополем, своим уродством придававшим своеобразие этому уголку сада. В дуплах тополя, кроме того, постоянно гнездились скворцы, полевые воробьи и еще какая-то птичка. И вот на этом-то тополе, высоко над землей, я и увидел — кого бы вы думали? — нашего Ваську. Видимо не подозревая о близости человека и мало обращая внимания на жалобные крики птиц, он деловито и бесцеремонно хозяйничал на дереве. Крепко держась на стволе тремя лапами, правую до самого плеча он засовывал в дупло дерева. Когда же лапа появлялась наружу, за ней из дупла тянулись клочья гнездовой подстилки.

Я отыскал среди валежника сухой сук и двинулся к дереву. В этот момент Васька извлек из дупла целое гнездо птицы, но, заметив меня, бросил свою добычу. В следующий момент, растопырив задние лапы, он повис в воздухе, крякнул, шлепнувшись об землю, и стремглав бросился к дому.
— Ах ты, разбойник! — пустил я ему вдогонку тяжелый сук и поспешил к дереву. Под ним среди соломы, ваты и перьев наших кур и индеек я нашел четырех мертвых и одного живого, совсем маленького и голого воробьенка.
Каким-то чудом он остался жив, упав вместе с гнездовой подстилкой с высокого дерева.
Так попал к нам крошечный и беспомощный воробьенок, долгое время проживший у нас и получивший имя Малюська. С этого момента, в сущности, и следовало начать этот рассказ, если бы коту Ваське не пришлось фигурировать и в дальнейшем.
Воробьев знают положительно все. Однако и о них кое-что сказать можно. В нашей средней полосе воробьи представлены двумя легко отличимыми друг от друга видами. К первому относится крупный домашний воробей. Самец этого вида окрашен значительно ярче, чем серенькая и невзрачная самочка. Обитает он у жилья человека, устраивая свои гнезда под крышами зданий. Но в такой же обстановке вы можете встретить так называемого полевого воробья. От домашнего он отличается меньшим ростом, более яркой окраской и отсутствием разницы в оперении самца и самки. Полевой воробей, хотя и часто поселяется под крышами человеческого жилья, явно тяготеет к большим паркам, лесам и полям. Здесь он селится то в древесных дуплах, то в норах, выкопанных другими птицами в обрывистых берегах рек и в оврагах. Воробушек, о котором я сейчас расскажу, принадлежал именно к этому виду.
Выкармливать крошечного и совершенно беспомощного воробьенка, во всяком случае первое время его жизни, очень трудно. Для этого нужны любовь и много терпения. Ведь глупые птенцы в самом начале неволи никак не желают открывать свои рты, и их приходится кормить насильно. Попавший мне в руки воробьенок был так мал и слаб, что я не решился взять его на свое попечение и отнес к матери. В моих глазах она была большой специалисткой в этой области. Несчастный воробьенок попал в надежные руки. Первое время наш новый питомец был настолько мал и уродлив, что мы, дети, не проявляли к нему большого интереса. Но не прошло и недели, как веселое и настойчивое чириканье с раннего утра оповещало весь дом о его существовании. Он уже не лежал в коробочке с ватой, а с самого утра усаживался на ее край и оживленным чириканьем требовал пищи. Когда же на него обращали внимание и приближались с кормом, он широко открывал рот с желтыми краями и трепетал своими еще плохо оперенными крылышками. Уже в этом раннем возрасте таким поведением он отличался от птенцов живших у нас канареек. Каждый год они выводились в специальных клетках, под присмотром моей матери. Одетые в яркое желтое и пестрое оперение, птенчики канареек были замечательно привлекательны, но в этих настоящих домашних птичках как-то не чувствовалось жизни. И разве их можно было сравнить с крошечным, но бойким полевым воробьенком, в глазах у которого уже тогда светились какой-то особенный задор и неисчерпаемый запас жизненной энергии. За день он съедал большое количество нарезанного мелкими кусочками сырого мяса, вареного яйца, намоченного в молоке белого хлеба и рос с поразительной быстротой. Еще десяток дней, и наш смешной воробьенок покрылся перьями и научился пользоваться своими крыльями. Вот с этого момента и проявился его общественный нрав. Он не желал оставаться в комнате в одиночестве и, с чириканьем перелетая с одного предмета на другой, следовал за матерью по всей квартире. Но интересно, что только к своей воспитательнице юный воробьенок проявлял привязанность и, напротив, настороженно и недоверчиво относился к нам, детям. Это не нравилось нам, и мы, вместо того чтобы завоевать доверие птицы, по своему детскому легкомыслию стали дразнить воробьенка при всяком удобном случае. Сердясь же, воробьенок вел себя так комично, что это доставляло нам большое удовольствие.
Утро. На просторной, выходящей в сад веранде накрыт стол — мы пьем чай. За столом присутствует и наш Малюська. Взъерошенный, с желтыми краями рта и коротким хвостом, он сидит на углу стола около матери и при каждом ее движении оттопыривает свои короткие крылышки и, чирикая, просит есть. Время от времени ему в рот попадают маленькие кусочки сырого мяса. Проглотив их, он умолкает, но только на самое короткое время, и вновь начинает чирикать и, склоняя голову набок, заглядывать в глаза матери. Сколько в каждом движении птицы-малютки доверия к человеку-другу! И как же велика разница в отношении того же воробьенка к нам, жестоким детям! Достаточно, например, мне протянуть к воробьенку руку и дотронуться до его хвоста, чтобы в одно мгновение нарушилась мирная обстановка. Воробьенок плотно прижимает к телу свое распущенное оперение, в его маленьких глазах вспыхивает недобрый огонек, и с неистовым чириканьем он бросается на мою руку. Сколько ожесточенных, но, увы, безболезненных щипков и укусов! «Зачем дразнить птицу?» — с укором говорит мне мать. «Да ведь я этому злюке ничего не сделал», — оправдываюсь я.
Вскоре, однако, наш воспитанник заслужил прозвище Забияка. У нас давно жил старый охотничий пес — ирландский сеттер. Звали его Маркиз. Он был настоящей рабочей собакой, в болоте ловил утят, быстро отыскивал и подавал другую дичь, но в домашней обстановке его добродушию, казалось, не было предела. «Мухи не обидит», — говорил про него мой отец. И действительно, Маркиз был таким. Долго живший у нас бескрылый перепел без опасения вскакивал на спящую собаку, чтобы отбить свою звучную песню. Лишь изредка в таких случаях Маркиз нехотя поднимал голову. Чтобы доказать добродушие нашего Маркизки, мы, дети, иногда всовывали ему в рот маленького домашнего утенка. И каждый раз умная собака осторожно выталкивала изо рта языком живой комочек, не причинив ему никакого вреда. Да, Маркиз был умная, добрейшая собака. И вот, представьте себе, наш общий любимец неожиданно для всех попал в немилость к воробью-забияке. Как и прочие животные нашего дома, Маркиз был сильно привязан к моей матери. Ежедневно в конце обеда он подходил к ней и клал свою большую голову ей на колени. Ведь после обеда оставались вкусные вещи, на которые Маркизка был вправе рассчитывать. Если на него долго не обращали внимания, он напоминал о себе тяжелым вздохом.
В тот день, как и обычно, он приблизился к моей матери, но вдруг, к своему недоумению, был встречен воинственным натиском маленького воробьенка. Наш дружный смех окончательно обескуражил старую собаку. Мы очень любили доброго пса, но разве можно было не смеяться, наблюдая эту сценку! Вздорная птица смело бросилась на собаку, как только ее голова опустилась на колени к хозяйке. Вероятно, воробьенку на этот раз успешно удалось применить свой клюв, так как Маркиз сильно затряс головой, сбросив этим движением своего врага на пол. При этих условиях другая собака, конечно, воспользовалась бы удобным случаем и отплатила бы своему обидчику. Но великодушный Маркиз не сделал этого. Издали с удивлением и некоторой опаской он обнюхал воробья, большая злость которого так не соответствовала его маленькому росту. Стоит ли большой, умной собаке обращать внимание на вздорную крошку? Однако этот случай не прошел бесследно. В дальнейшем Маркиз не решался подходить к хозяйке, когда около нее вертелся воробей-забияка. Так постепенно смешной воробьенок, обладающий неутомимой энергией и большой смелостью, завоевал в нашем доме если не всеобщую любовь, то, во всяком случае, всеобщее уважение. Он продолжал оставаться на полной свободе и большую часть дня проводил в саду около дома. Но достаточно было позвать его по имени или собраться нашей семье за накрытым столом на веранде, как среди нас тотчас появлялась веселая птица.
Мне вспоминается множество маленьких происшествий, связанных с ручным воробьенком.
— Опять ваш воробей чашку разбил и в молоке выкупался — оставить ничего нельзя, — ворчала няня. — Уж лучше бы Васька тогда съел этого вора; мало канареек, что ли, — воробья завели, житья от него нет никакого.
Далекие прогулки ручного воробья не очень нравились нам. Особенно беспокоило частое появление ручной птицы около кухни, где она могла легко стать жертвой кровожадного кота Васьки. Но ведь после упомянутого столкновения воробья и собаки Маркиз как будто боялся злой птицы. Не попробовать ли и Ваську заставить бояться смелого воробьенка — тогда наш питомец будет в безопасности. И вот бедный Васька в течение ряда последующих дней подвергся безболезненной, но очень неприятной дрессировке. Взяв кота на руки и одерживая его страшные для всего живого передние лапы, мы подносили его к ручной птице. Сначала воробей остерегался незнакомого зверя и держался от него поодаль. Когда же это ему надоело, ой вдруг осмелел и с чириканьем бросился в самую морду коту. Васька жмурил глаза, злобно шипел и рвался на волю. Уже на другой день, как нам тогда казалось, мы достигли желаемых результатов. Кот, посаженный рядом с воробьем, сердито урча, осторожно попятился назад, а затем опрометью бросился из комнаты. Его поведение явно показывало, что столкновение с птицей не доставляет ему ровно никакого удовольствия.
Настала осень. Один за другим потянулись тихие, то ясные, то серые и сырые дни. Пожелтели, потемнели листья. Они отрывались от дерева, несколько мгновений качались в воздухе и с шелестом опускались на землю. По утрам как-то особенно пахло прелым листом, тревожно перекликались какие-то птички. Мне нравилась эта грустная осенняя тишина, и большую часть дня я проводил в нашем саду. Однажды я возвращался домой из сада и только хотел подняться на террасу, как случившееся заставило меня застыть на месте. Издав тревожный крик, с крыши сорвался наш ручной воробей и стремглав нырнул в густой куст сирени. В тот же момент, как стрела, воздух прорезала довольно крупная птица, но, не сумев пробиться в глубину того же куста, уселась в средней его части.

«Ястреб, не поймал», — мелькнула у меня мысль, и я бросился на выручку воробьенку. В ту же секунду проворный ястреб-перепелятник метнулся в сторону и, вызывая панику среди других воробьев и домашних кур, как страшная тень, низко скользнул сквозь сад и исчез за широким двором. Как зачарованный, я стоял на месте и глазами следил за улетающей хищной птицей. Громкий писк воробьенка вернул меня к действительности. Не замечая меня, под кустом орудовал кот Васька. Засовывая лапу в самую гущу ветвей сирени, он пытался извлечь оттуда нашего бедного воробья Малюську. Через мгновение воробьенок был в моих руках, а Васька улепетывал к кухне.
Все кончилось благополучно. Осмотрев напуганного воробьенка, я не нашел ни единой ранки. Только вырванные перья свидетельствовали о том, что он чуть не стал жертвой хищника. Как я тогда ненавидел Ваську!
— Ну чем же виноват Васька? — успокаивал меня отец в тот вечер. — Ведь кошка — прирожденный хищник, не заставишь ты ее есть траву и не обращать внимания на мышей и птиц.
Глава вторая
СИВКА
В километре от станции Ахтуба протекал рукав Волги. В его пойме водилось много уток и куликов, встречались долговязые цапли и другие птицы, в том числе замечательно красивые, величиной с нашу галку, сизоворонки. Их нарядное оперение из сочетания голубовато-зеленого и коричневого цветов под лучами южного солнца казалось особенно ярким.
Птицы гнездились в степных оврагах и в обрывистых берегах реки, где выкапывали глубокие норы, или заселяли дуплистые ветлы, поднимавшиеся среди речного разлива.
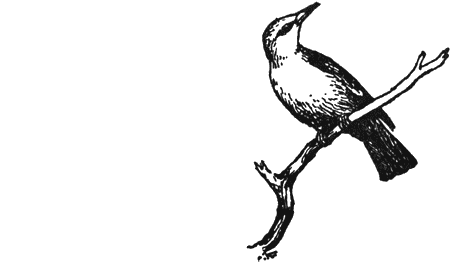
Когда я впервые увидел сизоворонку, она поразила меня своей окраской. Ведь по яркости оперения она, конечно, не уступала тропическим птицам. «Зачем мечтать о ярких попугаях, — думал я, — когда под боком есть такие красивые птицы?» И вот я решил достать для себя живую сизоворонку. В то время мы почти каждый день ходили на реку ловить рыбу, и там я исподволь стал присматриваться, куда залетали интересующие меня птицы. Вскоре мне удалось установить, что пара сизоворонок угнездилась в норе берегового обрыва. По моим расчетам, до этой норы можно было добраться.
Достав сачок и насадив его на длинную палку, я решил им закрыть нору с таким расчетом, чтобы вылетевшая птица попала в сетку. Уже сильно стемнело, когда я с сачком в руках осторожно подкрался сверху к обрыву, улегся на живот и прикрыл сачком выходное отверстие. Проделав это, я был уверен, что не пройдет и пяти минут, как прекрасная птица забьется в сетке. Но прошло пять, десять, двадцать минут, а этого не случилось. Лежа на животе и продолжая держать сачок, я ногами стучал по земле в надежде выгнать из норы птиц, но, увы, безуспешно. Руки мои устали, и, решив, что птицы ночуют в другом месте, я поднял и положил около себя сетку. В тот же момент из норы вылетела сизоворонка и с криком скрылась в вечерних сумерках. Представьте же мою досаду! Как я себя ненавидел за нетерпение и поспешность! Изругав себя, я решил в дальнейшем быть более терпеливым. Но, увы, слишком поздно — мне не удалось поймать сизоворонку. Напуганные птицы стали крайне осторожны и вылетали из норки, как только я приближался к обрыву. До сего времени не могу понять, как они могли слышать мое приближение. Ведь я, как мне казалось, подходил бесшумно.

Прошло месяца полтора, и наконец, несмотря на ряд неудач, мое желание исполнилось.
Однажды поселковые ребята принесли нам маленького птенца сизоворонки. Он был как-то особенно уродлив и отличался крикливостью и прожорливостью. Достаточно было войти в комнату, где помещался пленник, как он начинал громко кричать, требуя пищи. Кусочки сырого мяса, лягушата, дождевые черви — все это поедалось ненасытным птенцом в большом количестве. Зато рос он очень быстро, покрывался яркими перьями и вскоре научился летать.
Птенцу была предоставлена полная свобода. Наевшись, он обычно усаживался в саду на сухую ветвь акации, растущей против балкона, и сидел там до тех пор, пока не чувствовал нового приступа голода. Тогда он принимался разыскивать людей, появлялся на террасе или через открытое окно влетал в комнату. Усевшись на первое удобное место, будь то спинка стула, плечо или голова человека, птенец начинал кричать, требуя пищи. Отделаться от его настойчивых криков можно было, только сунув ему в рот несколько кусочков сырого мяса. С жадностью проглотив пищу, птенец взъерошивал перышки, оставался короткое время неподвижным, видимо наслаждаясь чувством сытости, затем бесцеремонно здесь же оставлял свою «визитную карточку» и через открытое окно улетал в сад на ту же сухую ветку. Здесь он предавался отдыху и переваривал съеденное, пока новый приступ голода не заставлял его вновь искать людей. Вскоре наш противный, крикливый и надоедливый птенец превратился в красивую взрослую птицу. Мы прозвали ее Сивкой.

Чем старше становилась Сивка, тем больше она нуждалась в движении. Иной раз поднимется высоко в воздух, полетает над садом и усядется на самую вершину пирамидального тополя. Бывали и такие случаи, что после полета кругами у дома Сивка направлялась в степь и, пролетев с полкилометра, садилась на телеграфную проволоку.
Там уже она сталкивалась с дикими сизоворонками. «Неужели улетит?» — замирало в страхе мое сердце. «Наверное, улетит», — отвечал я на свои мысли. Конечно, я мог бы водворить Сивку в пустую комнату, заставленную деревьями, и не пускать свободно летать по саду, но лишить нашу птицу свободы мне было жалко. Будь что будет, решил я и не стал об этом думать. А сизоворонка, как будто желая разубедить меня в моих сомнениях, продолжала оставаться такой же ручной и доверчивой. Увидишь ее иной раз на высоком дереве и даже усомнишься, что это наш выкормыш. Такая она красивая, оперение гладкое, к телу плотно прилегает, и ведет она себя как настоящая дикая птица — сидит на дереве и зорко следит за всем окружающим. «Сивка!» — закричишь на весь сад, с уверенностью, что эта случайно залетевшая дикая птица улетит сейчас подальше от беспокойного места. И вдруг видишь, что это действительно Сивка. Сидя на дереве, она откликнется своим коротким, грубым криком, а затем, блестя на солнце яркими крыльями, мелькнет в воздухе и усядется на руку. Только не стала Сивка любить, чтобы ее руками трогали. Толкнешь ее пальцем, а она своим сильным клювом больно за палец хватит, но смотрит на вас так же доверчиво, как и раньше, когда была уродливым птенчиком. Ну разве хватит силы лишить такую птицу свободы?
Но вдали от дома Сивка была так же осторожна, как и ее дикие родственники. Завидит, бывало, издали гурьбу ребятишек, насторожится и сразу же расправляет крылья. Спугнутая, она летела прямо в наш сад, считая его своим домом. Так эта ручная сизоворонка жила в нашем саду все лето. Еще задолго до наступления осеннего ненастья Сивка исчезла. Ее искали, звали, но безуспешно. А тут начали желтеть листья в саду, по степи побежали лохматые комья перекати-поля, в небе загоготали гусиные стаи, закурлыкали журавли. И, наблюдая грустную картину осеннего отлета, мы поняли, куда девалась наша Сивка.
Южная зима длится недолго. На смену зимнему ненастью пришло веселое время — весна. Снег стаял, серая степь вновь покрылась молодой зеленью и тюльпанами. Появились первые табунки пернатых странников. К северу тянулись крикливые вереницы гусей, летели кулики и чайки. Птицы спешили на родину, наполняя степной воздух веселым гомоном.
Однажды утром нас с братом разбудил голос няни: «Вставайте, дети, скорее — Сивка прилетела!»

Мы мигом оделись и выскочили на балкон. В зазеленевшем саду на привычном месте — сухой ветке белой акации — сидела наша любимица. Мы стали звать ее: «Сивка, Сивка!» Красивая, яркая птица легко соскользнула с ветки, подлетела к нам совсем близко, но не решилась, как прежде, сесть на руку и вновь вернулась на ветку. Сизоворонка одичала, отвыкла от людей. В течение дня она несколько раз влетала через окно в комнаты, но тотчас вылетала наружу.
Перелетные птицы обладают исключительной способностью находить те места, где протекла их жизнь. Улетая на зиму иногда за тысячи километров, они возвращаются весной к месту и даже к дереву, на котором они выросли. В этом отношении память у птиц замечательно развита. Таким образом, в возвращении сизоворонки в наш сад нет ничего особенного. Она вернулась на свою родину, на ту самую сухую ветвь акации, где она привыкла сидеть еще желторотым птенцом. Другое меня удивляет. Как могла птица так долго оставаться доверчивой к людям, которые ее выкормили? Из моей большой практики это единственный случай.
Сивка прожила в нашем саду недолго. Несколько дней она продержалась возле дома, влетала в комнаты, садилась на перила балкона рядом с нами, но затем вдруг исчезла. Вероятно, ручную птицу потянуло к собратьям.
Глава третья
ФОМКА
Мой брат и его закадычный друг — сын школьного учителя Петька — готовились к сдаче экзаменов. Каждый день к девяти часам утра Петька являлся к нам и вместе с братом просиживал в кабинете отца часов до одиннадцати. В одно позднеосеннее утро, о котором я сейчас расскажу, Петька прибежал к нам особенно рано. Войдя в столовую, где вся наша семья собралась к утреннему чаю, он сообщил, что ему сегодня принесли живого и вполне здорового лесного кулика — вальдшнепа. Живой вальдшнеп, и в руках Петьки — это для меня было невыносимо. Достать живого и здорового вальдшнепа уже давно было моей заветной мечтой. Но осуществить свою мечту мне не удавалось. Желая доставить мне удовольствие, один из знакомых охотников как-то принес вальдшнепа-подранка. Но лучше бы он этого не делал. Крыло птицы, перебитое у самого основания дробью, сильно распухло, и вальдшнеп спустя два дня погиб от гангрены. Гибель его была для меня настоящим горем. И вдруг живой и здоровый вальдшнеп у Петьки! Если бы это сообщение я услышал от другого мальчика, то, конечно, принял бы все меры, чтобы приобрести птицу в свою собственность. Но это был Петька — сегодня он сознательно прибежал особенно рано только для того, чтобы подразнить меня и вызвать во мне зависть. «Зачем ему вальдшнеп? Он не уделит ему и минуты своего времени, и несчастная птица погибнет с голоду. Эх, если бы он отдал мне этого вальдшнепа!.. Но разве Петька способен на такой поступок?» Ненавидя Петьку в тот момент, я чуть не заплакал. Надо сказать, что в школе был небольшой живой уголок, где Петька и брат сообща содержали кое-каких животных.
Сразу после чая оба мальчугана скрылись в кабинете отца, а я оделся и ушел в сад. В тишине нашего запущенного сада я легче переживал свои детские невзгоды.
Было тихое осеннее утро, низко висело серое небо, от земли поднималось теплое испарение, пахло прелым листом. Я вышел на одну узкую тропинку и незаметно для себя очутился в отдаленной и глухой части сада. Здесь тропинка прихотливо извивалась среди крупных и густых кустов сирени и желтой розы. На одном из поворотов мой рассеянный взгляд неожиданно наткнулся на что-то странное. Я вздрогнул и сосредоточил внимание. Совсем близко от тропинки, рядом с полусгнившим пеньком яблони, среди поблекшей сырой листвы неподвижно сидела крупная темная птица. Окраска ее спины со струйчатым рисунком почти сливалась с окружающим фоном, длинный клюв наискось опускался до самой земли, а чудные, крупные глаза внимательно следили за моими движениями. Я замер на месте — это был вальдшнеп. Завидев меня, он лишь плотнее прижался к почве и остался неподвижным. Птица подпустила меня так близко, что, сделав вперед два шага, я смог бы попытаться схватить ее рукой, но на это я не решился. Уже тогда я хорошо знал, что вальдшнеп, подпуская к себе на самое близкое расстояние, способен быстро и ловко взлететь в воздух в вертикальном направлении. Я боялся риска. Не делая резких движений и не производя шума, я осторожно попятился назад и, как только скрылся за ближайшим кустиком, опрометью бросился к дому.

Я решил попытаться поймать вальдшнепа при помощи сачка, насаженного на длинную палку. Но я обыскал комнаты, кладовую, слетал на чердак, а сачка, как назло, нигде не было. Потеряв около четверти часа, я нашел его наконец, но — о несчастье! К длинной палке был прикреплен только металлический остов — кто же сорвал сетку? Но я не мог терять времени. Ведь живой вальдшнеп не будет оставаться на одном месте так долго. Заменив сетку куском кисейной занавески, я бросился по знакомой тропинке к месту, где оставил птицу. Я почти не надеялся, что найду ее, и как же велика была моя радость, когда я вновь увидел вальдшнепа! Он продолжал сидеть в той же позе и черными, влажными глазами смотрел в мою сторону. Тихо опустился я на колени и стал осторожно над самой землей подвигать сачок вперед — все ближе и ближе к сидящей птице. Вот сачок возле самого вальдшнепа, а он продолжает оставаться на месте. Еще секунда мучительного напряжения, и, сделав резкий бросок вперед, я накрыл вальдшнепа. Но что за странность? — пойманная птица почти не билась. Трясущимися руками я вытащил ее из-под сачка, и только тогда мне стала ясна причина странного ее поведения. Вальдшнеп был худ, как щепка.
Для того чтобы его поймать, не нужно было сачка на длинной палке и особенных предосторожностей. Вальдшнеп оказался так истощен длительным голоданием, что все равно не в силах был подняться на крылья.
Каждый год вальдшнепы появлялись в нашем саду поздней осенью. Как оазис среди бесплодной степи, их привлекали сады Ахтубы. Иной раз их встречалось так много, что в одном нашем саду я поднимал их за день более десятка. Как мне нравилось в то время находить птиц! Ведь уже тогда я не случайно натыкался на них, а отыскивал, пользуясь своим опытом. Для меня было ясно, что вальдшнеп, перелетев через бесплодные степи, нуждается в обильной пище. И в первую очередь ему нужны дождевые черви. Но эта пища доступна для вальдшнепа далеко не всюду. Отыскивает ее вальдшнеп своим длинным, чувствительным клювом, засовывая его в сырую почву. Мягкая, сырая почва во всякое время года необходима для благополучия птицы. И вот в поисках вальдшнепа я осторожно исследую окраины огорода, где к нему примыкают кустарники, или бесшумно двигаюсь вдоль длинного, пересекающего сад деревянного желоба. По нему летом текла вода и, просачиваясь сквозь рассохшиеся стенки, увлажняла почву. А вот среди густых яблонь стоит наполненная водой большая бочка. Вокруг нее ребята глубоко вскопали землю: это они искали червей для рыбной ловли. Не поискать ли и здесь вальдшнепа? И так, шаг за шагом обследуя участки нашего сада, я поднимал одну птицу за другой. Признаюсь, мои поиски не были вполне бескорыстными. Я мечтал поймать вальдшнепа. И хотя при попытках накрыть птицу сачком меня преследовали неудачи, я все же ни на одну минуту не терял надежды. Вот в глубокой меже огорода среди снятой капусты я нахожу отверстия в почве. Это в поисках дождевых червей вальдшнеп натыкал землю своим длинным клювом. И я, опустившись на колени, устанавливаю своеобразную ловушку. В том месте, где кормится вальдшнеп, я укрепляю на суровой нитке около десятка сухих стебельков с колючим колоском на вершине.

Сколько всевозможных птичек поймал я этим растением! Пристанет колючий колосок к перьям крыла птички, и та не может подняться на воздух. Неужели же я не поймаю этим способом вальдшнепа? Так я думал, ожидая осеннего появления вальдшнепа. Но год этот оказался совсем исключительным. Не случайно пойманный мной вальдшнеп дался мне легко в руки. Под влиянием особенно жаркого лета и сухой осени почва покрылась твердой коркой, дождевые черви ушли глубже и оказались недоступны для пролетной птицы. Сколько погибло в ту осень вальдшнепов — сказать трудно. Истощенные птицы не в состоянии были лететь дальше и массами гибли при выпадении снега.
Когда я нес пойманного вальдшнепа, он несколько раз пытался проглотить маленькую пуговку на моей курточке. Изголодавшаяся птица, видимо, принимала ее за паука или какое-то насекомое. Это заставило меня броситься бегом к дому. Влетев в столовую, я столкнулся с братом и Петькой. Они кончили занятия и собрались выйти на воздух. «Вот», — показал я им пойманную птицу и шмыгнул в комнату матери. Я думаю, что и каждый поступил бы так на моем месте. Ведь я был крайне возбужден и готов со всеми поделиться своей радостью. Но у меня не было времени, чтобы рассказать, как вальдшнеп попал мне в руки.
Но мой поступок поняли совсем иначе. Мальчуганы многозначительно переглянулись, и физиономия Петьки ярко отразила его воинственное настроение. Видимо, только присутствие старших заставило его сдержаться. При иных условиях вальдшнеп был бы у меня отнят. Ведь Петька и мой брат были уверены, что это их птица и что я завладел ею, пользуясь их отсутствием. В следующую минуту мальчуганы, перекидываясь фразами, поспешно бежали через наш большой двор к школе. Вероятно, они спешили выяснить, как их вальдшнеп мог попасть в мои руки. А еще полчаса спустя они принесли мертвого вальдшнепа. В неумелых руках он подох, как только проглотил несколько кусочков сырого мяса. «Разве можно досыта кормить изголодавшуюся птицу?» — с укором сказала им моя мать.
Многие птицы хорошо поют, доставляя этим удовольствие своим владельцам. Ради пения их часто держат в неволе. Но какой интерес держать вальдшнепа, тем более что этот кулик ведет сумеречный и ночной образ жизни? Мой новый питомец был до крайности молчалив и только в минуты беспокойства, да и то не всегда, издавал короткое своеобразное покрякивание. И все же вальдшнеп был для меня во много раз интереснее канареек моей матери, наполнявших весь наш дом своим пением. Я поместил его в светлой пустой комнате. Часть ее пола была устлана душистым сеном, здесь же стояли низкие, наполненные землей ящики с зеленью, вдоль стен и у окна помещались крупные сухие деревья. Помимо вальдшнепа, здесь жил однокрылый перепел, совершенно ручной полевой воробей и две синички.
Наученный горьким опытом, я очень боялся за жизнь своего питомца и при его кормлении первое время придерживался самых строгих правил. Пока вальдшнеп вполне не окреп, я кормил его через каждые полчаса, но давал ему такие маленькие порции сырого мяса, что они не могли утолить голода. С жадностью проглотив крошечный кусочек, птица доверчиво тыкалась своим длинным клювом в мои руки, буквально выпрашивая новую подачку.
Но я был непоколебим в соблюдении правил и спешил уйти из комнаты.
Спустя две недели вальдшнеп стал совершенно ручной птицей. К этому времени я уже отбросил излишние предосторожности и два раза в день кормил его досыта. Фомка — так назвал я своего питомца — отлично знал время кормежки.
Бывало, чуть забрезжит поздний зимний рассвет, а я уже в комнате своих пернатых любимцев. Врастяжку ложусь на пол, ставлю перед собой широкую низкую банку с кормом и прикрываю ее ладонью. С моим появлением проголодавшийся вальдшнеп покидает излюбленный уголок за ящиком с зеленью и доверчиво, вперевалку идет к кормушке. Но доступ к корму прикрыт моей рукой, и, чтобы до него добраться, Фомка поспешно просовывает свой длинный клюв между пальцев моей руки и один за другим извлекает из кормушки кусочки мяса. В эти моменты я безнаказанно поглаживаю его спинку.

Но вот Фомка утолил свой голод и, уютно усевшись в уголке, предался дремоте.
— Перестань спать, увалень, — бесцеремонно толкаю я его пальцем в бок, — ведь целый день впереди.
Фомке не нравится моя фамильярность. Сначала он вяло защищается от моей руки и вдруг, выйдя из сонливого состояния, переходит к активному нападению. Видимо не надеясь на слабый, мягкий клюв, Фомка издает смешные крякающие звуки, взъерошивает оперение и бьет мою руку крылом, как голубь.
Интересно, что в течение всей зимы Фомка ни одного раза не пытался взлететь на крыльях. «Неужели он калека?» — думал я и однажды, желая проверить свою догадку, подбросил вальдшнепа в воздух. Беспомощно раскрыв крылья, Фомка шлепнулся на сено и торопливо ушел в свой угол. После этого неудачного эксперимента я вполне уверовал, что по непонятной для меня причине Фомка потерял способность к полету. Пожалуй, я был даже рад этому. Ведь после суровой зимы придет весна, и будет жалко держать здоровую птицу в неволе. Другое дело — птица-калека. Выпусти ее на волю — она все равно погибнет. Пусть же Фомка живет на моем попечении.
В том году зима затянулась. В марте бушевали метели, как на севере. После них установились морозы, звонко скрипел под ногами снег, и казалось, не будет конца холоду. И вдруг прорвало.
Бурная весна, не оглядываясь, шагала вперед, обнажая почву, превращая сугробы снега в широкие лиманы; в них отражались белые облачка, плывшие в голубом небе. Долго, где-то южнее нас, пережидали перелетные птицы весеннее ненастье и вдруг сорвались с места и неудержимо повалили к северу. Душистый степной воздух сразу наполнился бесчисленными голосами. С гоготом летели вереницы гусей, свистя крыльями, их обгоняли стаи уток, пели жаворонки, где-то кричал чибис.
Празднуя победу, запоздавшая весна особенно ликовала.
Прошла неделя; наступили теплые, даже жаркие дни, зазеленела трава, на деревьях лопались набухшие почки.
Однажды, войдя в комнату, я понял, что мне пора расстаться со своими зимними питомцами. Обе синички и полевой воробей беспокойно перелетали с места на место, заглядывали сквозь стекло наружу.
Полчаса спустя я выставил вторую оконную раму и, с трудом отодвинув засовы, распахнул окно настежь. Бодрящий свежий воздух вместе с весенним гомоном ворвался в комнату и в первый момент, видимо, оглушил, испугал мое птичье население. Однокрылый перепел, пытаясь взлететь, несколько раз подпрыгнул в воздух и шлепнулся на пол. Фомка забрался в самый темный угол комнаты.
Много времени прошло, пока наконец обе синицы и воробей решились воспользоваться открытым окном и вылетели наружу. Но зато как пели мои синички, перелетая по ветвям ближайшего дерева! Такого звонкого и веселого пения я не слыхал у них ни разу.
Уже темнело, когда я вновь зашел в птичник, чтобы покормить своих питомцев. После долгого пребывания в саду мне показалось здесь особенно душно. Я открыл окно и, удобно усевшись на сено, поставил на пол чашку с кормом.
Как и обычно, смешной Фомка топтался вокруг меня, толкал мои руки своим теплым клювом и, наконец добравшись до съестного, с удовольствием глотал один за другим кусочки мяса.
Но вдруг вальдшнеп перестал есть и насторожился. Быть может, его поразил какой-нибудь звук или он заметил пролетевшую мимо окна птицу. Он как-то весь подтянулся, его оперение плотно прилегло к телу, крылья слегка вздрагивали. Желая подразнить своего любимца, я толкнул его в бок пальцем. Но вместо того чтобы защищаться или уйти в свой уголок, Фомка неожиданно взлетел на воздух. Одно мгновение птица билась под потолком комнаты, затем ловко нырнула в открытое окно и вылетела на волю.

В следующие секунды я видел, как вальдшнеп пересек наш сад, взмыл вверх над большими деревьями и, наконец, как бы растаял в вечерних сумерках. Прощай, Фомка! Долго стоял я в раздумье у окна, смотрел на угасающую зарю, вслушиваясь в неясные звуки весеннего вечера и вспоминая Фомку.
— Прощай, смешной Фомка! — Я закрыл окно и уселся на подоконник.
В комнате совсем стемнело и было безжизненно тихо. Только на белой стене неясно маячила маленькая сгорбленная фигурка перепела. Однокрылая птица суетливо бегала вдоль стенки туда и обратно, издавая тихие звуки и шелестя сеном. Что-то сиротливое и гнетущее было в этих неясных звуках. И вдруг нервы мои не выдержали. Невыносимое чувство жалости и обиды заполнило мое сердце. Мне было обидно, но не за улетевшего Фомку, не за свое одиночество. В этот праздник весны до слез мне стало жалко моего бедного бескрылого перепела.
Глава четвертая
ДРУГОЕ МОЕ УВЛЕЧЕНИЕ
Не только ручные зверьки и птицы окружали меня в детстве; мое детство было тесно связано с охотничьими собаками, с ружьями, а несколько позднее — и с охотой. Как же я мог пристраститься к охоте, когда так любил все живое? На этот вопрос не ответишь сразу. Хотя бы в общих чертах нужно познакомить читателя с той обстановкой и с теми людьми, которые окружали меня в детстве.
Самые ранние мои воспоминания связаны с кабинетом отца, инженера-путейца. Кабинет так сильно отличался от остальных комнат нашей квартиры, что особенно врезался мне в память. Я и сейчас как будто вижу его со всеми подробностями. Просторная и всегда прохладная комната невидимой гранью разделялась на две половины. Одна представляла собой мастерскую. Вдоль стены стоял большой дубовый верстак и токарный станок. Над ними правильными рядами висели на стене разнообразные инструменты. Отец любил заниматься токарным и столярным делом и, по его словам, отдыхал за этим занятием после умственной работы. В другой половине комнаты помещался огромный письменный стол, два массивных кресла и широкий диван, обитый кожей. На стенах висели седло, шкуры зверей, охотничьи ружья, рога косуль и оленей. Простота обстановки сочеталась здесь со строгостью и образцовым порядком. Все было удобно, под руками, на своем месте. Я никогда не позволял себе шумных игр в этой комнате, но не потому, что отец не любил шума. Сама обстановка этой комнаты как-то заставляла меня быть серьезным, стараться выглядеть старше своего возраста. С чувством благоговения часто проникал я в кабинет отца, взбирался на широкий диван и часами оставался здесь, рассматривая развешанные на стенах оружие и шкуры животных.

Мне было шесть лет, когда отец впервые взял меня на охоту. «Приготовь сапоги, смажь их хорошенько салом — завтра пойдем на охоту», — сказал однажды он за обедом. Я едва дождался этого «завтра».
Стоял яркий и теплый сентябрьский день. Мы с отцом по железнодорожному мосту перешли волжский рукав — Ахтубу. По его правому берегу тянулись фруктовые сады и бахчи, а сразу за ними начиналось широкое займище с бесчисленными подсыхающими озерками, извилистыми ериками и болотцами. В эти места мы с отцом отправились на охоту.
Сколько здесь водилось бекасов! С характерным криком они поодиночке взлетали из-под самой морды нашей собаки Маркиза и, часто взмахивая своими длинными и острыми крыльями, неслись над болотом. Выстрелы отца встревожили болотных птиц. В воздух поднялись утки и стаи крупных куликов-веретенников. Некоторое время они беспокойно носились над лугом в разных направлениях, а затем постепенно рассаживались на болоте.
Этот первый день, проведенный с отцом на охоте, я буду всегда вспоминать с большим удовольствием. Без ружья, в тяжелых сапогах, стараясь не отставать от отца и Маркизки, я бродил за ними много часов подряд. Под ногами хлюпала болотная почва, иногда хрустели высохшие раковины прудовиков, вымокшая рубашка прилипала к телу, солнце обжигало вспотевшее лицо. Да… тяжело ходить по болоту, трудно с непривычки попасть на лету в быстрокрылую птицу — бекаса, но сколько во всем этом жизни, нервного напряжения, своеобразной прелести! А сколько неожиданностей! Никогда я не забуду, как в тот день меня испугала стая птиц, вырвавшихся из кустарника так близко и с таким страшным шумом, что у меня буквально захватило дыхание и закололо в пятках. Птицы оказались обычными серыми куропатками. Эти переживания, конечно, хорошо знакомы охотнику и его постоянному спутнику, самому близкому и верному другу — собаке.
Незаметно солнце склоняется к западу и блестит в неподвижной воде. Пора домой. Мы с отцом направляемся в обратный путь. Вот Ахтуба, вот и железнодорожный мост. Над тихой рекой сгущаются сумерки.
— Меньше версты остается, — говорит мне отец. По интонации его голоса, по выражению лица я понимаю, что он хочет меня подбодрить. «Давай, мол, шагу прибавим — дом ведь совсем недалеко». Но ему жалко меня, и вместо этого он задает мне вопрос:
— Ну, что ж делать будем — домой или отдохнем?
— Посидим немного, — прошу я.
Мы усаживаемся на берегу реки и сидим долго-долго. Как приятно отдохнуть после целого дня ходьбы по болоту. А как хорошо кругом!
Чух-чух-чух-чух — монотонно, без конца позади нас работает водокачка, да над сонной потемневшей водой, перелетая с места на место, свистят кулички-перевозчики.
— А знаешь, — говорит мне с улыбкой отец, — ты сегодня, когда придешь домой, обязательно будешь капризничать.
«Почему ты так думаешь?» — хочется мне возразить отцу, но это так трудно, язык не желает подчиняться.
— Ну что ж, пошли, — говорит отец.
Как ни странно, но после отдыха мне не легче. Я с большим трудом поднимаюсь с места и, едва передвигая отяжелевшие ноги, бреду рядом с отцом по знакомой тропинке. Вот наконец и наш дом, вот и балкон. Я с трудом поднимаюсь по пологим ступенькам и, переступив порог нашей столовой, вдруг чувствую себя совершенно измученным и разбитым. Невыносимо болят ноги, кружится голова, горит лицо. Мать усаживает меня за стол, уговаривает выпить стакан молока и съесть котлету. Но разве мне сейчас до еды? «Оставьте меня в покое!»
«Но как мог заранее знать о моих капризах отец?» — ломаю я голову, поздно проснувшись на другое утро.
Так вспоминается мне «боевое крещение» — первый выход с отцом на охоту. А после этого дня в моей памяти воскресает много дней, целая вереница дней, проведенных в займищах на островах Волги и на топких берегах широких степных лиманов. Без ружья я хожу сзади отца, таскаю добытую дичь, зорко слежу за его стрельбой, за работой старого пса Маркизки. Я уже не случайное здесь лицо, а терпеливый помощник и спутник, разделяющий все трудности и невзгоды жизни охотника. Иной раз собака поймает утенка или принесет отцу легко раненного в крыло кулика, и эта живая добыча без лишних слов поступает в мою полную собственность.

Когда мне исполнилось семь лет, я получил от отца подарок — ружье. Из него можно было стрелять дробью и пулями. Впрочем, откровенно говоря, оно никуда не годилось. И пулей и дробью оно било одинаково плохо. При стрельбе в мишень пули ложились то в одно, то в другое место, но никогда не попадали в ту точку, куда вы целились. Выстрел же дробовым патроном был вообще безнадежен. Дробь неизменно отскакивала от всякого предмета и, насколько я помню, пробивала только бумагу. С этим ружьем я охотился больше двух лет и сделал не менее трех тысяч выстрелов, но, увы, без всякого результата. Из него мне не удалось убить ни одной птицы.
«Старая, разбитая, но опасная кочерга, — говорил про это ружье отец. — Оно, конечно, не годится для настоящей охоты, но для тебя, начинающего охотника, оно безусловно будет полезно. Научись обращаться с этим ружьем — и тебе будет легко обращаться со всяким оружием». И правда — отец не ошибся. За всю жизнь я не сделал ни одного случайного выстрела. Кроме того, у отца, видимо, был и другой повод подарить мне именно это ружье. В детстве с ним охотился дед, потом начинали охоту отец и мой брат; наконец, пришла и моя очередь.
Получив в подарок плохонькое ружьишко, по словам отца — старую кочергу, я все же был бесконечно доволен. Тот памятный день для меня был праздником. Представьте себе: у меня было собственное ружье! Но неожиданно слова матери омрачили мою радость.
— Неужели и ты будешь охотником? — с каким-то упреком в голосе обратилась она ко мне. — Неужели тебе не жалко будет убивать птиц и зверей — ведь ты их так любишь! Вот ты скоро хочешь выпустить своего зайчонка, а потом встретишь его, и неужели тебе не жалко будет в него выстрелить?
Я держал в руках подаренное ружье, собственное ружье, отказаться от него у меня не хватало сил. Надо убедить мать, что она рассуждает не совсем верно, не так, например, как отец. Разве отца можно назвать злым человеком? И в то же время он не может жить без охоты.
— Мама, неужели ты думаешь, что я выстрелю в моего зайчика? Я выкрашу ему спину и всегда буду знать, что это мой зайчонок; а потом, неужели ты думаешь, что он будет жить там, куда его выпустят! Он, конечно, убежит так далеко, что ею никто не найдет.
— Хорошо… предположим, ты прав, — продолжала мать, — но скажи тогда, чем твой зайчонок лучше того бедного зайчонка, который вырос не у тебя в комнате, а на свободе? Ну скажи, объясни мне, чем он отличается от твоего зайчонка?
Такого вопроса я, конечно, не ожидал, был поставлен в тупик и совсем расстроился.
В тот памятный вечер я долго не мог заснуть. Навязчивые мысли лезли в голову — в них я никак не мог разобраться. Сколько вокруг меня, да и во мне самом странных и непонятных противоречий. Вот сейчас у меня наконец есть ружье. Я на седьмом небе. Как мне хочется с ним побродить по знакомым местам, поохотиться: вдруг — впрочем, почему вдруг, — безусловно, после ряда промахов, но мне удастся застрелить красивого дикого селезня. При одной мысли об этом у меня от счастья захватывало дыхание и почему-то совсем не было жалко птицу. Но разве у меня хватит силы застрелить моего зайчонка? Никогда. Мама, конечно, ошибается в этом. Мне легче сломать и забросить подаренное ружье, чем решиться на такое дело. Значит, в степи и в лесу выстрелить в живое существо не жалко, а дома… Как все это непонятно, странно. И тем более непонятно, что так, видимо, мыслю не только я, но и другие. Даже старого Маркизку не заставишь задушить моего зайчонка. «Возьми его, Маркизка, возьми его!» — сколько раз приказывал я собаке, заранее зная, что из этого ничего не выйдет. Обычно собака в таких случаях посмотрит на меня своими добрыми, смеющимися глазами и начнет искать блох в мехе у зайчонка. А ведь тот же Маркизка на охоте ведет себя совершенно иначе. Вот и отец тоже не любит, когда у нас убивают домашнюю птицу. В этом меня вполне убедило недавнее происшествие с домашними селезнями. Здоровенных и жирных двух селезней специально для воскресного обеда наша нянька Васильевна однажды привезла с базара. Но ей не удалось осуществить своих намерений. Оба селезня были похищены мной и братом и спрятаны в надежном месте.
— Да вы совсем с ума посходили! — кричала на нас Васильевна. — Где утки? Чтоб сейчас же были на месте!
Но, не рассчитывая на наше повиновение, с этими словами она бросилась к моей матери. Мы с братом поспешили убраться из дому. «Пускай себе разрядится впустую, а там будь что будет». Обычно в четыре часа дня со службы возвращался домой отец, и вся наша семья встречалась в столовой. Этим моментом, конечно, воспользовалась Васильевна для своей жалобы. Она хорошо знала, что слово отца для нас, ребят, было всегда законом. Но, к большой нашей радости, на этот раз Васильевна ничего не добилась.
— Конечно, дети не должны вести себя так по отношению к старому человеку, и, тем более по отношению к своей бывшей няньке. Куда это годится? Чтоб этого больше никогда не было! — закончил отец, но о спрятанных селезнях ни единого слова. Как это понимать? Таким образом, этот вопрос так и остался неразрешенным. А несколько дней спустя оба злосчастных селезня уже без риска попасть на обед под незаметным присмотром той же Васильевны расхаживали по двору среди прочей домашней птицы.
В октябре, когда дни становились прохладными, а ночи холодными, время от времени мы предпринимали более далекие выезды на охоту. В таких случаях уже с вечера к крыльцу подкатывала большая телега, доверху наполненная душистым сеном. Ранним утром в ней размещали котелки, сумки, ящики с патронами, ружья и прочую охотничью утварь, и мы дня на два отправлялись то на далекие степные лиманы, то в волжские займища. Частым спутником отца при таких выездах кроме нас, ребят, подростка-кучера Васи и старого Маркизки был сослуживец отца — Николай Иванович Хованский. Из наших знакомых Николай Иванович мне особенно нравился. Коренастый и широкоплечий, с некрасивым, но добрым и замечательно симпатичным лицом, он как-то сразу располагал к себе. Кроме того, он был превосходным стрелком, настоящим любителем-охотником, и это еще больше возвышало его в моих глазах. В молодости он потерял правый глаз, но не бросил охоты. Он стал стрелять с левого плеча, прицеливаясь левым глазом, и постепенно достиг в такой стрельбе настоящего искусства. До страсти увлекаясь охотой, больше всего на свете, как выражался Николай Иванович, он любил «трудную стрельбу» по бекасу.
В то же время он с явным пренебрежением отзывался об охоте на уток. И хотя иногда выезжал специально на утиную охоту, но делал это без обычного азарта, так сказать, за компанию и потому, что в это время «настоящей» дичи, то есть бекасов, было немного.
— Я уж лучше здесь посижу да обед на славу сварю, — бывало, скажет он, оставаясь в лагере. — Не по сердцу мне эта охота. Утята не все еще на крылья поднялись, дураки еще, а их уже выколачивают беспощадно… Разве это охота? Настоящая бойня, только собак портить. — И он с явной недоброжелательностью прислушивался к частой стрельбе, доносившейся с соседних озер. Интересно, что точно такого же взгляда всегда придерживался мой отец. Это, видимо, имело большое значение в их дружбе и в частых совместных выездах на охоту.
Пасмурное утро. Дорогой, убегающей вдаль до самого мглистого горизонта, мы едем на телеге безотрадной осенней степью. Свистит, порой завывает ветер, под его порывами бьются уцелевшие сухие стебли трав, перегоняя друг друга, катятся и скачут по степи круглые серые перекати-поле. Неуютно, тоскливо кругом. Однако наше настроение совсем не соответствует окружающей картине непогожего осеннего утра. Часа два быстрой езды по укатанной степной дороге, и мы будем у цели — в овражистой местности неподалеку от Волги, где можно пострелять вволю по куропаткам и зайцам. И каждый из нас с нетерпением ждет, когда же кончится долгий, однообразный переезд по унылой степи. От нечего делать смотрю по сторонам, слежу, как позади все дальше уползают и постепенно тонут пирамидальные тополя Ахтубы, как далеко вперед убегает дорога, туда, где открываются все новые и новые горизонты.
— А ну-ка, Вася, останови лошадь, — положив на плечо кучера руку, говорит отец. Телега замедляет ход, сворачивает на целину и останавливается рядом с дорогой. — Не пора ли? — спрашивает меня отец. — Деревень близко нет, и вон там овраг большой начинается, густые заросли.
Мне с полуслова понятно, о чем идет речь. Среди наваленного на телегу сена я нащупываю прикрытую одеялом корзину и извлекаю из нее за уши большого серого зайца. Он дрыгает в воздухе задними лапами, дико смотрят в стороны его глаза. Я опускаю зайца на землю и, придерживая слегка за уши, глажу его спину. Испуганный светом и необычной обстановкой, мой зайчонок — выкормыш, ставший совсем взрослым и здоровенным зайцем, неподвижно лежит среди жесткой полыни; беспокойный ветер раздувает мягкую серую шерсть. Сойдя с телеги, ко мне приближаются и остальные спутники. Только старый Маркизка, приподняв свою большую заспанную голову, продолжает оставаться в телеге.
— Раз… два… — подняв над головой кнут, медленно командует Вася. — Три! — наконец резко выкрикивает он, с силой ударяя кнутом по сухой полыни; от нее взвивается облачко пыли. Одновременно я отпускаю длинные заячьи уши, толкаю его сзади и, когда зверь срывается с места, хлопаю что есть силы в ладоши. Моему примеру следуют другие. Засунув посиневшие от холода пальцы в рот, резко свистит Вася.
— Держи его, ату, держи! — зычно кричит и хохочет Хованский.
Ничего не понимая спросонок, среди нас мечется, визжит и лает одуревший Маркизка. А перепуганный русак, заложив на спину длинные уши, во всю прыть несется по степи, шарахается в стороны от катящихся перекати-поле, унося в своем робком заячьем сердце страх и недоверие к человеку.

Вот и выпустили на свободу бывшего моего питомца, напугали его на прощание, чтобы не доверял людям, и, вновь разместившись в телеге, поехали дальше, и куда же? — на охоту за зайцами. Ну разве не смешно это, не чудаки разве охотники? И я невольно всматриваюсь в загорелое и обветренное лицо Хованского, любуясь им. Какая-то необыкновенная светлая улыбка озаряет некрасивые черты одноглазого охотника, делая его таким милым и привлекательным. «Нет, — невольно думаю я, — и Хованский и отец, безусловно, добрые, отзывчивые люди. Они всем сердцем любят родную природу, животных, но что тут поделаешь, если оба они охотники?»
Много лет спустя мне стало наконец ясно, что охота — не пустая забава. Она воспитывает превосходного стрелка, выносливого и сообразительного бойца и наблюдательного натуралиста, умеющего хозяйским глазом смотреть на родную природу. Это не только увлекательный, но и полезный вид спорта.
— Я бываю рад, когда в мою часть попадают охотники, — сказал мне однажды знакомый полковник, — из них выходят отличные разведчики, их редко настигает вражеская пуля.
В один весенний день в моей жизни одновременно произошли два события. За утренним чаем отец как бы вскользь сообщил о своем назначении в Иркутск.
— Итак, поедем на вашу суровую родину, — обратился он к нам, ребятам, — увидим прозрачную Ангару, кедры, тайгу, холодный Байкал.
Надо сказать, что из рассказов отца и матери в то время я уже имел представление о суровой красоте сибирской природы. Знал, что крупные и яркие цветы Сибири совсем не пахнут, что страна изобилует всевозможной дичью, что сибирские охотники при стрельбе из пулевого оружия почти не делают промаха. И я представлял себе, как веками суровая природа Сибири воспитывала молчаливого, предприимчивого и сильного человека; он перестал бояться ее, проникал все глубже в тайгу, использовал ее богатства. Разве это не интересно, не замечательно? И когда я так думал, меня иной раз начинали тянуть неведомые просторы далекой родины. Я мечтал попасть в Сибирь, познакомиться с ней ближе. Однако сообщение отца во время завтрака поразило меня. Как я расстанусь с нашим садом? Ведь в нем протекла большая часть жизни, к нему я был так привязан. Мечтая увидеть родину, я никогда не думал о том, что переезд в Сибирь надолго, если не навсегда, оторвет меня от южной природы. А сад в это утро был чудный, необыкновенный. Цвела белая акация, наполняя недвижный воздух пряным запахом, сквозь ветви сирени с балкона виднелось синее небо, пели скворцы, перекликались иволги. Неужели придется навсегда расстаться с этой чарующей красотой юга?
Второе событие по сравнению с решением семьи переехать в Сибирь было ничтожно и все-таки в наших ребячьих глазах казалось большим событием. После долгих ожиданий Николай Иванович Хованский получил наконец давно выписанное им ружье. Неспешно в то время шли посылки. Это ружье было мелкокалиберной винтовкой бокового огня — «Буфало Лебель». Николай Иванович ждал ружья с таким нетерпением и так часто рассказывал о его преимуществах, сравнивая с прочими моделями прейскуранта, что это нетерпение передалось и нам. Поэтому неудивительно, что в тот памятный день, узнав о полученной посылке, мы с трудом дождались четырех часов, когда Хованский возвращался со службы, и, не теряя ни минуты, отправились посмотреть новинку. Ружье действительно оказалось замечательным. Длинный легкий ствол винтовки почти на всем протяжении покоился на деревянном ложе, тонкая мушка, способствующая большей точности прицела, была защищена кольцевым предохранителем, механизм скользящего затвора работал безукоризненно. А как оно было прикладисто! Вскинешь его к плечу — и прорезь и мушка сразу встанут на свое место, сольются в одно целое — только остается навести на цель и нажать спусковую гашетку. Одним словом, не ружье, а настоящая драгоценность — мечта охотника.
Вместе с ружьем Хованский получил более десятка коробок с пулями. Одни из них, маленькие остроконечные баскетки, по словам Николая Ивановича, годились для стрельбы в белок и рябчиков. К сожалению, ни белки, ни рябчики не водились в степях под Ахтубой. Вторая, контр-боевая, пуля соответствовала современной пуле мелкокалиберной винтовки. Она была вполне пригодна для стрельбы по сидящим уткам, стрепетам и зайцам. Наконец, последняя, боевая, пуля предназначалась для стрельбы крупной дичи — гусей, дроф, лисиц, причем на самое далекое расстояние. «Хоть и мала пулька, а лошадь наповал убьет», — пояснял Хованский, показывая длинный и тонкий патрончик. Он был смазан густым, издающим особый запах оружейным салом, сквозь его слой тускло блестела медь. Невольно мы рассматривали боевую пулю с большим волнением. Какая невероятная сила таилась в этом ничтожном снаряде! Немудрено, что при осмотре ружья и патронов у нас с братом разгорелись глаза и дрожали руки. За такое ружье, за такие пули не жалко ничего на свете. Горели глаза и у Хованского — он был положительно в восторге. Из толстых досок он немедля изготовил большую квадратную мишень и прикрепил ее метрах в шестидесяти от окна своего кабинета на двери несколько выступавшего над землей погреба. Усевшись в кресло и облокотившись на подоконник, было чрезвычайно удобно стрелять по мишени. Уже с первых выстрелов нам стало ясно, что ружье обладает превосходным боем — пули ложились в мишень исключительно точно. Забыв о горестях дня и испытывая громадное удовольствие, мы стреляли из винтовки до наступления сумерек.

После появления нового ружья у Хованского мы охотно заглядывали к нему при всяком удобном случае: вдруг удастся разок-другой пальнуть из винтовочки! Сам Николай Иванович стрелял регулярно после обеда, и если нам удавалось попасть своевременно, то он никогда нам не отказывал.
— Научиться хорошо стрелять из винтовки — непростое дело. Надо стрелять каждый день, практика нужна, и тогда будешь стрелять как следует, — говорил он. С этими словами Николай Иванович доставал винтовку, коробку с пулями и, удобно усевшись в кресло, делал несколько выстрелов. Мы же с братом должны были бегать к мишени и смотреть, куда попадали пули. После этого он передавал нам винтовку и, усевшись рядом, следил за стрельбой. «Сибиряки хорошо стреляют только потому, что у них белок много. Чтобы не испортить шкурку, они бьют белку в глаз и при этом, конечно, приучаются стрелять без промаха», — вставлял он фразы.
Прошло около месяца. Но вот однажды, посетив Николая Ивановича, мы застали его в каком-то странном состоянии.
— Тихо, — поднося палец к губам, предупредил он, когда мы несколько громко с ним поздоровались. Затем он осторожно открыл шкаф, достал оттуда винтовку в чехле и передал ее брату. — Пока она цела, бери ее себе и беги домой. — Ничего не понимая, мы продолжали стоять на месте. — А пули я потом сам принесу, — продолжал Николай Иванович, выталкивая нас за дверь.
Причину всего случившегося мы уяснили позднее. За день до нашего последнего посещения возвратилась домой жена Хованского. Она гостила где-то на Волге у своих родственников. Это была уже пожилая, тихая и необыкновенно добрая женщина. Приезд заботливой хозяйки был для Николай Ивановича настоящим праздником. Видимо, ему достаточно надоели все хозяйственные заботы, которые легли на него с отъездом жены. Но, к сожалению, благодушное настроение Николая Ивановича продолжалось недолго. Как и всякая хлопотливая женщина, жена Хованского на другой же день заглянула в свою кладовку. И — о ужас! — на мгновение она остолбенела: банки с вареньем, маринадами, четвертные бутыли с наливками и томатом — гордость хозяйки — все это было вдребезги разбито, уничтожено сильными боевыми пулями.

— Ну кто мог подумать, что такой маленький кусочек свинца пробьет толстую стену погреба и наделает столько неприятностей?.. — неделю спустя, добродушно улыбаясь, оправдывался Николай Иванович. — А все-таки какой бой, какая невероятная силища! Только здесь ни к чему такая винтовка — стрелять некого, разве сусликов. А вот в Сибири она действительно вам пригодится.
Осенью мы уезжали в Сибирь. Как сейчас помню мрачный ноябрьский день. Мокрые желтые листья покрывали дорожки сада, в кустах бузины, предсказывая затяжное ненастье, как оголтелые трещали воробьи. Порой налетал ветер, и под его порывами качались и глухо скрипели голые ветви акаций. Я прощался с родными местами, с Хованским, с Маркизкой. Отец не решился везти старую собаку в далекую Сибирь и подарил ее Николаю Ивановичу. Верный пес оставался в надежных, хороших руках, но от этого мне было не легче. Старый Маркизка и одноглазый охотник с того дня навсегда ушли из моей жизни.
Глава пятая
ДВЕ НЕУДАЧИ В ОДИН ДЕНЬ
Вот и Сибирь — моя далекая суровая родина. Вот и Иркутск, и неприветливая быстрая Ангара. А за ней сначала Кайская, потом Синюшкина гора, поросшие редким смешанным мелколесьем да багульником. Где же сибирская глушь — тайга, темные кедры, о которых я так много слышал, живя на юге?
Широко раскинулась мрачная хвойная тайга в глубине страны, там, где в то время не было ни торных дорог, ни жилья человека. Далекой, недоступной казалась она мне в первое время. Не один десяток километров трудного пути отделял меня, жителя большого города, от настоящей природы. А неведомые лесные просторы с каждым днем все сильнее манили меня к себе, я мечтал о них. Но вот прошла долгая зима, и мои мечты наконец превратились в действительность. С наступлением летних каникул наша семья переехала в деревеньку Смоленщину, и оттуда уже я на легкой лодчонке по извилистой речке Ольхе не один раз пробирался в тайгу. Моим постоянным спутником была наша новая охотничья собака, ирландский сеттер; звали его Барька.
Летние экскурсии вдали от Иркутска и частые выезды на охоту весной и осенью несколько примиряли меня с непривычной жизнью в большом городе. Зимой я учился и мечтал о лете, летом в полной мере осуществлял свои замыслы. Когда мне исполнилось четырнадцать лет, моя бабушка подарила мне настоящее двуствольное ружье, и я с особенным нетерпением ждал весны, чтобы вырваться за город и по-настоящему испытать свои силы в стрельбе — поохотиться. В начале мая представился удобный случай. К нам забежал приятель моего брата и сообщил, что завтра утром мы сможем поехать на винокуренный завод, расположенный в пятидесяти восьми километрах от Иркутска, по Верхоленскому тракту. Управляющий завода звал нас в гости, писал, что в эту весну налетело особенно много уток, и советовал не терять времени, так как к северу летит много гусей. Мы тут же решили воспользоваться приглашением и прожить в этом интересном, глухом уголке до конца весенней охоты. Набивка патронов и подготовка к выезду заняли все наше время.
Ранним утром на другой день в нашем дворе уже стояла запряженная в телегу лошадка. Хозяин называл ее рысаком. Он торопил нас с отъездом.
Но вот все готово, пожитки уложены, мы размещаемся в телеге. Минуем тряскую мостовую города, а затем выезжаем на Верхоленский тракт.

Сразу за Иркутском начинаются горы. Верхоленский тракт, извиваясь змеей, то взбегает на перевалы, то спускается в глубокие лощины. Чуть зеленеет травка, покрываются молодой зеленью березки, на склонах холмов алеют цветы багульника.
Мы мысленно стремимся вперед, но наш пресловутый рысак, называемый так лишь за то, что он под гору бежит рысью, едва передвигает ноги, и не потому, что он стар или плохо упитан, а так, по привычке, свойственной выносливой сибирской лошади.
После долгой зимы нам, впервые вырвавшимся из города, даже однообразная дорога и медленное движение кажутся восхитительными. Целый день почти беспрерывной езды, и мы остановились на ночь в маленькой деревушке. Ее бревенчатые избы тянутся вдоль дороги в один ряд. Но как она непривлекательна! Ни одного деревца, ни одного палисадника на всем ее протяжении. Одни потемневшие избы, хозяйственные пристройки, сложенные дрова, и ничего больше.
Несмотря на весну и теплые дни, изба была жарко натоплена. Помимо хозяев, ее населяло несметное количество блох, не дававших ни одной минуты покоя. Все наши попытки уснуть не увенчались успехом. Надев валенки и накинув полушубки, мы выбрались на воздух и, пока наши хозяева и возница спали сном праведников, уселись на дровах под открытым небом и ждали рассвета.
Ночь была тихая, звездная, холодная. В темном небе беспрерывно летели птицы; они стремились к северу, наполняя воздух своеобразным свистом крыльев, гортанными голосами, гоготом, писком. В окрестных озерах бухали ночные цапли — выпи.
Раннее утро. Измученные с непривычки бессонной ночью, мы безучастно смотрели, как наш возница бодро и деловито запрягает лошадь.
Опять езда в течение целого дня. На подъемах мы с трудом передвигали ноги, едва поспевая за нашей телегой, используя спуски, забирались в телегу и, трясясь из стороны в сторону, засыпали на самое короткое время.
Но все трудности позади, забыта скучная дорога, бессонная ночь. Мы на месте. Завод стоит как бы на острове. Его окружают большие пруды, соединенные между собой журчащими речушками, болота и леса, затопленные полой весенней водой. Вдали на холмах темнеет тайга. Два живых существа — старик управляющий и его любимец, бесхвостый сеттер Марсик — были несказанно рады нашему приезду, но кто был рад больше, сказать затрудняюсь. По старости лет управляющий забросил охоту. Уже два года его двустволка висит на стене без употребления. С этим не в состоянии примириться его четвероногий приятель, и между хозяином и собакой возникают частые недоразумения. Вот в четверти километра от дома, на той стороне пруда, там, где его берега сплошь заросли лозой, вдруг раздается отчаянный вопль собаки. Старик всполошен. Неужели Марсик попал в капкан, оставленный ребятами от зимнего промысла? Дряхлой походкой он спешит к пруду, садится в лодку и гонит ее к противоположному берегу. Одновременно послан верховой. Он скачет по плотине, огибая пруды. А с противоположной стороны все продолжает доноситься отчаянный визг. Он проникает в самое сердце старого человека. Но тревога напрасна. Куцый Марсик просто не может поймать дикого утенка.
Или другой случай.
Сторож завода застрелил утку. Она упала на глубокое место пруда, откуда ее извлек Марсик. Вместо того чтобы отдать птицу владельцу, Марсик выплывает далеко в стороне и, сделав большой полукруг, с уткой в зубах возвращается домой.

С нашим приездом Марсик изменил своему хозяину. В отведенном для нас помещении он проводил дни и ночи. Ведь здесь так приятно пахло ружьями, пороховым нагаром, смазанными жиром охотничьими сапогами. Зайдет, бывало, хозяин, пожурит его за измену, и Марсик, как бы извиняясь за свое поведение, поплетется за ним домой. Но не пройдет и получаса, как он опять, радостный и возбужденный, появится среди нас и своими умными глазами следит за каждым нашим движением — не собираемся ли мы на охоту.
Весенняя охота с подружейной собакой, как известно, запрещена охотничьим законодательством, но в то время мы, по молодости лет, как-то не придавали этому значения.
Ледяная вода крайне затрудняет добычу убитых уток, кроме того, место было глухое, и мы широко пользовались услугами обеих собак — Барьки и Марсика.
Прошел год-другой, и я стал бродить с ружьем не только для того, чтобы застрелить ту или другую птицу. Мне просто необходимо было общение с природой.
И когда мне случалось сделать неудачный выстрел, я не особенно сожалел об этом. Остро переживая свою неудачу, я в то же время искренне радовался, что птица, заставив меня пережить острые минуты, ушла невредимой. Охотясь, я сначала бессознательно изучал животных в природе и вскоре понял, что им присуща такая сообразительность, какой я не допускал у них прежде. Это увлекло меня, казалось особенно интересным. Отношение к животным моего отца и его друзей-охотников, которое я видел в детстве, не прошло бесследно — я сам стал бережно относиться к природе. Я старался не стрелять по животному, когда у него не оставалось шансов на спасение, и пристрастился к мелкокалиберным дробовым ружьям, при которых стрельба влет становится настоящим искусством.
Глава шестая
ЖУРКА
Сейчас мне хочется рассказать о ручном журавле-красавке, или, как его часто называют в отличие от других близких видов, журавле степном. Эта замечательная птица прожила у меня шесть лет и, конечно, жила бы еще столько же, если бы мне не пришлось передать ее Московскому зоопарку.
С журавлями мне привелось познакомиться в раннем детстве. Весной и осенью с характерным курлыканьем они пролетали над станцией Ахтуба и всегда привлекали мое внимание.
Крупные птицы выстраивались в воздухе большим углом, иногда несколькими углами и, медленно взмахивая своими широкими крыльями, летели в избранном направлении или начинали кружиться над одним местом.
Щуря глаза от яркого весеннего солнца, а осенью прячась от ветра, я спешил отыскать в небе вереницы крикливых странников и провожал каждую стаю глазами до тех пор, пока она не исчезала из виду. Иной раз с высоты до меня доносились не только трубные крики взрослых птиц, но и тонкий протяжный писк. Это кричали молодые журавлята, впервые следовавшие за стариками к местам зимовок.
Мне хотелось, чтобы среди наших подсадных уток, употребляемых для охоты, и прочей домашней птицы по двору на длинных ногах расхаживал ручной журавль. О том, что журавлей иногда держат на птичьих дворах, где они не допускают ссор среди домашней птицы, я неоднократно слышал от взрослых. Представьте же себе, какими жадными глазами я провожал журавлиные стаи и особенно те из них, среди которых, судя по писку, летели журавлята.
И вдруг мои мечты разлетелись самым неожиданным образом. К счастью или к несчастью — судите сами, — мне попала в руки книжка, в корне изменившая ход моих мыслей. Я прочел рассказ о жизни журавля в неволе. У этого журавля было испорчено крыло, он не мог летать и жил на дворе вместе с домашними птицами. Насколько я помню, рассказ назывался «Журка». Вероятно, рассказ был написан с большим мастерством. Во всяком случае, он произвел на меня, сильного и энергичного мальчишку, потрясающее впечатление и глубоко врезался в мою память.
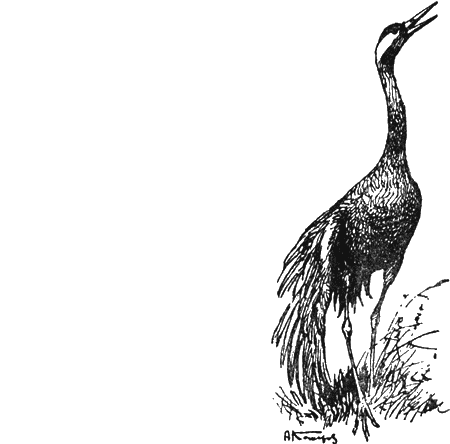
Десятки раз я вспоминал журавля-инвалида, представлял себе, как он, не имея возможности подняться в воздух, чтобы присоединиться к вольным собратьям, громкими криками провожал пролетные журавлиные стаи. И когда этот призыв достигал стаи, журавли отвечали дружными криками и, поджидая птицу, описывали в воздухе широкие круги.
Но журавль-инвалид не мог взлететь, и стая, все еще призывая собрата, выстраивалась в угол и продолжала свой путь.

Мучительная жалость к птице-калеке наполняла мое сердце. Мне казалось, что журавли благодаря своему уму как-то особенно тяжело переносят потерю свободы, и, не желая быть виновником или даже свидетелем страдания птицы, я решил никогда не заводить журавля. Но я был мальчуганом-подростком, старался казаться грубым, стыдился своего чувства и тщательно скрывал его от своих близких.
— Хочешь, подарю тебе живого журавленка? — однажды, возвратившись домой, спросил меня отец.
— Не хочу, — наотрез отказался я и этим отказом поставил его в тупик.
— Не хочешь иметь журавленка? Ничего не понимаю, — продолжал он. — Ведь журавлята замечательно привязываются к человеку — как собака; он будет совсем ручным.
Отец хорошо знал, что всякая живность для меня всегда была самым лучшим, самым дорогим подарком, и вдруг такой нелепый отказ — в чем дело? Моя выходка, как мне казалось, его обидела.
— Значит, журавленка не брать? — на следующее утро вновь спросил меня отец и, получив отрицательный ответ, больше уже не возвращался к этому вопросу.
Спустя некоторое время я узнал, что пойманный охотником журавленок был куплен нашим знакомым железнодорожным врачом, помещен в конюшню и в дальнейшем случайно убит лошадью.
Позднее мне представлялись и другие случаи завести эту птицу, но я не хотел изменять своего решения. У меня перебывала масса всевозможных животных, но я держал данное себе слово и не заводил журавля.
Наверное, лет десять прошло с тех пор, как я отказался от журавленка. За это время наша семья переехала сначала в Иркутск, потом на Украину и поселилась в маленьком городке на берегу Днепра.
В тот период я особенно увлекался охотой и большую часть свободного времени проводил с ружьем то в днепровских плавнях за утками, то в степях за зайцами и куропатками. Быть может, потому, что это давно прошло, или потому, что я был молод, но эта пора моей жизни никогда не изгладится из моей памяти — чудное было время. Я люблю природу Украины. Люблю ее деревеньки с утопающими в зелени белыми хатками, необъятную ширь степей, окруженные вербами ставки, где по вечерам как исступленные поют соловьи и квакают лягушки. Душистый воздух, яркое солнце, южное, синее небо — все здесь бесконечно мило и дорого моему сердцу.
Как-то в августе я возвращался с охоты степной дорогой. Было уже очень поздно, когда дорога вывела меня к небольшой деревеньке. Мне не хотелось ночью будоражить деревенских собак, и я, свернув с дороги, пошел в обход целиной. Надо сказать, что в те годы я не жалел своих ног и, предпринимая большие переходы, часто приводил их в плачевное состояние. Стертые ноги и на этот раз не давали мне покоя, и я решил переобуться и привести обувь в порядок. Но, покончив с этим, я не пошел дальше, а разлегся на траве, вслушиваясь в доносившиеся до меня звуки. Кругом в пожелтевшей траве сонно трещали сверчки, где-то далеко, вероятно, у куреня на бахче, лаяла собака, из деревеньки неслась украинская песня.
Ты не лякайся, що нас кто пидслухае,
Тыхо, ни витру, ни хмар.
Ничинька-матонька сном всих окутала
И не шелохне в гаю, —
негромко пел молодой голос. Эти звуки сливались с шорохами и гомоном бесчисленных ночных насекомых и, казалось, вместе с теплом нагретой за день земли поднимались все выше и выше к звездному небу.
И хотя в песне, в трескотне сверчков не было ничего особенного, но я никак не мог оторваться от этой своеобразной музыки — лежал и слушал. Вдруг откуда-то поблизости до моего слуха донесся тихий журавлиный голос. Обычно так переговариваются журавли, ночуя в степи. Я застыл на месте. Несколько секунд спустя, производя крыльями неясный шорох, в двадцати шагах от меня опустилась стая журавлей-красавок. Видимо, возбужденные полетом, птицы сначала негромко переговаривались между собой, отряхивали и приводили в порядок оперение, а затем одна за другой укладывали голову на спину и предавались отдыху. Только один журавль продолжал бодрствовать и, медленно расхаживая поодаль от спящей стаи, всматривался в окружающую степь. Стараясь не потревожить птиц, я лежал совершенно неподвижно. Но сторожевой журавль случайно несколько приблизился ко мне и вдруг остановился. Видимо, непонятный предмет, лежащий в степи, вызвал его недоверие. Не решаясь двигаться дальше, он насколько было возможно вытянул шею в моем направлении и, желая рассмотреть меня, поворачивал голову. Наверное, я все-таки допустил слабое движение или, быть может, громко вздохнул. Так или иначе, но в следующее мгновение птица поняла, что опасность рядом. Не спуская с меня глаз и потому спотыкаясь о стебли бурьяна, сторожевой журавль как-то боком быстро зашагал в сторону. «Крррии», — прорезал темноту невыносимо резкий в тишине крик, и по этому сигналу все ночующие птицы взлетели в воздух и, уже громко перекликаясь: «крри-крру-крру-крру», пытались собраться в стаю в ночном небе. Все это время рядом со мной лежала заряженная двустволка, но мне даже в голову не пришло протянуть к ней руку.
Настала осень. Собираясь участвовать в загоне на лисиц и зайцев, я решил привести в полный порядок свое ружье и отправился к оружейному мастеру. Стояло прохладное ноябрьское утро. Покрытое сплошными серыми тучами, низко висело небо, на окраине города местами зеленела трава, блестели лужи, к сапогам назойливо липла грязь. После коротких поисков я нашел на воротах нужный мне номер и постучал в калитку. Мне долго не открывали. Наконец послышались шаги, и оружейный мастер впустил меня во двор и пригласил в комнаты. Однако то, что я увидел, заставило меня задержаться.
Как сейчас помню широкий квадратный двор, какие нередки на Украине. Слева стояли два больших скирда соломы, справа тянулся низкий выбеленный домик с черепичной крышей, а позади помещалась кирпичная конюшня, около нее высоко поднималась куча навоза. Эта куча навоза и привлекла в тот момент мое внимание. На ее вершине, резко выделяясь на темном фоне, на одной ноге стоял журавль-красавка. И вместо того чтобы пойти к крыльцу, я, увлекая за собой хозяина, направился к конюшне, близ которой стоял журавль. Это была великолепная, вполне взрослая птица. Ее чистое светло-серое оперение плотно прилегало к телу, голову украшали белые косички, свисая к тонкой изящной шее, ярко-красные глаза внимательно следили за мной — незнакомым человеком.
— Подранок? — спросил я мастера, указывая на журавля.
— Нет, года три тому назад молодым взят.
— Подрезано крыло? — вновь задал я вопрос собеседнику.
— Да нет, не подрезано, летает. — И, чтобы доказать правоту своих слов, он снял с руки рукавицу, какую иной раз надевают слесари во время работы, и бросил ее под ноги птицы. «Крри», — закричал журавль и, раскрыв крылья, схватил рукавицу клювом и высоко подбросил ее в воздух. Когда же, падая, рукавица поравнялась с ним, он поймал ее на лету, бросил далеко в сторону и сам поднялся на крылья. С криком журавль сделал большой полукруг над двором, а затем опустился среди группы мокрых после недавнего дождя домашних кур.
— И не улетает? А когда журавли летят — неужели и на них не обращает внимания? А кормите чем? А где зимой держите? — забыв о цели своего посещения, забрасывал я мастера вопросами и восхищался этой чудной птицей.
Пять минут спустя я уже знал все подробности. Журавля звали Журкой, он прожил на этом дворе три года, был совершенно ручной, и когда весной и осенью над городом пролетали журавлиные стаи, он громко кричал, поднимался в воздух и, сделав несколько больших кругов, всегда вновь возвращался во двор. Журку очень любят, но никто его не хочет принуждать жить на дворе, и если он улетит, то, значит, на свободе ему будет лучше, жалеть его нечего, тем более что он съедает втрое больше курицы, а толку от него мало — яиц не несет. Я был в восторге.
— Быть может, вы согласитесь продать мне птицу? — обратился я к мастеру. — Я большой любитель всего живого, и вашему Журке у меня будет хорошо житься.
— Ну, уж это вы с хозяйкой решайте, — ответил мастер и повел меня в комнаты.
— Да на что мне ваши гроши! — возразила мне хозяйка.
— Ей деньги не нужны, породистых кур достать хочется, — добавил хозяин.
Но породистых кур взять было неоткуда, и я попробовал предложить жившего у меня самца павлина или пару цесарок. Пришлось разъяснить, что павлин обладает громадным красивым хвостом, перья которого ежегодно вырастают наново, и что цесарки несут много яиц, отличающихся очень крепкой скорлупой.
— Павлин — ничего, — доброжелательно кивнул головой хозяин.
— А те шо, яички крепкие несут? — вопросительно добавила хозяйка.
Видя, что журавль почти мой, я решил быть щедрым. Хозяину я отдаю неистощимого носителя ярких перьев, которыми при желании можно через несколько лет украсить все комнаты, а хозяйке — цесарок, несущих крепкие яйца. К общему удовольствию, обмен состоялся. Но перед тем как рассказать о жизни у меня приобретенного журавля, несколько слов я должен сказать о птицах, послуживших в качестве обменной ценности.
Конечно, каждому из читателей довелось слышать, как скрипит иногда немазаное колесо. Крутится оно вокруг собственной оси и через определенные промежутки времени цепляет за ось одним и тем же местом, издавая назойливый скрип. Я вспоминаю о немазаном колесе не случайно, а потому, что точно так же кричит цесарка. Надоедная, глупая это птица. Иной раз попадет она за какой-нибудь низенький заборчик и, вместо того чтобы перелететь через него, начнет бегать вдоль забора туда и сюда, издавая через короткие промежутки времени назойливый звук, напоминающий скрип немазаного колеса.
А в это время, соскучившись, другая цесарка бегает и скрипит по другую сторону забора — чудный дуэт тогда получается. Терпишь иногда, терпишь и наконец запустишь в цесарку метлой или веником. Как пулемет, затрещит тогда испуганная птица и, легко поднявшись на крылья, перелетит во двор соседа. Пройдет некоторое время, забудется пережитый испуг, и цесарка заскрипит в соседнем дворе и будет кричать там до тех пор, пока в нее и там не запустят метлой. Этим я не хочу сказать, что цесарки совсем никуда не годные птицы, но мне они в то время надоели ужасно, и я был рад от них избавиться. И если крикливые цесарки вызывали у соседей желание запустить в них первым попавшимся под руку предметом, то вид и крик моего павлина вызывали иное желание.
Я бы очень хотел увидеть павлина на его родине, в лесах Индии или на Цейлоне, но никому не советую держать эту яркую птицу в городских условиях.

«Каяуу», — на весь квартал не то громко мяукал, не то кричал павлин, взлетев на забор и опуская свой длинный, разукрашенный яркими спинными перьями хвост на улицу. И по этому сигналу не только у ребят, но и у взрослых начинали чесаться руки от неудержимого желания схватить павлина за хвост и выдернуть из него хотя бы пару замечательных перьев. «Ведь привыкли же не рвать цветов с клумбы городского парка», — раздраженно думал я. Впрочем, спущенный на улицу павлиний хвост — неотразимый соблазн, мимо которого действительно пройти трудно. Так или иначе, павлиний хвост благодаря своей длине и яркости бросался всем в глаза и был причиной ссор с ребятами и взрослыми. Меняя павлина, я раз и навсегда избавлялся от неприятной обязанности постоянно следить, чтобы случайный прохожий не вырвал пера из хвоста принадлежащей мне птицы.
— Какое значение может иметь одно вырванное перо? — говорили мне. Безусловно, никакого — ведь хвост моего павлина все равно никогда не успевал отрасти полностью. Но, к моему несчастью, у меня не было сил подчиняться холодной логике и оставаться спокойным.
Я глубоко убежден, что и вы, читатель, поступали бы так в моем положении. Представьте, например, такой случай. Однажды порывистый взлет павлина с забора привлек мое внимание. Несомненно, кто-то пытался схватить его со стороны улицы. «Опять ребята», — мелькнуло у меня в голове, и, не теряя ни секунды, я перемахнул через забор и нос к носу столкнулся со злодеем. Вы, конечно, убеждены, что злодеем оказался соседний мальчишка? Ничего подобного. Против меня на тротуаре стоял прекрасно одетый пожилой человек с весьма внушительной внешностью. Мое неожиданное появление привело его в сильное замешательство. Ведь он не успел скрыть следы своего преступления. Улика была налицо — в левой руке он держал большое красивое перо моего павлина.
— Догадываюсь, молодой человек, что это ваш павлин, — любезно заговорил он, не дожидаясь моих вопросов. — Одно можно сказать — замечательная, красивая птица.
— Да, павлин мой, — бледнея от негодования, процедил я сквозь зубы, — но скажите мне, пожалуйста, на каком основании вы вырвали это перо? Давайте-ка его сюда.
— Простите, пожалуйста, но ведь я только одно перо, одно перышко. Какое это может иметь значение? Ведь у вашего павлина множество таких перьев. Право же, молодой человек, нельзя горячиться из-за пустяков. Уверяю вас, что я не мог предполагать, что причиню вам этим неприятность. Конечно, красивое перышко, но, в сущности, оно мне и не нужно совсем.
— Да не один вы перья из моего павлина щиплете — все соседние мальчишки занимаются этим делом, но им, десятилетним, простительно, а вот вам, дожившему до седин человеку, стыдно такими вещами заниматься.
Высказав свой протест в такой форме, мне следовало взять перо и гордо удалиться. Этим я поставил бы своего противника в незавидное положение. Но, увы, у меня отсутствовали дипломатические способности. Допущенная мной резкость позволила незнакомцу с честью выйти из глупого положения.
— Щипать несчастную птицу вам не жалко, это пустяки, по-вашему, — сказал я, — а вот если у вас прохожие начнут по волоску выдергивать, как вам это понравится?
Мгновенно лицо незнакомца стало страшным, тяжелая трость застучала о тротуар.
— Вы забываетесь, невоспитанный молодой человек, мои внуки никогда не позволят себе такой дерзости! — кричал он, содрогаясь всем телом. — Вы просто грубиян, я не хочу говорить с вами.
С этими словами незнакомец повернулся ко мне спиной и пошел прочь. Вся его фигура выражала оскорбленное достоинство. После того как этот человек попался на месте преступления, он все же высоко держал голову. Вероятно, случайно, в волнении он забыл в своей руке прекрасное павлинье перо и теперь небрежно размахивал им из стороны в сторону. Впрочем, мне показалось, что он боялся зацепить им за торчащие из соседнего палисадника ветви сирени.
«Мало того, что перо вырвал и утащил, он к тому же и меня изругал», — уныло думал я, идя к своей калитке. После этого случая самое лучшее, что можно придумать, — это как можно скорей расстаться с павлином. «Как хорошо, — думал я, — что вкусы людей столь различны. Иначе этот обмен не мог бы никогда состояться». А сейчас мастер был в восторге от павлина, его жене нравились цесарки, а я был бесконечно рад, что приобретенный журавль ничем не походил ни на опротивевших мне цесарок, ни на павлина.
Выпустить хорошо летающего журавля на наш двор я боялся: улетит, чего доброго. На первое время я поместил его в просторный сарай, широко открыв дверь и затянув ее сеткой. Пусть привыкнет к новой обстановке и сдружится с домашними птицами. В то время у меня жили две самки и один селезень — подсадные утки — и семья серых куропаток под руководством крошечной курочки-бентамки. Трех таких курочек и одного петушка я специально держал для подкладки под них яиц дикой птицы. В ту весну я нашел гнездо серой куропатки, взяв из него восемь яиц, подложил под курочку. Маленькая квочка прекрасно высидела куропаток, и сейчас уже совсем большие птицы послушно следовали за своей приемной матерью. Журка быстро свыкся с этой компанией, и уже одно его присутствие в дальнейшем могло оказаться полезным. Дело в том, что куропаточки привлекали внимание ворон и кошек, но присутствие крупной птицы, конечно, будет сдерживать их хищнические наклонности. Понятно, что я с нетерпением ждал, когда смогу выпустить Журку из сарая на волю. «Пора», — спустя неделю решил я и, отодвинув сетку в сторону, осторожно выгнал всех своих птиц из сарая на широкий двор. «Крри», — громко закричал журавль и, совершив короткий пробег, поднялся на крылья. Перепуганные куропатки, как горох, рассыпались в разные стороны и неподвижно залегли где попало. Журка же, взмахивая своими широкими крыльями и крича, удалялся в противоположную от своего прежнего дома сторону и наконец исчез за высокими зданиями.
Остаток дня в высоких охотничьих сапогах пробродил я по улицам окраины, заглядывая в каждый двор и все надеясь найти улетевшего журавля. «Не опустилась ли здесь большая птица, як черногуз (как аист)?» — расспрашивал я встречных ребят и взрослых. Но птицы никто не видел. Вероятно, я тщательно исследовал эту часть города. Во всяком случае, когда вечером, печальный и усталый, я возвращался домой, ребята издали узнавали меня. «Опять дядька „як черногуз“ идет», — говорили они друг другу. Безрезультатные поиски продолжались и на следующий день. Только к вечеру, потеряв уже всякую надежду найти улетевшую птицу, я на всякий случай отправился к ее бывшему владельцу. Войдя в калитку, первое, что я увидел, — это Журку. Спрятав голову под крыло, он стоял на одной ноге на вершине выброшенного из конюшни навоза.
— А мы ему второй день ничего есть не даем — все вас поджидаем, — встретил меня хозяин. — Накормишь, так он, пожалуй, сюда летать повадится.
Но мне было не до разговоров. Я спешил перенести Журку и, возвратившись домой без всякой опаски на этот раз выпустил его во двор у сарая. Пока птица утоляла голод, сильно стемнело, и Журка вынужден был вместе с другими моими питомцами зайти в сарай, где и провел ночь. С этого дня птица уже не пыталась улететь к прежнему владельцу и вскоре привязалась ко мне и сдружилась с окружающим ее пернатым населением.
Однажды громкий крик журавля привлек мое внимание. «Что там случилось?» — подумал я и поспешил в конец двора, откуда доносились настойчивые крики птицы. Здесь несколько грядок маленького огорода, сейчас заросшего пожелтевшей растительностью, были обнесены старой рыболовной сетью. В ней, запутавшись в ячейках, беспомощно висела одна моя куропатка, около нее суетился маленький петушок и, с опаской дергая клювом сетку, кричал журавль. Я поспешил взять бьющуюся куропатку в руки. Журка перестал кричать, но вполне успокоился только после того, как я освободил глупую птицу из сетки и выпустил ее во двор.

Журка, видимо, хорошо знал хищных-птиц. Пролетевший низко над двором ястреб-перепелятник или парящий в небе орел всегда привлекали его внимание. Повернув голову набок и зорко всматриваясь в летящую птицу своим красным глазом, журавль громким криком оповещал все живое об опасности. Но и сам он, видимо, боялся этих страшных пернатых и спешил укрыться от них под группой росших во дворе акаций. И если о настоящих хищниках журавль только предупреждал криком, то в отношении серых ворон он прибегал к более активным действиям. «Крри», — издавал он короткий резкий крик и стремительно налетал на опустившуюся во дворе ворону, заставляя ее переместиться на другое место. «Крри», — продолжал он гонять ворону до тех пор, пока та наконец теряла надежду завладеть чем-нибудь съедобным и убиралась подальше от голосистой, настойчивой птицы.
Но совершенно иначе ручной журавль реагировал на появление всего живого, что при своем передвижении пользовалось не двумя, как птица, а четырьмя конечностями. Появление во дворе всех четвероногих — от собаки до мышонка — вызывало в журавле самый энергичный протест, выражавшийся в криках и действиях.
Боясь надоесть читателю, я расскажу только о двух маленьких происшествиях. Одно из них было связано с кошкой, другое — с крошечным мышонком.
Однажды в холодный декабрьский день я выпустил из сарая во двор всю свою живность. Ночью выпал снег и сейчас слабо таял под холодными косыми лучами солнца. Вероятно, наличие снега и холодный ветер вскоре побудили моих питомцев забраться в сарай и рассесться там на толстом слое сена. В это время на росших во дворе акациях копошилась птичка — так называемая большая синица. Неподалеку от жилых построек она разыскала часть шапки подсолнуха, наполненного семенами, и сейчас то и дело появлялась здесь, чтобы завладеть семечком. С трудом справляясь с порывами ветра, она перетаскивала семечко на акацию, вскрывала и съедала его и опять летела за новой добычей. Частые перелеты птички над самой землей вскоре были замечены кошкой. Однако хитрый хищник не стал пытаться поймать синицу близ построек, где негде было укрыться. Кошка залегла на пути перелета синицы, спрятавшись за лежащим поленом, и отсюда внимательно следила за движением птицы. Чем ближе пролетала синица, тем напряженнее прижималась к земле кошка — вот-вот прыгнет. Эту сцену я наблюдал через окно комнаты и только хотел выйти наружу, чтобы выгнать кошку из ее засады и прекратить этим опасную игру, как увидел Журку. Он быстрыми, но осторожными шагами незаметно подошел сзади к кошке, сильно ударил ее клювом в спину и, резко крикнув, подскочил вверх. Как будто подброшенная электрическим током, кошка также подлетела на метр в воздух и затем, не помня себя, кинулась через весь двор к строениям. Летя над самой землей, Журка с громким криком наносил ей удар за ударом, дергая ее за хвост, и прекратил преследование только после того, как кошка скрылась в отдушине подполья. Само собой разумеется, что после этого случая наш двор кошка считала далеко не безопасным местом и не пыталась здесь охотиться за птицами.

В одно прекрасное утро, кормя птиц во дворе, я обнаружил, что у меня совсем мало осталось корму. Тогда, чтобы освободить мешок, я вытряс все остатки среди кормившихся птиц. Вдруг ручной журавль подлетел в воздух и издал такой резкий крик, что я вздрогнул от неожиданности. Все остальные птицы, привыкшие всегда считать крик журавля сигналом тревоги, рассыпались в разные стороны. Недоумевая, я замер на месте и ждал, когда пыль от мешка осядет на землю и позволит выяснить, что случилось. Виновником тревоги оказался маленький мышонок. Я вытряс его на землю вместе с зерном из мешка и этим вызвал переполох среди моего птичьего населения. Преследуемый журавлем, каким-то чудом мышонок избежал гибели и скрылся в норке под стенкой сарая. В течение нескольких последующих дней осторожная птица зорко следила за темным отверстием норки. Вероятно, журавль был уверен, что скрывшийся мышонок вновь появится наружу.
Рано наступает на юге весна. В самом начале марта прилетели скворцы. Почти одновременно с ними в степях появились большие табуны дроф, а спустя неделю я уже видел над городом крикливую стаю гусей. «Когда же полетят журавли? — с некоторой тревогой думал я. — Ведь их появление так или иначе должно отразиться на моем ручном Журке». И вот однажды в яркий солнечный день до моего слуха долетели давно знакомые, своеобразные трубные голоса журавлиной стаи. Заслышав вольных собратий значительно ранее меня, Журка взбежал на высокий погреб и, следя отсюда за летящими птицами, наполнял воздух какими-то особыми призывными криками. Но птицы летели очень высоко. Образовав в голубом небе широкий угол, они, как казалось снизу, едва двигались к северу и, вероятно, не слышали крика моего Журки. Но с этого дня Журку как подменили — он не находил себе места, мало интересовался окружающей его жизнью и то и дело поглядывал в голубую даль. Его беспокойство с каждым днем возрастало. Как-то громкий крик журавля разбудил меня ночью. И хотя я догадывался, в чем дело, но не смог оставаться в постели, оделся и вышел на воздух.
Стояла довольно прохладная весенняя ночь. В закрытом сарае громко и настойчиво кричал мой журавль. В разных направлениях ему откликались журавли-красавки. Видимо, пролетная стая, сбитая с толку криком ручной птицы, разбилась на маленькие группы и теперь, потеряв ориентировку, носилась в воздухе. Порой журавли опускались так низко, что были слышны взмахи их крыльев, и казалось, тогда весь двор наполнялся их громкими, резкими криками. Десятки вольных птиц как будто настойчиво требовали освобождения пленного собрата.
— Ручаюсь, улетит, если вы выпустите журавля из сарая, — услышал я рядом знакомый голос. Разбуженный крикливыми птицами, в валенках и полушубке стоял на крыльце мой сосед.
— Ну и пусть улетает — надоел, — раздраженно ответил я и, пройдя двор, настежь открыл дверь своего птичника. На темном фоне земли тотчас появился светлый силуэт моего Журки. Несколько секунд он топтался на одном месте, затем с криком разбежался по двору и поднялся в воздух. Еще некоторое время крики журавлей раздавались поблизости, затем стали удаляться в сторону и наконец смолкли. А я еще долгое время оставался в конце двора. Мне не хотелось сейчас встречаться и говорить с соседом — ведь я прощался с Журкой, к которому успел привязаться за эту зиму.
«В такую ночь невозможно не улететь», — думал я, вслушиваясь в ночные звуки. Казалось, все огромное темное небо было насыщено свистом крыльев и криками. Видимо, масса разнообразных птиц избрала эту ночь для перелета к северу. Вот четко выделяются чудные, протяжные голоса уток-свиязей, захлебываясь, свистит кулик-черныш, цыркает маленькая птица — лесной конек. Все движется, все спешит в темноте ночи на север, на свою далекую родину.
Осторожный стук в окно разбудил меня утром.
— Вы уж меня не ругайте, что бужу вас так рано после бессонной ночи, — улыбаясь, говорит сосед. — Вы знаете, Журка-то не улетел, а я был вчера уверен, что больше его никогда не увижу. Вон смотрите туда, — указал он в конец двора, когда я вскочил на ноги и прильнул к стеклу. Там у сарая медленно на своих длинных ногах расхаживал Журка. Много раз после этого случая ручной журавль поднимался в воздух и пытался присоединиться к журавлиной стае. Но по непонятным для меня причинам он не улетал совсем, а, проводив стаю, возвращался обратно. Я уверен, что не только большая привязанность, на которую способна эта умная птица, удерживала его у человека. У моего журавля оказался небольшой физический недостаток. Когда он поднимался в воздух, он несколько вбок отгибал вытянутую назад правую ногу. При длительном полете она могла мешать прямому движению. Быть может, этот маленький недостаток не позволял ему присоединиться к диким собратьям.
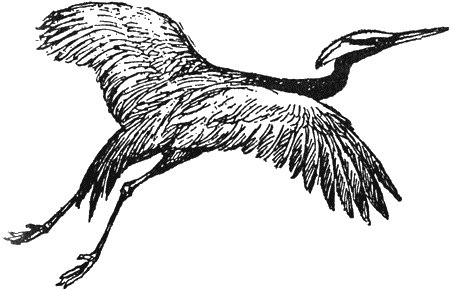
Уезжая с Украины, я не мог расстаться с Журкой и привез его в Москву. Сначала он жил в московской квартире, потом на даче. Позднее я передал его зоопарку, где он жил в загоне с другими журавлями. При моем посещении он всегда узнавал меня, и когда я удалялся от загона, он поспешно шел вдоль изгороди, а затем кричал, пока я не исчезал из виду.
В заключение я уж позволю себе коротенько познакомить читателя вообще с журавлями. Журавли широко известны населению нашей Родины. Благодаря громким голосам и перелетам крупными стаями их удается часто видеть не только жителям деревни, но и жителям большого города. Но с другой стороны, оказывается, что журавлей как целую обособленную группу очень плохо знают даже охотники, а образ жизни и распространение некоторых видов слабо известны и ученым-орнитологам, то есть людям, специально занимающимся изучением птиц.
В пределах нашей страны встречается семь гнездящихся видов журавлей; восьмой вид — журавль австралийский — случайно залетающая к нам птица. Журавль-красавка, которому посвящен мой рассказ, — самый маленький представитель. В противоположность всем другим журавлям, он не болотная птица и широко распространен в степях нашей Родины. Уж поскольку мы коснулись самого мелкого журавля, нельзя обойти молчанием самого крупного нашего представителя — уссурийского журавля; он обитает в болотах Уссурийского края. Наиболее широко распространенный и обыкновенный вид — журавль серый. Это та самая птица, которую мы часто наблюдаем во время пролета или слышим ее крик по болотам в средних частях страны. На него похож журавль даурский, населяющий болота Сибири от Забайкалья на восток до Амурского и Приморского краев. В северо-восточном углу — на Чукотском полуострове и в Анадырском крае — гнездится калифорнийский журавль, обитающий также в смежных частях Америки.
Но особенно интересны среди журавлей самый светлый по окраске оперения представитель — белый журавль, или стерх, и самый редкий и темный по окраске оперения черный журавль. Географическое распространение и образ жизни этих двух редких видов остаются поныне почти неизвестными.
Глава седьмая
УНИВЕРСИТЕТ И МОИ СТРАНСТВОВАНИЯ
— Не будешь же ты только охотником, — сказал мне однажды приятель.
Мы сидели с ним у костра, на гриве среди торфяного болота. Солнце успело уже высоко подняться над горизонтом, заливая веселыми лучами желтую прошлогоднюю траву, темные пни, молодые сосенки. Прохладное весеннее утро сменялось теплым безветренным днем. Вдали за обнаженным, прозрачным березняком ворковал тетерев, да в голубом воздухе свистел кроншнеп.
— Что и говорить, замечательная вещь — охота, — продолжал приятель, снимая с костра котелок. — Но охота охотой, однако пора подумать и об учебе.
За последнее время разговор о поступлении в высшее учебное заведение особенно часто возникал между нами, но, к сожалению, каждый раз кончался разногласием, почти ссорой. Вот и в это чудное утро, на охоте, когда хотелось отдохнуть от всего, подышать воздухом, он с первых же слов приобрел неприятный характер.
— Не делай глупостей, — продолжал приятель. — Говорю тебе, поступай в технический вуз. Пойми наконец, что пять лет учебы — и ты инженер, вполне обеспеченный человек, и тогда занимайся своими птицами, охоться сколько тебе угодно. Ведь за то, что ты будешь знать, как живут звери и птицы, тебе денег платить не будут.
— Бросим говорить об этом, — перебил я собеседника. — Пойду туда, куда меня тянет, — не хочу себя ломать только ради какого-то материального благополучия. Лучше скромно жить, да зато заниматься любимым делом.
— Ну и возись со всякой дрянью, со своими мышами и лягушками — увидишь, что из этого выйдет. Вспомнишь мои слова — пожалеешь, да поздно будет, — махнул он рукой, показывая этим, что разговор между нами исчерпан.

Много воды утекло с того времени, но и сейчас я частенько вспоминаю этот разговор на охоте. И вспоминаю его с улыбкой, так как свое дело, свою профессию и сейчас не променяю ни на какие блага в мире.
После тишины лесов и полей, где бойкий крик пестрого дятла или пение жаворонка вовсе не мешают нам улавливать едва слышные звуки и шорохи, невообразимым шумом и суетой встретил меня Московский университет. Все куда-то спешили, на ходу сообщали друг другу какие-то новости, объясняли что-то, смеялись. Вот группа юных студенток-первокурсниц. Человек двадцать их сгруппировалось у какого-то объявления. Все они говорят разом, стараются перекричать друг друга, и никто не слушает, что говорит сосед. Ну что тут можно понять, разве можно в чем-нибудь разобраться? Но, вероятно, это и есть та жизнь, о которой читаешь в книгах, — дружная жизнь шумного коллектива студентов. Надо только суметь примкнуть к нему, и тогда все сразу наладится, пойдет своим чередом. Настойчивый, громкий звонок прерывает мои размышления. Толпа студентов разом отрывается от доски объявлений и, продолжая перекидываться фразами и смеяться, шумно рассаживается в просторной аудитории. Захваченный общим потоком, за ними иду и я. Стихает аудитория, начинается лекция, и с первых слов профессора я догадываюсь, что опять попал не туда, куда нужно.
Часто и подолгу бродя один с ружьем и собакой, я уже давно научился ориентироваться в незнакомой местности. Бывало, забреду в такую глушь, что сразу понять не могу, куда забрался — лес кругом, полное однообразие. Но для меня это так обычно. Не страшно заночевать в незнакомой местности, но при большом желании можно и выбраться. Надо только быть немножко внимательным. И вот я начинаю разбираться в деталях. Интересно это. Обращаю внимание, куда дует ветер, где солнце, с какой стороны стволы деревьев покрылись зеленым мхом. А тут высоко в воздухе, перекликаясь друг с другом, пролетит стайка небольших куличков, и после этого сразу все станет ясно. Уже уверенно иду я по незнакомой местности в выбранном направлении и обязательно выйду туда, куда нужно.
Но, несмотря на эти навыки легко ориентироваться в природе, попав в университет, я почувствовал себя совершенно беспомощным. Мне как-то не удавалось достаточно быстро разобраться в массе объявлений, в расписаниях лекций и практических занятий. В связи с этим я часто по недоразумению посещал лекции, которые меня, в сущности, мало интересовали, и, напротив, не попадал на те занятия, которые были необходимы. К счастью, это продолжалось недолго. Как и другие новички, я вскоре перезнакомился со студентами-первокурсниками и завел товарищей. Со смехом и удовольствием вспоминаю знакомство со своим другом и спутником по экспедициям — Сергеем Наумовым. Это случилось в самое первое время моего пребывания в университете.
«Не совсем обычный студент, — подумал я, пристально рассматривая вошедшего в аудиторию парня. — И почти наверное, судя по его костюму, — охотник». Это был высокий блондин с длинными, зачесанными назад волосами. Простая защитная косоворотка, здоровенные, с длинными голенищами охотничьи сапоги и какая-то естественная непринужденность заставили меня обратить на него внимание. «Интересно знать, охотник он или только, оригинальничая, носит костюм охотника», — проводил я его глазами и уткнулся в свою работу.
Кончилось занятие. Я только вышел на широкий университетский двор, как большими решительными шагами ко мне подошел тот самый студент.
— Я Наумов, — отрекомендовался он, протягивая мне здоровенную руку. — Я вашего папашу знаю и вашу собаку сеттера знаю — на выставке встретились. Давайте познакомимся.
Мое предположение оправдалось: Наумов действительно оказался большим любителем-охотником, и это способствовало нашей дружбе.
Не успело закончиться первое полугодие, как мы с Сергеем были посвящены во все особенности и детали университетской жизни. Мы выяснили, что ряд студентов-старшекурсников интересуется не только сдачей экзаменов и зачетов. Они уже ведут настоящую научную работу и ежегодно, то самостоятельно, то под руководством одного из профессоров кафедры, выезжают в далекие научные экспедиции. В то время особенно интересовала московских зоологов Средняя Азия. Из этих поездок участники экспедиций привозили большие и ценнейшие коллекции. Как это интересно! Исследования в природе и собирание недостаточно изученных зверей и птиц — это именно то, о чем я мечтал до поступления в высшее учебное заведение. «Надо как можно лучше освоить технику съемки шкурок и набивки научных тушек», — решил я, глядя на разложенные по столам коллекции. Несколько дней спустя я уже получил разрешение практиковаться в препараторской мастерской под руководством опытного препаратора. В то время единственным препаратором при зоологическом музее университета был старик Цельмин; звали его Август Карлович. Во многих отношениях Август Карлович был замечательным человеком. В молодости, живя в Латвии, он сначала пристрастился к охоте, потом до тонкости изучил дело препаратора. С этой специальностью он уже окончательно переселился в Москву и, работая то в одном, то в другом музее, сопровождал в экспедициях наших ученых.
Иной характер носили тогда научные экспедиции. Проникновение в далекие окраины русской земли давалось только смелым и энергичным людям.
Представьте себе, что вам сейчас захотелось обязательно побывать на Крайнем Севере, увидеть океан, тундру, ее обитателей. Ну что же — это не так сложно. Нужны только желание и сравнительно небольшие средства. Вы со всеми удобствами усаживаетесь в глубокое мягкое кресло, и «стальная птица» поднимает вас в воздух и в короткое время переносит на громадное расстояние. Посмотрите в окно. Где-то далеко внизу медленно уползает назад земля, сначала хвойные леса Севера, потом безбрежная тундра. Постепенно самолет спускается ниже и вскоре летит на высоте ста — двухсот метров. Хорошо видны выступающие среди воды кочки, камни, шапки лишайника. Вот стая гусей-гуменников отдыхает на берегу мелководного водоема. Самолет для них совсем не диковина. Они лениво склоняют набок головы, смотрят в прозрачное небо. Какое им дело до пролетающей «стальной птицы»? Но вдруг гуси настораживаются, сбиваются в тесную группу. Прямо на них, меняя свои очертания, бежит по земле тень самолета. Ближе, ближе… С гоготом поднимаются птицы в воздух и крикливым косяком летят в сторону — туда, где до самого горизонта широко раскинулась то ровная, то холмистая тундра, где во всех направлениях, отражая бледное небо Севера, блестят озера.

Еще несколько летных часов — и мы на месте. Но не среди безлюдных пространств Севера, а на одной из факторий, или на маяке, где прилетевших встречают радушные люди, где есть радио, теплое помещение и запасы продуктов. Разве не приятна и не интересна такая экскурсия?
А в то время?..
Загадочным, недоступным казался Север. Страшен был и далекий путь. Тысячи километров бездорожья отделяли города и селения от берегов Ледовитого океана. Глухая тайга, топкие болота криволесья и необъятная тундра преграждали дорогу и пугали своей беспредельностью даже смелого человека. Но тем интереснее русским ученым казался Север. Жажда знания окраин русской земли манила к себе, заставляя предпринимать долгие, полные лишений и опасностей экспедиции. Одним из таких предприимчивых ученых был замечательный знаток птиц нашей Родины — Сергей Александрович Бутурлин. Он не раз посещал самые отдаленные уголки сибирского Севера, неизменно привозя из своих поездок большие коллекции птиц и совершенно новые сведения об их жизни. Частым спутником Сергея Александровича и был препаратор Август Карлович. Когда я попал к нему в мастерскую в качестве практиканта, он был уже стариком и любил вспомнить и рассказать о своем прошлом.
— Семьи не имел, свободным человеком был — почему не поехать даже на год поохотиться в тундру, — начал он однажды, прерывая работу и закуривая. — С Бутурлиным хорошо ездить — спокойно. Заботливый, внимательный человек Сергей Александрович. И добрый. Когда мы вернулись с ним из последней поездки, он мне отличное ружье подарил. Да, в экспедициях лучше товарища найти трудно. Одно плохо — горяч был. Как вспылит — прямо беда, себя не помнит.
И вот, чтобы пояснить свои слова, Август Карлович рассказал мне маленький эпизод из своей прошлой жизни.
В одно лето Бутурлин и его препаратор Цельмин, расставшись со спокойной жизнью и друзьями, спускались на лодке вниз по многоводной реке Колыме. Течение могучей сибирской реки быстро несло просторную лодку, нагруженную продовольствием, спальными мешками и прочей экспедиционной утварью. По сторонам уплывали назад берега, одна за другой сменялись картины. Сергей Александрович сидел на корме лодки, правил веслом и писал свой путевой дневник. Препаратор тоже занимался делом. Он не спеша снимал шкурки с птиц, добытых на последней стоянке.
«Смотрите, Август Карлович, прямо на нас впереди летят какие-то птицы, — нарушил молчание Сергей Александрович. — Это гагары, берите скорей ружье!»
Препаратор не спеша отложил работу, взял ружье, сунул в него пару патронов и приготовился к выстрелу. Прямо на лодку невысоко летели две крупные птицы. Они вытянули длинные шеи и часто махали короткими крыльями.

Tax… тах — грянули два выстрела, но, увы, без всякого результата. Обе гагары, видимо не получив даже ранения, продолжали лететь в прежнем направлении. «Смотрите вперед, Август Карлович, — еще летят», — предупредил Бутурлин своего спутника. И действительно, далеко впереди показалась еще пара птиц, за ней небольшая стайка, потом опять пара, а за ними еще и еще. Все гагары летели вверх по течению, придерживаясь средней части реки, по которой плыла лодка. Tax… тах — вновь грянул дуплет.
Tax… тах… тах… тах… — с короткими интервалами еще и еще раз раздавались выстрелы.
Август Карлович, едва успевая перезаряжать свою двустволку, стрелял и стрелял по близко налетающим птицам. Но что за странность, какая досада! — стрельба не достигала цели. Над рекой стлался пороховой дым, тяжелые войлочные пыжи высоко взлетали в воздух и падали в воду. Иной раз обсыпанные дробью гагары взмывали над лодкой, но уже в следующую секунду вновь выправлялись и спокойно летели дальше.
«Август Карлович, да вы с ума сошли, что ли?! — вдруг не своим голосом закричал Бутурлин. — Нельзя же так бессовестно мазать. Расстреляете дробь и порох, где мы их возьмем, чем в устье стрелять будем?»
«Я хорошо целюсь, правильно целюсь, Сергей Александрович, но не имею успеха, не могу убить этих птиц», — пытался оправдываться препаратор. «Неправда! — вновь закричал Бутурлин. — Вы совсем не целитесь, на таком расстоянии нельзя промахнуться, вы забыли, где мы находимся, вы пуляете, как мальчишка…»
С этими словами Бутурлин бросил весло и записную книжку, выхватил ружье из рук своего спутника и, встав на одно колено, приготовился к выстрелу. Пары и небольшие группы гагар все еще продолжали пролетать над плывущей вниз по течению лодкой.
«Вот смотрите, как надо стрелять! — повернулся на мгновение Бутурлин к смущенному и растерянному Августу Карловичу. — Смотрите», — и он вскинул двустволку. Будучи превосходным стрелком, Сергей Александрович, конечно, был уверен в своей правоте и спешил доказать это на деле. Но эффект получился обратный. Дуплет и на этот раз не дал никаких результатов. Обе птицы после выстрелов благополучно продолжали свой путь. Дрожащей рукой Бутурлин вынул пустые патроны, отбросил их в сторону и зарядил новые.
Tax… тах… — вновь прокатились выстрелы, но, увы, опять безуспешно. И тогда за ними последовала настоящая канонада. Клубы дыма ползли над водой, над лодкой взмывали в воздух гагары, но, пережив короткий испуг, невредимые, продолжали лететь вверх по течению. А на корме, подобрав брошенное весло и выправив лодку, скромно сидел препаратор. Ему не хотелось показывать, что на этот раз он был рад в душе неудаче своего горячего товарища-спутника.
— Что же вы сказали Сергею Александровичу, когда он кончил свою пальбу? — с интересом спросил я рассказчика.
— Что сказал? Ну что я мог сказать? Ничего не сказал, — развел руками Август Карлович.
Для читателей, безусловно, остается загадкой, почему стрелки сделали так много промахов. Не вполне ясно это и для автора книги. И в моей практике были такие случаи, когда хорошо бьющее ружье без видимой причины временно теряло свои боевые качества. Возможно, это было связано с плохим снаряжением патронов или с изменениями температуры и влажности воздуха, при которых бой ружья иногда резко меняется.
Но перейду к своему основному рассказу. В течение нескольких месяцев, как только у меня выкраивалось свободное время, я шел к препаратору и под его руководством работал над птичьими шкурками.
Одновременно я увлекся чтением специальной литературы. Как много я нашел здесь интересного, увлекательного! Описания многолетних путешествий Северцова и Пржевальского особенно нравились мне — от них я не мог оторваться. Их сменили более поздние работы, посвященные изучению степей и пустынь Средней Азии и многих других частей нашей необъятной Родины. Прочитанные книги о путешествиях русских ученых, доклады студентов-старшекурсников о научных поездках и рассказы старика препаратора не прошли бесследно. Меня неудержимо потянуло в Среднюю Азию. «Хотя бы несколько дней провести в этой стране, повидать природу ее своими глазами, — мечтал я. — Ведь для такой поездки не нужны большие средства, а немного достать, вероятно, сумею».
Прошло месяца два, и мне улыбнулось счастье.
— Хочешь подработать? — остановил меня однажды председатель домоуправления.
— Конечно, хочу, — не задумываясь, ответил я.
— Срочно нужно очистить все наши крыши от снега — хорошо заплачу.
В течение четырех дней я трудился с утра до вечера, а когда наши крыши были очищены, предложил свои услуги соседнему домоуправлению. Сколотив таким образом небольшую сумму, я и предпринял свою первую поездку в Среднюю Азию.
Не скажу, чтобы эта поездка была осуществлена вполне удачно. После утомительного пути я вышел из вагона на маленькой станции между Ташкентом и Самаркандом и поселился на краю станционного поселка в семье «водокачника». Отсюда ежедневно ходил в камыши и тугайные заросли, где в изобилии водились фазаны, или ездил на охоту на маленькой лодке. Привольно, без всяких забот, но, к сожалению, как-то особенно быстро прошли две недели. Пора было думать о возвращении в Москву.

На обратном пути, делая пересадку, я задержался в Ташкенте. Здесь я обратил внимание на замечательных маленьких голубей — туркестанских горлинок. Как и наши сизые голуби, они в изобилии населяли город, массами встречаясь на базарной площади и близ зерновых складов.
«Обязательно надо поймать и живыми привезти в Москву, — решил я, рассматривая изящных птичек. — Но как это сделать, как поймать птиц в многолюдном чужом городе?..» После долгих размышлений я обратился со своей просьбой к сторожу одного из городских рынков. Он согласился на мои условия и выполнил обещание. Незадолго до отправления поезда сторож принес на вокзал маленькую корзинку и мешочек с просом. В корзинке оказалась не одна пара, как я рассчитывал, а две пары горлинок. Это одновременно и обрадовало и огорчило меня. Дело в том, что сторож потребовал двойную плату. Конечно, за две пары горлинок я охотно заплатил бы вдвое дороже, но у меня не хватало денег; пришлось отдать все и остаться без единой копейки. Досаднее всего, что я, купив на дорогу сливочного масла, не успел купить хлеба. В течение четырех дней пути, незаметно для пассажиров-соседей, я завтракал, обедал и ужинал одним маслом. Не скажу, чтобы это было приятно. Года два после первой поездки в Среднюю Азию один вид масла вызывал у меня тошноту. Как видите, первая поездка была, так сказать, первым неудачным блином. Но это нисколько не сказалось на моем стремлении к полевой экспедиционной работе.
Много лет прошло с того времени, когда я впервые пристрастился к охоте, взялся за полевую исследовательскую работу, за добывание живых диких животных. Где только я не побывал за этот период своей жизни!
С рюкзаком и ружьем за плечами я прошел пешком много тысяч километров. И, несмотря на разнообразие природы, с которой я сталкивался за эти годы, я живо сохранил в памяти все, что пришлось видеть. Иной раз разверну карту и, не замечая времени, часами брожу по ней глазами.
Вот на реке Урале стоит город Чкалов. Какое великолепие здесь, в степях, в весеннее время! А там, далеко на юго-востоке, жаркий Ташкент. Велики, безбрежны кажутся степи и пустыни, отделяющие эти два города. Но ведь эти пространства в свое время мы с моим другом Сергеем прошли пешком. И в памяти одна за другой воскресают картины прошлого, вспоминаются случаи из экспедиционной жизни. О них, хотя бы частично, я сейчас и расскажу читателям.
Глава восьмая
ЧЕТВЕРОНОГИЙ ДРУГ
Во время поездок меня особенно интересовали птицы. Чтобы познакомиться с малоизвестной мне птицей, посмотреть, как она живет в природе, чтобы добыть для коллекции несколько экземпляров, я готов был переносить любые лишения и невзгоды. Но, увлекаясь своей полевой работой, я не любил, чтобы меня стесняли даже близкие мне люди. Ведь у каждого свои привычки. Лучше всего я себя чувствовал, когда оставался один и знал, что никто не помешает моим наблюдениям. Одного мне недоставало в поездках: верного друга и помощника — хорошей собаки.
Однажды, возвращаясь в Москву из горной Армении, я из вагона поезда увидел турачей. Спугнутые шумом поезда, птицы поднимались от полотна железной дороги и, отлетев в сторону, садились в кустарники. Этого было достаточно, чтобы я сошел на ближайшей маленькой станции. Мне захотелось добыть несколько турачей для коллекции. Полдня я пробродил с ружьем по колючим зарослям — мне окончательно не везло, я сумел застрелить только одну птицу.
— А турачей-то у вас, по-видимому, маловато, — разочарованно сказал я встретившемуся мне колхознику-азербайджанцу.
Тот с усмешкой посмотрел на меня:
— Собака есть?
— Нет, собаки у меня нет.
— Собака нет — турач нет, собака есть — турач полно, — ответил мне собеседник.
И верно. Я сам все сильнее стал сознавать, что без четвероногого помощника мне не обойтись. Как бывает обидно, когда после многих трудов убьешь какую-нибудь редкую птицу, а твоя добыча упадет в такое место, где ее почти невозможно найти. Однажды я выкосил клочок запущенного луга (а за косой мне пришлось идти в поселок за десять километров), чтобы отыскать маленькую, но драгоценную для меня птичку.
Разве пришлось бы мне так мучиться, если б у меня была собака?
Одним словом, после бесчисленных неудач и огорчений я твердо решил завести собаку. Но какой породы собаку мне выбрать? Над этим надо было серьезно подумать. Я, например, люблю сеттеров. Понятливы они и превосходным чутьем обладают. Мой отец всегда с ними охотился, предпочитая сеттера всякой другой собаке. Однако эта порода не подходила для моей экспедиционной работы. Собаки эти слишком крупны. Перевозить в поезде сеттера трудно — много места он занимает. Кроме того, у сеттера слишком горячий поиск. В жаркую пору побегает пес часа два-три галопом, красивые стойки делает, а потом выдохнется, высунет язык… Тогда и охоте конец. Бредет сеттер сзади и, как говорят охотники, «шпоры чистит», то есть тыкается носом тебе в ноги. Нет, не годится сеттер для моих поездок.
А что, если взять первосортного фокса? Собака подвижная, маленькая и в то же время выносливая. Работы фокса я в то время не знал, но все мои друзья-охотники отзывались о фоксах весьма положительно. Подумал я, подумал и наконец приобрел прекрасного щенка фокса — звали его Бирка. Песик был шустрый и понятливый. Как только он немного подрос, я взял Бирку с собой в экспедицию в Казахстан.

Нужно было пройти по пустыне Кызылкум на верблюдах от русла реки Джаныдарья до станции Арысь. Путь длинный и тяжелый, а для собаки — хорошее испытание. С первых же дней я убедился, что Бирка вынесет любое путешествие. Правда, впервые увидев верблюдов, он прямо обезумел от страха. Верблюдов привели во двор дома, где мы жили, готовясь к отъезду в пустыню. Бирка в тот момент сидел во дворе на привязи. С перепугу рванулся он изо всей силы, разорвал цепь и стремглав кинулся в дом. Забился под кровать и дрожит всем телом. С трудом я извлек перепуганного пса из его убежища.
Но спустя два дня, когда мы уже шли под палящим солнцем по степям на запад, углубляясь в пустыню, Бирка вел себя превосходно. Своим собачьим умом он понял, что верблюд — зверь для него не страшный, а в некоторых случаях может быть и полезным. Хитрый пес бежал не сзади, как обыкновенно бегают собаки, а под одним из верблюдов, укрываясь от жестокого солнца.
Окончили мы переход — пришли в Арысь, и оттуда я поехал в горы Тянь-Шаня подышать свежим горным воздухом после кызылкумского пекла. Ну, конечно, и Бирку взял с собой. Вот здесь-то он себя и показал с самой невыгодной стороны: я убедился, что Бирка не помощник для меня, а обуза.
Брал я своего фокса каждый день в горы, где во множестве обитали красные сурки. Залезет пес в нору и сидит там часами, сурка облаивает. Я томлюсь у норы — жду, когда Бирка вылезет, время напрасно теряю, но не бросить же собаку!
Это еще не беда. Фокс — собака норная, так оно и должно быть. Не нравилось мне в Бирке другое. Уж очень он любил драки. Как завидит чужую собаку, сейчас же начнет с ней грызться. А в Киргизии собаки страшные — киргизские овчарки. Такой могучей собаке ничего не стоит загрызть маленького фокса.
К моему великому огорчению, во дворе у соседа на цепи сидела овчарка, бегала вдоль протянутой проволоки. Вот Бирка и стал ходить к ней в гости, чтобы подраться. Первый раз отодрала овчарка маленького забияку ужасно. Отлеживался Бирка дня два, стонал целые ночи, зализывал раны, а затем, улучив минутку, опять улизнул на соседский двор. На этот раз овчарка изгрызла его до полусмерти. Но не угомонился и тут Бирка.
Однажды слышу я хриплое рычание, взвизгивание. Ну, думаю, опять собаки грызутся! Схватил я метлу — и бегом во двор к соседям. Прибежал туда, да так и застыл от удивления. Смотрю я и глазам не верю: мой фокс по всему двору гоняет здоровенную овчарку, кусает ее и все норовит в горло вцепиться. Овчарка — собака сильная, увертливая, но цепь мешает ей уйти от Бирки. То сбросит с себя овчарка вцепившегося фокса, то в сторону отскочит, то в будку залезет. Но Бирка от нее не отстает ни на шаг, даже лезет в будку и всаживает свои клыки в тело противника.
Едва я отогнал Бирку метлой от соседской собаки. И сейчас мне непонятно, почему на этот раз так смело вел себя Бирка. После этого случая овчарка стала бояться фокса. Как завидит его, начинает беспокойно метаться по двору, искать защиты у своей хозяйки.
Не давал мне покоя Бирка и во время горных походов. Завидит табун баранов, пасущихся на зеленых увалах, и к нему кинется. Знает ведь, что табун охраняют собаки-овчарки. Пока прибежишь на место происшествия — там уже творится что-то невероятное. Перепуганные бараны рассыпались куда попало, собаки дерут Бирку, а он в каком-то упоении, как пиявка, впивается зубами в своих врагов.
Надоели мне Биркины драки до крайности. Помощи от пса мало, а беспокойства — хоть отбавляй. Однако расстаться с фоксом мне было жалко — привык я к нему. Когда мы вернулись в Москву, вдруг Бирка сбежал, оставив на память мне свою родословную. Сказать по правде, я был этому даже рад. Поискал немного Бирку и стал думать о приобретении новой собаки.
Вот тогда-то на смену Бирке и появился у меня Гаудо, или Гаудик, ставший моим верным другом и спутником в путешествиях. С первого взгляда он очаровал меня своей внешностью. Принадлежал Гаудик к породе оленегонных лаек.
Маленький, пушистый, хвост калачиком, ушки торчком, глаза быстрые и такие умные, — кажется, все понимает пес, только что говорить не умеет.
В тундрах нашего Севера оленегонные лайки выполняют ответственную работу — пасут оленей. Отобьется олень от стада в сторону, собака вмиг его назад вернет да еще укусит как следует в наказание за беспорядок. Если у такой пастушьей лайки проявляется интерес к охоте, оленеводы бьют собаку смертным боем: знай свое дело, а охотой не смей заниматься! Однако среди оленегонных лаек нередко встречаются отличные охотничьи собаки: чуткие, зоркие и неутомимые. Я все это знал, но, наученный Биркой, без пробы не решился взять Гаудо и, наскоро снарядившись, выехал с собакой в глухую деревушку, затерянную в лесах Калининской[] области.
Тихая осень. Неподвижен прохладный воздух. Куда ни глянь — тянутся моховые болота с корявыми низкорослыми сосенками, а среди них, как острова, темнеют ельники — релки. Только по далеким краям болота пестрит разноцветной листвой мелколесье — краснеет осина, желтеет береза.
Изредка тревожно, по-осеннему, цыркнет маленькая птичка — лесной конек, застучит по сухому стволу дерева дятел — и опять тишина.
Мы с Гаудо в лесу еще до рассвета. С ружьем наготове осторожно брожу я по краям релок, пересекаю осинники, березовые перелески, чутко вслушиваясь и всматриваясь вокруг. Гаудо я почти не вижу. Он серьезно занят своим делом. Появится на мгновение из чащи, взглянет на меня, и опять я брожу один, не видя моего четвероногого спутника.

Но вот издали доносится лай собаки. Пролаяла она раз, другой и замолчала. В густом осиннике хлопают крылья тяжело взлетающей птицы — и снова лай, азартный, звучный. По-звериному осторожно, стараясь, чтобы сухая ветка не хрустнула под ногой, чтобы не зашелестел палый лист, я спешу туда, куда зовет меня мой четвероногий приятель. Кончился густой осинник, на пути — освещенная солнцем прогалинка, на кочках рдеет брусника, а дальше — отдельные ели, большие осины и редкое мелколесье — далеко видно…
А вот и Гаудо. Его чуткие уши издали заслышали мою осторожную поступь, и, чтобы отвлечь внимание птицы, пес лает еще азартнее, взвизгивает, роет землю и вдруг, со злобой бросившись на молодую сосенку, треплет ее тонкие ветки своими зубами. По глазам собаки, по направлению ее лая я стараюсь догадаться, где скрывается птица.
«Там он, там он, — лает Гаудик. — Там он, там он», — повторяет пес, обежав дерево с другой стороны. Ну, теперь все ясно. Лесной великан — глухарь — сидит на дереве и с недоумением следит за своим смешным противником. Глухарю надоела эта комедия, и, наклонив голову, он как бы дразнит собаку: «Лай сколько тебе влезет, все равно не достанешь».
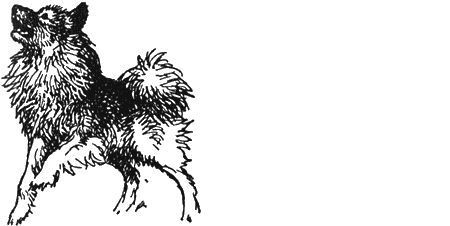
Но гремит выстрел, сыплются сбитые дробью листья, и пораженный неожиданным грохотом глухарь срывается с места. Тяжело хлопая крыльями, он снижается почти до самой земли, но затем, выровнявшись в воздухе, летит над болотом. Был момент, когда Гаудик чуть было не поймал на лету глухаря. Он подпрыгнул, как мячик, но щелкнул зубами в воздухе и тотчас же с отчаянным воплем кинулся за глухарем по болоту.
От этого отчаянного вопля по моей спине пробежали мурашки. Экая, право, досада — как это я промахнулся! Не гожусь, наверное, для такой охоты. Руки дрожат, зубы мелкую дробь отбивают, патрона из ружья не могу вытащить. А лай оборвался где-то на болоте за корявыми соснами. Не успел, видимо, Гаудик вновь «посадить» птицу на дерево — подвели маленький рост и короткие ноги, не угнался пес за летящей птицей, потерял из виду добычу.
Наконец я все же вытащил пустой патрон и, вложив новый, поспешил в том направлении, куда убежал Гаудик. Не прошел и сотни метров, как слышу — снова лает Гаудик. Стал я подходить на лай собаки и вскоре опять увидел лесного великана на дереве. Только на этот раз глухарь уже не дразнил собаку, а сидел чутко, напряженно, перья плотно прижаты к телу. А Гаудик, умница, словно шар, под деревом катается, лает, визжит.
Выстрелил я во второй раз — убил птицу. Ломая сухие сучья, упала она под дерево, забила широкими крыльями.
«Умница ты этакая», — в восторге гляжу я на Гаудо. Сгреб я его в охапку, поднял и расцеловал его пушистую голову. А пес в ответ на мои ласки как зарычит да схватит меня за левое ухо, так кровь сразу и выступила. Растерялся я, выпустил собаку из рук, за укушенное ухо держусь.
А Гаудик бегает кругом, носом струи воздуха ловит. Побегал он так, пометался, глядь — и второго глухаря неподалеку поднял и вдогонку за взлетевшей птицей, как пушистый шар, укатился по болоту. Понял я тогда, почему Гаудик на мои ласки ответил такой злобой. Некогда ему было, хотелось и другую птицу не упустить. Чуял пес, что добыча близка, где-то рядом, а тут новый хозяин со своими нежностями лезет — работать мешает. Нашел тоже время…
Спустя полчаса убил я из-под моей новой собаки второго глухаря, потом в одного промахнулся. Пошли дальше, нашел Гаудо белку, потом рябчиков. Шутя я с ним охотился, легко, дичь будто сама в сетку лезет. Сетка все тяжелее и тяжелее становится, режет плечи, мешает подходить к дичи. Сбросил я ее на минутку, а когда нужно было положить в сетку новую добычу, никак не мог вспомнить, где же я сетку оставил. Лес кругом однообразный, примет никаких нет.
Объяснил я как мог собаке про свою беду. А Гаудо вроде как подсмеивается надо мной. Слушает, что я ему говорю, а морда такая плутовская. Все понял пес — видимо, раньше обучен этому был. Побежал сначала по ветру, потом метнулся в сторону и, поймав нужную струю воздуха, привел меня к сетке с дичью.
Вернулись мы в деревушку. Гаудик веселый, довольный, и утомления не видно, точно на охоте и не был. По дороге к дому загнал он на ворота кошку и давай на нее лаять. Только лает совсем по-иному, не серьезно, как на охоте, а балуясь, с озорством. После этой охоты все мои опасения рассеялись.

По своему нраву Гаудик оказался не пастухом, а настоящим охотником. Убедившись в этом, я решил приобрести собаку.
Вот мы и в Москве. Гаудик быстро привязался к моей семье. Все полюбили Гаудо за деликатность и веселый нрав. Даже непонятно было, откуда у полудикой собаки Севера могли взяться те навыки, которыми обладал Гаудик. Малышей он не трогал, позволяя им теребить себя за густую шерсть, но не любил ласк взрослого постороннего человека. Он держал себя независимо и сразу давал понять, что терпеть не может никакой фамильярности.
Если в квартире раздавался один звонок, значит, к нам пришли — надо встречать; два, три звонка Гаудика не интересовали — соседские гости его не касались. Когда все дома, в квартиру мог войти и выйти из нее чужой. Но если квартира пустая, Гаудик каждого встречал лаем, а уж если человек вошел, то назад его пес ни за что не выпустит. Все вещи в квартире для посторонних неприкосновенны — их нельзя трогать.
Брать в руки, переставлять с места на место любой предмет имели право только члены нашей семьи; посторонний же человек не должен ни к чему прикасаться руками. При этих условиях положение гостя оказывалось весьма затруднительным. Протянет кто-нибудь из посторонних руку, чтобы посмотреть любую вещь в нашей квартире, например лежащего на диване плюшевого медвежонка, и, неожиданно наткнувшись на пушистый мех собаки, отдернет руку обратно. И в тот же момент Гаудик вновь исчезнет под кроватью или в другой комнате и оттуда следит за поведением гостя. Ведь ему необходимо успеть появиться между вещью и рукой, как только рассеянный человек опять нарушит правила внутреннего собачьего распорядка. После ухода гостя Гаудик вздохнет свободнее и, как после трудного дела, отдыхает.
Когда семья садится за стол, Гаудик отправляется в другую комнату и терпеливо ждет, пока обед кончится. Он знает, что после обеда получит вкусные вещи.
Гуляя по тихой улице, можно побегать; по шумной улице, где проносятся автомобили, необходимо степенно идти у левой ноги хозяина. Маленьких котят обижать нельзя, однако блох у них искать можно. Взрослые кошки — это враги, но квартирные кошки хоть и кошки, но свои: пугать их можно, а трепать нельзя. Кошки двора и улицы, по понятиям Гаудо, вне закона. При случае можно драть их сколько угодно. Но даже на коварного врага — кошку — надо нападать только открыто.
Однажды я вышел с Гаудо во двор, а там стоит кошка — смотрит в другую сторону. Гаудик подошел к ней совсем близко, но кошка так была чем-то увлечена, что ничего не слышала. Подождав немного, пес ткнул ее носом в бок. Обернулась кошка да как выгнет спину и зашипит. Тут уж Гаудик медлить не стал и дал ей трепку. Он всегда смело бросался, не закрывая глаз, как другие собаки, хотя при схватке с кошкой очень легко потерять глаза.
Но как Гаудика раздражали наши домашние кошки — представить трудно. Нет у них, по-видимому, никаких строгих правил, а если они и существуют, то кошки могут от них отказаться при первом удобном случае. Главное же, Гаудик смотрел на всех кошек как на самых отчаянных воров, готовых украсть все, что пригодно в пищу. Живя, в общем, довольно мирно с нашей домашней кошкой, Гаудик неусыпно следил за ее поступками и при всякой ее попытке вскочить на обеденный стол или украсть что-нибудь съестное заставлял ее спасаться бегством в вертикальном направлении. Вот как-то я и был свидетелем одного из таких случаев. Удобно усевшись на кушетке, я читал книгу, порой бросая взгляд в соседнюю комнату. Мне была видна отсюда застекленная балконная дверь и проходящая под ней широкая цементная ступенька. В дни, когда наш истопник, видимо увлекшись своей деятельностью, создавал в квартире температуру, близкую к тропикам, хозяйки ставили продукты на цементную ступеньку под балконную дверь. Здесь было не так жарко. Вот и в тот памятный день, к которому относится мой рассказ, на ступеньке стоял кувшин с молоком и лежал большой кусок масла. Вначале он, видимо, был завернут в бумагу, но потом его развернули, и в тот момент он лежал совершенно открыто на квадратном куске бумаги, положенной на мелкую обеденную тарелку. Никому в голову не пришла мысль спрятать масло. Гаудик в отношении продуктов был безупречен и зорко следил за поведением других обитателей нашей квартиры.
В квартире царили безмятежный покой и молчание. Я читал книгу, Гаудик и кошка, вероятно, спали сном праведников. Но вдруг тишина была нарушена самым неожиданным образом. Скользя по паркету лапами и стуча когтями, из-под кровати стремительно выскочил Гаудик и со злобным рычанием кинулся на нашу кошку. В тот момент она находилась у балконной двери и, подпрыгнув вверх и оттолкнувшись от рамы, вскочила на край буфета. Отсюда, не спускаясь на пол и перескакивая с одного предмета на другой, она опрометью шмыгнула мимо меня в прихожую, а оттуда в кухню. В общем, случилась настолько обычная вещь, что я не нашел нужным ни во что вмешиваться и продолжал спокойно сидеть на кушетке. Вероятно, не предполагая о близости Гаудо, кошка решила воспользоваться молоком или маслом и была изгнана из квартиры собакой. Но как же замечательно вел себя после этого Гаудик! Он деловито осмотрел стоявшие на цементной ступеньке продукты и нашел непорядок. То, что масло лежало совершенно открыто, ему, вероятно, совсем не нравилось. Он осторожно сунул нос под бумагу, приподнял ее край и старательно прижал к маслу. Но собачий нос — не рука человека, упругая бумага вновь откинулась в сторону. Минут десять из другой комнаты я незаметно с интересом следил, как моя лайка пыталась справиться со своей задачей. В конце концов Гаудик достиг цели. Кусок масла с трех сторон был тщательно прикрыт бумагой. Еще в двух-трех местах старательно подавив непослушную бумагу своим влажным черным носом, смешной Гаудик убедился наконец, что все в порядке, и отправился вздремнуть после трудной работы.

Разве это не замечательный поступок для животного? Разве он не свидетельствует о сложной нервной деятельности собак? Безусловно, это результат многовекового общения с человеком. Не менее, чем я, любя простор и свободу, только попав в природу, Гаудик чувствовал себя вполне счастливым. Большой многолюдный город, московскую квартиру — все это пес рассматривал как временное явление, как вынужденное житье между поездками. Но, естественно, иной раз эти перерывы оказывались весьма длительными, и Гаудик, явно скучая от бездействия, придумывал себе занятия, о которых я рассказал.
Но особенно хорош был Гаудик во времена наших совместных поездок. Обычно я начинал собираться и укладывать вещи за несколько дней до отъезда. Пес замечал это, становился беспокойным, даже гулял неохотно: все спешил домой, видимо опасаясь, что его не возьмут в экспедицию. Целые дни он дежурил возле вещей, а ночью, свернувшись в пушистый комочек, чутко спал на чемодане. Если нужно было передвинуть вещи, чтобы вымыть или подмести пол, приходилось передвигать вместе с чемоданом и взобравшегося на него Гаудика.
Но вот приходит день отъезда. Гаудик отлично знает его по тому признаку, что большинство вещей уже с вечера сдается в багаж, а дома остаются только маленький чемоданчик, ружье и заплечный мешок. В этот день пес сам не свой. Он напряженно следит за каждым моим движением.
И наконец наступает заветная минута. Я развязываю заплечный мешок, и Гаудик, не дожидаясь моей команды, молча и поспешно сам влезает в него и сворачивается в клубочек. Как ненавидит пес этот же самый мешок, когда я, никуда не собираясь, просто хочу похвалиться перед гостями способностями моей собаки. Гаудик возмущается, рычит, выполняя мое приказание. Но когда пес знает, что мешок появляется не ради забавы, его не надо принуждать к этому.
Однажды, возвращаясь с охоты, я слез с дачного поезда и вошел в метро. Рядом со мной на поводке шел Гаудик — что поделаешь, я часто бываю рассеян.
— С собачкой нельзя, — остановил меня при входе милиционер.
Сообразив, что сделал большую глупость, я огорченно отошел в сторону. «Не пускают, — обратился я к собаке, — придется пешком тащиться. А впрочем…» Я быстра снял рюкзак, развязал его, открыл и наклонился к собаке. Молча и деловито на глазах милиционера Гаудик забрался внутрь.
— Ну а теперь можно? — завязав рюкзак и закинув его за плечи, обратился я к милиционеру.
— С вещами можно, — едва сдерживая улыбку и пропуская меня, ответил тот.
При поездках на вокзале я могу оставить чемодан и заплечный мешок на платформе с полной уверенностью, что с моими вещами ничего не случится. Гаудик не допустит этого. Мне стоит только сказать собаке: «Смотреть надо», и пес — весь внимание. Он скромно сидит на вещах и лишь предостерегающе показывает зубы тому, кто вздумает подойти к багажу слишком близко.
Дорога для меня с Гаудиком — отдых. Всю дорогу пес неусыпно следит за нашим общим имуществом. Пусть попробует вор вытащить из-под лавки мои вещи вместе с их верным сторожем!
По нескольку раз в год мы с Гаудиком совершали поездки. Весной, например, отправлялись в горы Армении, летом — в Вышний Волочек, в августе — в Крым на отдых, в октябре — на Сырдарью. Холода Гаудик не боялся, но, будучи покрыт густой и высокой шерстью, плохо переносил южную жару. Я вынужден был прибегать к стрижке: низко срезал высокую густую ость и оставлял подпушь.
До чего же смешон становился пес после такой операции! Темно-бурая, почти черная голова резко разнилась от светло-палевого, почти желтого тела. Гаудик страшно боялся стрижки, первые дни чувствовал себя несчастным, стыдился своего вида и большую часть дня прятался под кушеткой. Но проходило несколько дней, и пес примирялся со своей обезображенной внешностью.
За годы наших совместных путешествий я оценил все достоинства лайки. Эту умную, выносливую собаку можно назвать жемчужиной нашего Севера и ею гордиться. Мой пес шел на любую дичь и легко осваивал незнакомую охоту. В горах Гаудик отыскивал и поднимал уларов, кавказских тетеревов, на озерах ловил нелетных утят, заставлял подниматься на крылья взрослых уток, на Сырдарье легко поднимал фазанов и вообще отыскивал дичь не хуже легавой собаки.
Увлекался пес охотой до страсти, но и мне помогал собирать для коллекции птиц и зверушек, и даже тех, которые его мало интересовали. Зато к себе и к своей работе требовал уважения. Обидишь его — пес долго не может простить обиды.
Но любил и ценил я мою собаку не только за эти качества. Гаудик был не просто исполнительной собакой, выполняющей приказания человека, но моим помощником и другом. Он старался помочь мне во всем, на что был способен. Какое, например, ему дело до всевозможных маленьких птичек? Ведь до того момента, как попасть ко мне, он был охотничьей собакой и прекрасно знал, что такое дичь. Прочие обитатели наших лесов и полей его мало интересовали. Но это было только вначале. Собака видела, что время от времени ее новый хозяин стрелял маленьких птичек и бережно укладывал добычу в коробочку. И вот однажды, вскоре после того, как я добыл дятла, лес вдруг наполнился веселым лаем. Я поспешил туда, где лаял Гаудик: ведь он никогда не лаял напрасно. Но в этом случае я ошибся — Гаудик лаял не на дичь, а на дятла. «Да ты что, совсем одурел?» — с досадой обратился я к собаке. Лай прекратился. Гаудик виновато смотрел на меня. После этого случая пес не лаял на то, что не принято считать дичью, и лишь отыскивал застреленную добычу. В другой раз Гаудик подбежал ко мне, когда я, опустившись на колени, тщательно рассматривал гнездо маленькой птички. «Гнезда искать надо, — обратился я к псу, указывая на гнездо рукой, — ну-ка, подай голос!» Исполняя мое приказание, собака пролаяла два раза. Но она сделала это как-то бессознательно и смотрела мне в руки, как будто я держал в руках лакомый кусок. «Да нет у меня ничего, — поднес я к собачьему носу пустые руки. — Когда гнездо найдешь, тогда голос подавать надо, понял?» Собака с недоумением посмотрела на меня и еще раз обнюхала гнездышко. «Ничего не понял, дурак ты этакий!» — ласково потрепал я своего любимца и пошел дальше. На другой день, трудно поверить этому, но Гаудик нашел гнездо маленькой птички, лаем привлек мое внимание и, тыча носом, указал мне на куст, где помещалось гнездо с яйцами. «Неужели мог понять?» — растерянно переводил я глаза с гнезда на собаку и обратно. А Гаудик задорно лаял на кустик и на меня, как будто стараясь показать этим, что он совсем не дурак, что ему все понятно. Тысячи гнезд осмотрел я позднее, пользуясь услугами моей собаки. Нашел я благодаря псу такие гнезда, которые ранее не попадали в руки ученых.
Расскажу еще об одном случае, ярко характеризующем моего четвероногого друга.
Как-то я услышал лай собаки. «Что там еще такое? — подумал я, всматриваясь в мелкий кустарник, расположенный метрах в семидесяти от меня среди мокрого луга. — Небрежно лает, наверное, напутал», — соображал я, оставаясь на месте. Откровенно говоря, уж очень не хотелось тащиться назад через сырое место. Но Гаудик появился на краю зарослей и явно показывал, что он нашел что-то и ждет хозяина. «Ну что тебе?» — с некоторым раздражением обратился я, подойдя к собаке. Тогда он привел меня в заросли и показал мне задушенного грызуна — полевку. «Может быть, нужно — так бери», — выражали живой взгляд глаз собаки, поза, весь вид. «Ну что ж, пригодится», — забывая, что передо мной не человек, а собака, сказал я и сунул полевку в сумку.
Вот какой был Гаудик! Сообразительный, веселый и преданный мне всем своим честным собачьим сердцем, он действительно был надежным другом. Именно в таком друге вы остро ощущаете нужду, как только отрываетесь от цивилизованного мира и подолгу скитаетесь в одиночку среди природы.
Наступило тяжелое время — Отечественная война. Моя семья уехала в эвакуацию в Башкирию, а мы с Гаудиком остались одни в московской квартире. Дни для Гаудика медленно тянулись один за другим. С утра он оставался один в квартире, вечерами встречал меня радостным лаем. Однажды, возвращаясь с работы, я увидел бездомную охотничью собаку. Брошенная на произвол судьбы, она, видимо, уже не первый день искала хозяина на московских улицах. Обнюхав мои следы, собака проводила меня тоскливым, безнадежным взглядом. В тот же вечер я пришел к решению: любыми средствами перебросить Гаудика в Башкирию к моей семье. Вскоре мне удалось это осуществить.
Прошло более полутора лет. Наконец настал долгожданный день, когда близкие мне люди возвратились в Москву и привезли собаку. Но, выпущенный во двор на прогулку, Гаудик не возвратился обратно. Долго я искал собаку. Мой маленький четвероногий друг пропал навсегда.
Задумав написать рассказы о своих путешествиях, о животных, я решил первый из них посвятить своему четвероногому другу, верному спутнику в моих странствиях.

ПО УССУРИЙСКОМУ КРАЮ
Глава первая
НА ИМАНЕ
Когда меня спрашивали, почему я стремлюсь в Уссурийский край, я не мог обстоятельно ответить на этот вопрос.
— Право, не знаю, — ответил я. — Мне хочется увидеть своими глазами природу страны, побродить по ее лесам, познакомиться с птицами.
— Ведь там отвратительный климат. Зимой трескучие морозы, летом дожди, сырость, от комаров и мошки распухает лицо — в лес невозможно выйти, — говорили мне.
— Ну что ж делать, — отвечал я. — Мне хочется посмотреть эту страну такой, какая она есть, с ее сыростью, с ее комарами.
И чем больше я знакомился с краем по книгам, чем больше слышал о нем от своих товарищей, тем сильнее меня тянуло туда. Посетить Уссурийский край мне хотелось больше всего на свете.
Наконец, к моей великой радости, это желание осуществилось. В одну из весен, после десяти суток езды в скором поезде, мы с Гаудиком высадились на железнодорожной станции в устье реки Имана.
Иман — типичная река Уссурийского края. Полноводная и могучая, она берет свое начало на невысоком хребте Сихотэ-Алинь и стремительно несет свои воды в реку Уссури.
Как все здесь непривычно, непохоже на среднерусскую природу! Вот перед нами небольшая рощица с какой-то особенной желтовато-зеленой листвой. Где я видел такую рощицу? А, на одном из рисунков природы Японии, вспоминаю я. Бесчисленные острова реки поросли сказочно красивым субтропическим лесом. Под лучами солнца издали они кажутся непроницаемыми ярко-зелеными пятнами. А войдите туда — и вас охватит сумрак, сырость; травы нет, почва покрыта гниющей листвой; выше пояса поднимается папоротник. Лес кончился. Перед вами обширный луг. Несколько шагов вперед — и вы тонете в море зелени. Густая трава поднимается намного выше человеческого роста. Перед глазами качаются верхушки стеблей, да видно голубое небо. Только в субтропиках вы встретите такую природу. А сколько здесь всевозможных птиц! — бесчисленное множество. Незнакомые пение, свист, писк слышатся почти беспрерывно. Многие из птиц окрашены непривычно ярко. Вот на сухую вершину дерева уселась довольно крупная птица темно-синей окраски. Это широкорот. Его коренная родина — далекая Юго-Восточная Азия. В тальнике над водой мелькает оранжево-желтый огонек. Это перепархивает птичка — желтоспинная мухоловка, радуя глаз своей яркой спинкой.
А что может быть красочнее маленькой древесной утки-мандаринки! Как разукрашенный поплавочек, плавает она под нависшими ветвями в тихом речном затоне. Ее оперение — все цвета радуги. Но пусть не подумает читатель, что такова природа всего Уссурийского края. Напротив, роскошная южная растительность со своеобразным животным населением занимает сравнительно небольшую площадь. Широколиственные леса лентами протянулись по речным долинам, взбежали на невысокие сопки. Но поднимитесь чуть выше в горы, и вы попадете в иной мир — в мир суровой хвои, тишины и молчания. К шумливым, веселым лесам непосредственно примыкает хвойная тайга Севера. Дикое и мрачное впечатление производит она на свежего человека. Великаны кедры и пихты высоко поднимают к небу свои вершины. В глубине темнохвойного леса вас охватывает сырой полумрак, стволы покрыты лишайником, с ветвей клочьями свисает седой мох. Отжившие, упавшие на землю деревья, их вывороченные корни делают лес труднопроходимым, ноги вязнут в болотистой почве. Но особенно поражает вас мертвая тишина тайги. Тихо в ней. Разве изредка пискнет маленькая птичка, застучит по стволу дятел, взлетит с земли рябчик. Смешение северной и южной природы — вот особенности Уссурийского края. Кедр и лиственница растут здесь рядом с пробковым деревом-бархатом и с маньчжурским грецким орехом. Жители тайги — соболь и каменный глухарь обитают по соседству с тигром, широкоротом и райской мухоловкой.

Субтропическая растительность и животные, свойственные Южной Азии, — это остатки глубокой древности. Оледенение, охватившее некогда Сибирь, не достигло Уссурийского края. Вследствие этого его растительность и животный мир и поныне сохранили следы былого великолепия. В то далекое время климат был более теплым. Но общее похолодание в Сибири сказалось и на Уссурийском крае. На широколиственные леса постепенно надвигалась тайга Севера.
Разве не интересна такая страна? Конечно, интересна. Не случайно я стремился увидеть ее природу, ознакомиться с ее четвероногими, с ее пернатыми обитателями.
Маленькое удэгейское селение Санчихеза расположено в двухстах километрах от железнодорожной станции. Леса, сопки и луговые пространства окружают его со всех сторон. В Санчихезе я и решил поселиться на первое время, устроившись у местного ветеринарного фельдшера.
Очень любопытны эти места для натуралиста.
Сборы зоологических коллекций, наблюдения за малоизвестными животными поглощали все мое время. Бывало, только забрезжит ранний летний рассвет, а я уже на ногах и спешу выбраться из сонного поселка, боясь потерять дорогие минуты. За самое короткое время мы с Гаудиком успели исследовать окрестности, познакомиться со всем, что казалось нам интересным. Изо дня в день мы экскурсировали по сопкам, бродили по речным лесистым долинам, не раз побывали в угрюмой тайге, пробирались по травянистым зарослям.
Однажды, когда мы шли по возвышенности среди болота, я заметил на дереве гнездо китайской иволги и заинтересовался: обитаемо оно или пустое? Положив ружье, я снял сумку и полез на дерево. А Гаудик тем временем побегал немного и наткнулся на сибирского хоря — колонка. Зверь этот небольшой, но смелый и невероятно злой. Вскочил колонок в нору и из норы на Гаудика, как сорока, стрекочет. Пес из себя выходит, лает, но схватить колонка никак не может. Кинется на зверька — тот мигом скроется в своей узкой норе. Отойдет пес от норы, а смелый колонок опять из норы выберется.
Сверху все это хорошо видно. Пока я спускался с дерева, колонок, улучив удобную минуту, вцепился в нос Гаудика своими острыми зубами. Трясет Гаудо головой, щелкает зубами, но не может ни схватить, ни сбросить с себя ловкого хищника.
Однако, завидя мое приближение, колонок сам отпустил собачий нос, опять забился в нору и уж больше не показался наружу.
Я науськивал Гаудо, чтобы он лаем выманил колонка из норы, но пес не подходил близко, обидчиво лаял издали, будто хотел сказать: «Сам с колонком расправляйся, а я не хочу больше рисковать своим носом — видишь, как он искусан».
Осмотрел я нору — она под корень уходит; ни топора, ни лопаты у меня нет. Ничего не выйдет, надо бросить бесполезное дело. Зашагал я опять по болоту, с километр уже прошел, оглянулся и с удивлением заметил, что Гаудика нет сзади. Но вот появился и он, забежал вперед, не дает мне идти, вертится под ногами, все свой искусанный нос показывает.
Я в ответ мог только руками развести: хотел объяснить собаке, что в данном случае ничем помочь не могу. Вскоре Гаудик снова исчез.
Ждал я его, ждал и повернул назад. Прошел немного, вдруг вижу — навстречу мне бежит Гаудо. Морда у него довольная, на лбу упрямая складка. Завидев меня, пес весело залаял и побежал обратно. Я за ним. Опять вернулись мы на старое место, и Гаудик привел меня прямо к задавленному колонку.
Я рассматриваю мертвого зверька, а Гаудик на меня лает: «Не хотел колонку за меня отомстить, так я и без тебя обошелся, сам с ним расправился».
В напряженной работе незаметно летело время. Наконец настал день, когда мы должны были расстаться с Санчихезой и спустились вниз по реке Иману. Дальнейшие сборы я предполагал проводить в окрестностях небольшого поселка Вербовка.
Но как туда перебраться? После обильных дождей в верховьях вода в реке прибывала с каждым часом. Она вышла из берегов, подмывала корни растущих по берегу кедров и, когда живое дерево валилось в воду, ревя и пенясь, несла его вниз по течению.
— Вас никто сейчас не повезет в Вербовку, — сказал мне хозяин. — Смысла нет никакого. Ведь обратно против такого течения невозможно подняться. Значит, бросай лодку. Лучше купите лодку и поезжайте сами. Это обойдется много дешевле, а внизу она вам пригодится.
На другой же день я купил лодку. Но что это была за лодка — вы себе представить не можете. Выдолбленная из толстого тополя, узкая и длинная, она была настолько легка, что, взвалив на плечи, я мог без особого напряжения пройти с ней два — три километра. Все это, конечно, можно было отнести к ее положительным качествам. Но наряду с ними нашлись и отрицательные стороны. Дело в том, что на воде она вела себя как живая. Более всего она напоминала мне полудикого жеребца, пытающегося всеми средствами сбросить с себя седока.
— Как же я доплыву на такой лодке? — жаловался я хозяину. — Она действительно оправдывает свое название — морочка.
— Да вы поплавайте на ней денечек, подучитесь.
— Чего там учиться, умею управлять лодкой, — перебил я его с раздражением. — А в этой вертушке за час я уже успел два раза выкупаться в одежде.
Мало того, перевернувшись, она треснула меня по голове так, что я едва из воды выбрался.
— Уверяю вас, — успокаивал меня хозяин, — как только вы уложите в нее ваш багаж, лодка перестанет вертеться.
И действительно, разложенные на дне лодки тяжелые вещи сделали ее более устойчивой и послушной. Несмотря на это, наученный горьким опытом, я на всякий случай снял сапоги, прикрепил к лодке веревками наиболее ценный багаж и, признаюсь, с чувством недоверия и даже страха отчалил от берега и пустился в далекий путь.
С большими предосторожностями работая веслом, я благополучно совершил первый маленький переход и заночевал в одной из фанз ближайшего селения. Но мне положительно не везло вначале с морочкой. Наутро ее не оказалось там, где вечером я ее спрятал и привязал прочной веревкой. Если бы не Гаудик, мне пришлось бы вновь ломать голову над вопросом о транспорте. Однако умный пес по следам воришки нашел морочку в глухой чаще леса. Торжествующий лай собаки и своеобразные звуки царапанья когтями о дно перевернутой лодки я воспринял как самую лучшую музыку.
Счастливые, мы двинулись дальше. Боясь остаться без лодки, в тех случаях, когда нам приходилось ночевать в стороне от реки, я предусмотрительно переносил морочку к нашему лагерю.
Интересная и полная впечатлений жизнь продолжалась в течение всего нашего переезда. Лодчонка, несмотря на свои маленькие размеры, вмещала в себя все необходимое для путешествия. Благодаря этому мы не были связаны с жильем человека и могли располагать своим временем так, как нам хотелось.
— Гаудик, смотри, какой замечательный остров! — обращался я иной раз к своей собаке. Ведь я нуждался в собеседнике, а, кроме собаки, со мной никого не было. С этими словами я сворачивал со своего пути, проникал в один из тихих лесных затонов и, разбив на берегу палатку, обосновывался здесь на несколько дней. Каждая такая остановка позволяла делать интересные наблюдения над животными и пополнять мою коллекцию новыми экземплярами.

Жаркая погода и обилие пищи согнали сюда оленей, иногда встречалась группа кабанов, но особенно много было всевозможных птиц.
В затонах плавали яркие утки-мандаринки, по отмелям бродили черные аисты, лес звенел от голосов мелких птиц. Уссурийские большеклювые вороны доставляли нам много хлопот и беспокойства. Бывало, сидишь в лагере и не предполагаешь о близости этой умной и осторожной птицы. А она зорко следит за нами с вершины кедра, растущего на ближайшей сопке. Не успеешь отойти в сторону и сотни метров, как несколько этих воришек слетятся к лагерю. Любознательные птицы суют свои носы в ящики, сбрасывают с котелка крышку и тащат все съедобное и несъедобное. Гаудик не выносил бесцеремонности большеклювых ворон и, не ожидая приказания, пускался к палатке.

Собака старалась отогнать ворон, а птицы не теряли надежды поживиться съестными припасами. Это прекращалось лишь при моем возвращении.
Наступал вечер. Закончив ужин, мы еще долго сидели у затухающего костра, отдыхали от жаркого дня. Вот постепенно один за другим умолкают голоса дневных обитателей леса. На смену им рождаются новые звуки. Где-то в хвойной тайне кричит маленькая ошейниковая совка, отчетливо, то усиливаясь, то стихая, журчит река, иногда с плеском обваливается подмытый водой берег или со скрипом падает с дерева отжившая ветка.
Однажды на рассвете меня разбудил Гаудик. Он то осторожно кусал, то горячим языком энергично облизывал мое ухо. Я приподнялся в палатке и услышал звуки, заставившие меня выбраться наружу.
Вот что я увидел.

По засыпанному галькой противоположному берегу шли три медведя. Один из них — крупная медведица — в этот момент переходил вброд неширокую, но быструю, впадающую в Иман реку. Шлепая по мелкой воде широкими лапами, медведица достигла середины реки, затем резко погрузилась, так что вода перекатилась через ее спину, и вышла на противоположный берег. С ее шкуры с журчанием стекала вода. Примеру медведицы последовал второй, небольшой, медведь, видимо, двухгодовалого возраста. На правой стороне речушки остался маленький медвежонок. Он также было побрел по воде, но, достигнув глубокого места и не решаясь идти дальше, остановился и жалобно рявкнул. В тот же момент произошла, вероятно, обычная для этих четвероногих семейная сцена. Медведица в одно мгновение очутилась около старшего медвежонка и передней лапой дала ему такую затрещину, что тот полетел на отмель. Перевернувшись и схватившись обеими лапами за левое ухо, он заорал диким голосом. Затем, продолжая держаться лапой за ушибленное место, он стремительно кинулся через речку, схватил маленького братишку за шиворот и, все еще вскрикивая сквозь зубы, переволок его через глубокое место. Вся группа исчезла в чаще, но еще долго в тишине утра до нас доносились жалобные вопли наказанного медвежонка.

Быть может, читатель не знает, что семейная жизнь у этих животных более сложна, чем мы обычно предполагаем. Уже подросший медвежонок долго остается при матери. Когда же у медведицы рождается новый детеныш, в обязанность медведю-подростку, так называемому пестуну, вменяется нянченье младшего братишки или сестренки. Как видите, нарушение этих звериных правил или небрежное выполнение обязанностей иной раз дорого обходится легкомысленному пестуну.
Сидя в лагере и наблюдая семейную сцену, я смеялся от всего сердца. Иначе воспринял это Гаудик. Видимо, близкое присутствие медведей ему не нравилось, и он с явным беспокойством и недоверием вертелся около нашего лагеря. Я отлично знал, что мой четвероногий друг не боится медведя. Не один раз, столкнувшись с животным в тайге, он с ожесточенным лаем преследовал его и однажды сумел загнать гималайского черного медведя на дерево. Но лаял он на него не как на дичь, а как на человека, и я, вслушавшись в интонацию голоса собаки, заранее знал, с кем мне придется встретиться. Мне кажется, что умный пес относился к косолапым обитателям леса иначе, чем к другим животным, и не доверял им, как не доверял и незнакомым людям.
Это сказалось на его поведении.
Наш лагерь был довольно далеко от берега. Я волоком подтащил к воде лодку с легкими ящиками и отправился за другими вещами.
На полпути я встретил Гаудика. Он деловито и поспешно отправился к лодке. Когда я с чемоданом на плече шел к лодке, он встретил меня на том же месте и убежал к лагерю. Это повторялось до тех пор, пока все вещи не были перенесены из лагеря в лодку. И тут мне стало ясно поведение собаки. Пес боялся за наше имущество. Когда я был около лодки, он находился у лагеря, когда я возвращался к лагерю, он считал необходимым следить за лодкой.
«Но почему он продолжает оставаться на том месте, где мы ночевали, когда все вещи перенесены на берег?» — подумал я.
— Гаудик! — крикнул я, но пес не появлялся. — Гаудик! — вторично позвал я собаку.
Пес на одно мгновение мелькнул среди кустарников и вновь исчез из виду.
Я вернулся к месту ночевки, где застал трогательную картину. Гаудик сидел под деревом, на ветви которого висела моя портянка, и показывал на нее глазами. Портянка пришла в негодность и вчера, отброшенная мной, случайно повисла на ветке. Но, конечно, об этом не знал Гаудик. Ведь для него и изношенная портянка была нашим имуществом. Я сорвал ее с дерева и на глазах Гаудика бросил в сторону. Этого было достаточно, чтоб пес поспешно убежал к лодке, которая оставалась без хозяйского глаза.
Вскоре мы достигли большого лесистого острова Пещерного. На нем жили четыре семьи русских и удэгейцев, обслуживающих маленький конный совхоз.
Сильные дожди задержали нас в этом месте. Они начались страшной грозой и лили без всякого перерыва в течение нескольких суток. Река вздулась и несла массу подмытых и упавших в воду громадных деревьев. При этих условиях продолжать путь на легкой лодчонке было небезопасно, и я решил переждать неблагоприятное время. Но было обидно сидеть в комнате и через окно смотреть, как плачет природа. Из-за дождей в течение дня я мог выходить только по одному разу из дому.
Застрелив несколько интересовавших меня птиц, я возвращался домой, переодевался в сухое платье и, снимая шкурки, ждал, когда мой промокший костюм высохнет. Однако даже в комнате воздух был насыщен сыростью. Мой костюм высыхал медленно, и только на следующий день я решался отправиться на экскурсию, чтобы продолжать свои сборы и поневоле вновь выкупаться в одежде в мокрой траве.
Но и при этих условиях мне не приходилось скучать. Как и во время других поездок, вскоре вокруг меня сгруппировались местные ребята-подростки. Любознательный народ сначала молча наблюдал, как я снимал шкурки с добытых птиц, как заносил в дневник свои наблюдения. Когда же ребята несколько привыкли ко мне, возникло множество всевозможных вопросов. Я отвечал на них, как умел.
— Дядя, а живых зверей и птиц вы не берете?
— Пока не беру. Держать их сейчас негде, — отвечал я. — Вот приеду в Вербовку, устроюсь там, сделаю клетки, тогда и начну собирать всякую живность.
— До Вербовки близко, шестьдесят километров, по такому течению за один день проехать можно.
— Это верно, я собрал бы и здесь, да видишь, погода какая.
— Дядя, а вы не ходите сами, нам скажите. Хотите, я вам сейчас голубых сорочат достану?
Голубые сороки — интересные птицы, о них я расскажу в дальнейшем. Я давно хотел привезти их в Москву живыми, но до этого времени они не попадали мне в руки.
— Перед отъездом достань, когда погода будет лучше, — отвечал я, — а то под дождем вымокнешь.
Но мальчик быстро снял рубашку и, оставшись в одних трусах, выскочил из комнаты и зашлепал во дворе по лужам. Вскоре он возвратился мокрый и довольный. В его картузе лежали уже сильно подросшие птенцы голубой сороки. Это было началом, и с каждым днем мое живое хозяйство возрастало.
— А знаете, дядя, Колька у нас настоящий охотник, — сказал мне хозяйский сынишка. — Он всю зиму хорей-колонков по островам капканами и давилками ловил, а сейчас деньги копит, собаку охотничью купить собирается.
— А какую собаку? — обратился я к черноволосому Коле.
— Не знаю, какая она, — ответил тот, — но только на колонка хорошо ходит. Хозяин ее помер, а хозяйка сто рублей за нее просит, вот я и коплю на нее деньги. У нас, — продолжал Колька, — хорошие собаки у отца есть, только отец их не дает мне, говорит — испортишь.
— Как это испортишь? — не улавливая смысла в словах мальчика, спросил я.
— Да у нас, дядя, собаки зверовые — на тигра ходят. Вот отец и не позволяет приучать их на колонка. Если собака колонка будет искать, с ней тигра не возьмешь.
— А что, твой отец стреляет тигров?
— Нет, не стреляет, разве тигра можно стрелять! Отец и старший брат живых тигров ловят, ведь они очень дорого стоят.
— Как же они их ловят?
— Да просто ловят, собаками загоняют и ловят.
Я неоднократно слышал и читал в книгах, как наши русские охотники ловят тигров в Уссурийском крае. Селение Картун, расположенное в пяти километрах от острова Пещерного, давно славится тигровыми ловцами. Но мне хотелось услышать об этом из уст мальчика.
— Коля, расскажи мне о тиграх, — попросил я его.
И вот юный охотник в простых словах рассказал о том, как русские богатыри справляются с могучим и опасным хищником. Мне представилась такая картина.
Поздняя осень, выпал снег. Белой пеленой он покрыл болота, долины и лесистые сопки. Лиственный лес поредел, сквозь оголенные деревья видно далеко. Только местами на ветвях монгольского дуба еще держатся побагровевшие от мороза листья да на сопках темнеют кедры. На гребне сопки стоят три человека. На них легкие полушубки, меховые шапки, рукавицы, за плечами ружья. Несколько крупных собак различной масти привязаны к дереву. Это звероловы, вышедшие в тайгу в поисках тигрового следа. Однако не всякий след интересует их в равной степени. Их задача — найти семью тигров. До трех лет тигрята, достигающие иной раз семипудового веса, остаются при матери. Следы молодого тигра, еще не отделившегося от семьи, зверолов умеет отличать от следов взрослого животного. Для этого, конечно, нужна большая практика.
После многих безрезультатных выходов в тайгу наконец цель достигнута, след семьи тигров найден, и звероловы приступают к делу. Надо разбить выводок, возможно дальше отогнать тигрицу от ее детенышей. И молчаливая тайга наполняется чуждыми ей звуками. Злобно лают собаки, перекликаются люди, гремят ружейные выстрелы. Потревоженная тигрица вначале пытается увести тигрят в глубину тайги, но те отстают, прячутся в зарослях, и наконец мать вынуждена покинуть свое потомство. С этого момента и начинается настоящая охота. Собаки спущены на след молодого тигра. С лаем и завыванием они бросаются за зверем. Тигр редко идет по прямой линии. Слыша за собой погоню, он ищет, где бы укрыться, мечется из стороны в сторону. Собачий лай, перемещающийся вначале, наконец доносится из одного и того же места. Туда и спешат звероловы. Мало надеясь на быстроту своих ног, тигр забивается в чащу, под сваленное бурей дерево, и готов защищаться.

Собаки со злобным лаем то теснят зверя, то, умолкая на мгновенье, рассыпаются в стороны. Это раздраженный зверь кинулся на ближайшего противника, пытаясь смять его своими могучими лапами. Пользуясь царящей в лесу суматохой, к месту приближаются звероловы. Один из них, наиболее опытный, вооружившись крепкой и тяжелой палкой, спокойно идет к зарослям, откуда доносится злобное рычание зверя. Подбодряемые человеком собаки подступают все ближе и ближе. Остальные охотники, отбросив ружья в сторону, несколько отставая, следуют за первым. Загнанный в тупик тигр теряет терпение, бросается за человеком и валит его на землю. Но как странно ведет себя после этого хищник. Он испуган, растерян, глаза блуждают по сторонам, и он никогда не пускает в ход ни своих зубов, ни когтей. Пользуясь этим замешательством, охотники наваливаются на зверя, палкой прижимают его шею к земле, связывают ему лапы. Тигр пойман. Веревками его привязывают к наскоро сооруженным саням и везут в селение. Трудно поверить всему этому, но ныне известно, что это не сказка, не выдумка.
— Коля, а старого тигра так поймать можно? — спрашиваю я мальчика.
— Ой, нет, дядя, старого нельзя: он или уйдет далеко, или, если его прижмут крепко, сразу задерет человека.
— А знаешь, Коля, я, кажется, твоего старшего брата знаю. Он как-то меня вверх по Иману в лодке вез и тоже о тиграх рассказывал — широкоплечий такой.
— Он и есть. Летом он товар из Картуна в Санчихезу в кооперацию возит, — ответил Колька.
— А зимой тигров руками ловит? — улыбнувшись, добавил я.
— Ага, ловит, — кивнул головой мальчик.
— А ведь, кажется, сейчас очень поздно, — спохватился я.
Мы вышли на крыльцо. Дождь прекратился. В темноте ночи в воздухе то и дело вспыхивали и потухали огоньки. Это летали маленькие жучки, во множестве населяющие Уссурийский край. Во время полета через короткие промежутки они то загораются ярким фосфорическим светом, то потухают.
На следующее утро я проснулся поздно и, открыв глаза, тотчас зажмурился. Комната была залита ярким солнечным светом. Я оделся и вышел во двор. Умытая дождями природа блестела свежестью, воздух был как-то особенно душист и прозрачен. Я решил, не откладывая, ехать в Вербовку. Наскоро позавтракав, перенес вещи и с помощью ребят разместил их в лодке. В передней ее части помещалась сплетенная из лозы клетка с живыми птицами. Я столкнул лодку и взял в руки весло.
Прощай, гостеприимный остров Пещерный!
На берегу, босоногие и загорелые, в светлых ситцевых рубахах, стояли ребята и следили за удалявшейся лодкой.
— Дядя, приезжай к нам еще! — закричали они.
— Приеду, обязательно приеду! — отозвался я.

Быстрое течение вскоре вынесло меня из узкой, закрытой лесом протоки на широкий простор основного русла. Спустя полчаса я миновал большое селение Картун и, обогнув подступающую к реке сопку, быстро заскользил вниз по течению.
К вечеру того же дня мы с Гаудо благополучно добрались до Вербовки и, удобно устроившись в доме одного охотника, вновь занялись своим делом.
Природа в низовьях реки несколько иная. Лиственные леса покрывают многочисленные острова, но среди них нет хвойных деревьев. Лесистые сопки отодвинуты далеко в стороны, и чтобы добраться до них, нужно пересечь поля, болотистые луга и перелески. Постоянно экскурсируя, я собрал в окрестностях Вербовки большую коллекцию птиц. Многие редкие экземпляры попали мне в руки только благодаря собаке.
Как-то пес выгнал из травы неизвестную мне птицу вроде перепелки. Погорячившись, я выстрелил и промахнулся. Птица исчезла в густых зарослях. Но настойчивый Гаудик вновь нашел ее и заставил взлететь. Я выстрелил вторично, но и на этот раз только поранил птицу. Пролетев метров сто, она свалилась в густую траву.
Спешно пошел я в замеченном направлении, но как только вступил в высокие травяные заросли, сразу потерял ориентировку. Где тут найти птицу, когда сам не знаешь, куда идешь. Видишь лишь верхушки высоких стеблей да голубое небо.
День жаркий, в траве духота несносная. Однако надо искать. Мне казалось, что раненая птица обязательно окажется редкостью. Искали мы с Гаудиком, искали и так замучились, что сил больше не было продолжать поиски. Тогда мы вышли к реке, я выкупал Гаудика, сам выкупался, отдохнули оба. После передышки взял я Гаудика на руки, донес его до места, где упала незнакомка, и пустил в траву.
— Ну, чернолобый, найди мне птицу, век тебе этого не забуду!
Через несколько времени слышу в зарослях призывный собачий лай.
— Гаудинька, где ты?
Пес отвечает лаем, и по звуку я могу судить, что собака не сходит с места. Пошел я на голос, раздвигаю траву, смотрю — сидит Гаудик, а рядом лежит мертвая птица — трехперстка. Редкая это птица у нас. Проникает она в нашу страну с юга и только в восточные части. Распространение трехперстки до сих пор плохо выяснено. Мне удалось установить, что Иман — наиболее северная точка гнездования этой птицы в Уссурийском крае. Интересна трехперстка и в другом отношении.
У многих пернатых самка высиживает яйца и ухаживает за своим потомством, а самец в этом деле не принимает никакого участия. Например, у уток селезень окрашен ярко, а самка, напротив, скромно: ей полезно иметь такую окраску, чтобы при высиживании скрыть гнездо, сохранить яйца.
Иначе обстоит дело у трехперстки. Оперение самцов окрашено у этого вида несколько скромней, чем оперение самок. Как только самка отложит яйца, она уходит от гнезда и не заботится о своем потомстве. Самец высидит яйца и сам выводит своих цыплят. Такая разница между самцом и самкой называется обратным половым диморфизмом.
Много труда потратил Гаудик, чтобы найти трехперстку в травянистых зарослях, но в рот взять ее боится. Незадолго перед тем он меня сильно рассердил тем, что вырвал хвост у одной добытой птицы. Я целую нотацию прочел псу, попрекая его за небрежность.
— Зачем ты птицу за хвост хватаешь, куда она бесхвостая годится! — И на глазах у Гаудика бросил испорченную птицу в сторону. Пес был ужасно сконфужен и, видимо, принял это к сведению. Вот почему он решил лучше не брать трехперстку зубами, а вызвать меня: «Бери сам, а то потом будешь браниться!»
Но иногда мой четвероногий приятель вследствие своей старательности оказывал мне медвежью услугу. Я не забуду одного случая с селезнем. В тот день я хотел пройти через большое болото к сопкам. Они протянулись километрах в пяти от поселка. Вышли мы в поход спозаранку, чтобы успеть к вечеру возвратиться домой. Но, на беду, Гаудик наткнулся на озере близ селения на крякового селезня-подранка, еще весной раненного в крыло, и давай гонять его по озеру. То по камышам за ним лазает, то выгонит на чистую воду. Наконец поймал пес птицу, слышу — в траве хлопает она крыльями. Взял я селезня в руки, осмотрел его, вижу — раненое крыло совсем зажило: вот-вот птица снова сможет летать. Мне этот селезень был совершенно не нужен, и я решил выпустить птицу на свободу, только при Гаудике не хотел этого делать: еще обидится пес. Подождал я, когда Гаудик убежал, и выпустил селезня в прибрежные заросли.
Но глупая птица вместо того, чтобы сидеть смирно, кинулась в воду, с шумом хлопая крыльями. Хотя и далеко был Гаудик, но, заслышав хлопанье, мигом примчался, и опять началась погоня за селезнем по всему озеру. То оба, пес и птица, плавают посередине озера, то скроются в камышах. Звал я Гаудика и ругал его, но пес никак не соглашался бросить селезня.
Я вынужден был ждать около часу, пока Гаудик вновь не поймал птицу. За это время солнце поднялось высоко, стало жарко. В досаде, что столько времени потеряно зря, я сунул за пазуху пойманную птицу и, пройдя с полкилометра, незаметно положил злополучного селезня в густую траву между высокими кочками. Я думал, что Гаудик увлечется новыми поисками и забудет про селезня. Однако провести пса оказалось не так-то просто.
Рыская по сторонам, он время от времени забегал сзади меня и, поставив нос по ветру, проверял, здесь ли селезень. Ну и, конечно, обнаружил, что селезня у меня и в помине нет.
Пес как волчок завертелся около меня, морда недовольная, обиженная. Кинулся Гаудик назад по нашему следу и исчез из виду. Долго ждал я его возвращения и, не дождавшись, должен был сам вернуться. На это, видимо, и рассчитывал Гаудик. Он опять разыскал несчастного селезня и, придавив птицу передними лапами, лаял, чтобы привлечь мое внимание.

Пришлось мне тащиться с селезнем через болото домой. Дома я запер Гаудика, а сам отнес селезня на реку подальше от селения, чтобы больше эта птица ко мне не возвращалась. Выпущенный Гаудик помчался на берег реки, долго рыскал по моему следу. Но на этот раз ему не удалось отыскать птицу. Уплыл селезень по реке — следа за собой не оставил.
Наступило жаркое время. Я ночевал не в избе, а на открытом воздухе, растянув свою палатку в саду, на берегу пруда. В одну душную ночь я долго не мог уснуть. Тяжелые тучи заволокли небо, закрыли звезды. Время от времени темноту ночи прорезали молнии, доносились глухие раскаты грома. И, вторя им, в пруду то стихало, то усиливалось кваканье лягушек. Надвигалась гроза. Вот где-то далеко, на краю селения, залаяла собака, за ней другая, третья, и вскоре все селение наполнилось собачьим лаем. Сначала лай был злобный, потом в нем появились нотки страха, собаки взвизгивали, жалобно завывали.
Опершись на локти, я лежал в палатке и чутко вслушивался в эти странные и непривычные звуки. Почему так лают собаки? Но вот на краю селения лай стал приглушенный, едва слышный. Волна глухого лая докатилась до меня и ушла далеко назад, в другой конец селения. Казалось, что лай доносился не со дворов, а из подпольев строений. «Что это может быть такое?» — ломал я голову.
В этот момент лягушачий концерт оборвался, пруд наполнился невообразимым шумом. По воде слышались прыжки каких-то животных; в страхе вскрикивали домашние гуси, хлопали крыльями. Очевидно, какой-то непрошеный гость хозяйничал в поселке. Я достал ружье, сунул в него патроны и выстрелил. Прошла минута, и все стихло. С противоположной стороны пруда до меня донесся голос человека. Кто-то возбужденно что-то объяснял другому. Из отрывков долетающих фраз я понял, что волки посетили селение и утащили домашнего гуся.
Но вот в соседнем дворе неуверенно и как-то виновато тявкнула собака, ей отозвались другое. Волки ушли, опасность миновала, и собаки выбирались наружу из своих убежищ.
По крыше палатки застучали редкие тяжелые капли дождя, все чаще и чаще.
После беспокойной ночи я проснулся поздно. Солнце поднялось высоко, играя в лужах, блестя в обмытой дождем листве деревьев.
Но где же Гаудик? Его нигде не было. Волнуясь, я обыскал весь двор, сад, звал его, сбегал домой, но и там его никто не видел. Куда же он делся?
После долгих поисков мы наконец нашли беглеца. И где же, вы думаете? Виноватый и весь мокрый, он лежал в дождевой луже под перевернутой старой лодкой.
Я узнал, что мой смелый во всех отношениях четвероногий приятель боится своих серых родственников. Вероятно, в молодости у него были встречи с волками, которых умный пес не мог забыть в течение всей своей жизни.
Глава вторая
ГОЛУБЫЕ КРАСАВИЦЫ
Перед тем как поехать в Уссурийский край и увидеть голубую сороку в природе, я хорошо ознакомился с этой птицей по книгам. Мало того, я извлек в музее большую коробку и тщательно осмотрел серию шкурок. Однако на свободе птица произвела на меня такое впечатление, как будто я видел ее впервые.
Было прохладное утро первого мая. Накануне мы с возчиком выехали из города и, покрыв по скверной дороге сорок два километра, к семи часам утра остановились на зеленой лужайке в центре маленького селения. Хотя при езде по рытвинам и ухабам я сильно устал, но беспрерывно следил за сменяющимися видами. Все здесь для меня было ново и интересно. От лужайки, где мой возница решил сделать передышку, к югу уходила широкая канава. Одна из ее сторон была обсажена высокими ветлами. Ветви их еще не успели покрыться листьями, но каждое дерево издали казалось окутанным нежно-зеленой дымкой. Порой набегал ветер, и под его порывами покачивались вершины деревьев. Голубое небо, белые перистые облака, нежная зелень и даже порывы ветра — все это было необыкновенно хорошо! Во всем ощущалась весна.
Я слез с телеги и только хотел размять затекшие члены, как застыл от изумления. Над самой моей головой, с трудом справляясь с порывами ветра, пролетели четыре длиннохвостые птицы и опустились на ближайшее дерево. Конечно, я сразу узнал в них голубых сорок, но как они были красивы в этот яркий весенний день! Их нежная голубая окраска гармонировала с голубым небом. Когда же птицы уселись на ветлы, сквозь качающиеся ветви которых виднелась голубая даль, их контуры стали неясными. Я поспешил к деревьям, чтобы поближе рассмотреть этих красавиц, но непоседливые, веселые птицы то и дело перелетали с места на место и несколько секунд спустя исчезли из моих глаз. Я же как зачарованный продолжал стоять на месте и смотреть в том направлении, куда улетели сороки.
Как они хороши! Ведь по красоте они не уступят чрезмерно ярким тропическим птицам. И я решил собрать, привезти в Москву не только шкурки голубых сорок, но и живых длиннохвостых красавиц.
— Пора ехать! — услышал я оклик возницы и оглянулся. Он приводил в порядок упряжь. Но вместо того чтобы забраться в телегу и продолжать путь, я извлек из-под сена свои вещи, поставил их на землю и сообщил своему спутнику, что остаюсь в этой деревне. Неожиданное решение, безусловно, было вызвано встречей с голубыми сороками. В дальнейшем я не пожалел о своем поступке. В окрестностях встречалось множество интересных птиц, и мои наблюдения и коллекции с каждым днем пополнялись. Время от времени я сталкивался и с голубыми сороками. Интересно, что до двадцатых чисел мая они продолжали держаться кочующими стайками то среди густого леса, то по окраинам лесистых сопок, то в кустарниках безлесных болот. Видимо, они еще не гнездились и в поисках пищи спешили обследовать возможно большую территорию.
Однажды, когда я плыл по реке на лодке, на меня налетела стайка голубых сорок. Я схватил ружье и выстрелил. Одна из сорок, раненная в крыло, неловко спланировала на песчаную косу и поскакала к ближайшему ивняку. Спешно причалив лодку, я кинулся за ней. Мне хотелось взять сороку живой. Но в тот момент, когда я догнал птицу и готов был схватить ее руками, она достигла спасительных ивовых порослей. Еще мгновение, и проворная птица, пользуясь своими цепкими ногами, взобралась на вершину ивы. Не щадя себя, я ринулся вперед. С ожесточением ломая сушняк и тряся гибкие ветви, я пытался стряхнуть птицу на землю. После долгих усилий мне наконец удалось это сделать. Но когда я бросился к месту падения птицы, она снова успела забраться на недоступную высоту.
«В воду стряхнуть», — мелькнуло у меня в голове. И спустя самое короткое время под моим натиском сорока переместилась на другой участок и скакала по ивам, нависшим над глубокой протокой. Я вскакивал то на один, то на другой стволик, пригибал вершину почти к самой воде, руками же бросал в сороку сухие сучья или тряс тонкие ветви. Вскоре напуганная птица переместилась на тонкие вершины и каким-то чудом удерживалась от падения в воду. Я уже торжествовал победу, как вдруг раздался предательский треск ветки, и вместо птицы я сам полетел в холодную воду.
Я не поймал сороку. Когда, весь в царапинах и ссадинах, я выжимал свою промокшую одежду, успокоившаяся бойкая птица, вертя своим голубым хвостом, продолжала перескакивать с ветки на ветку. Ружье было недалеко, и я мог добить сороку — мне нужна была и ее шкурка. Но эта мысль тогда даже не пришла мне в голову. Ведь сорока выдержала жестокую борьбу и вышла из нее победительницей. Раненое крыло подживет, и птица снова сможет летать.
«Надо отыскать гнездо с птенцами», — решил я, сталкивая с берега лодку. Мне казалось это совсем простым делом, сорок было много.
«Хоть бы одно гнездо найти», — мечтал я спустя неделю, без толку исколесив по лесным трущобам с сотню километров. В то время я и понятия не имел, что если удается найти одно гнездо, то можно найти их целый десяток. Позднее мне стало известно, что зимние и весенние стайки голубых сорок и в период размножения не теряют между собой связи. И если сороки не образуют колониальных гнездований, то отдельные пары обязательно гнездятся близко друг от друга и все зимнее общество заселяет один и тот же небольшой участок леса.
Побеспокойте у гнезда сороку — и на ее тревожный крик явится не только самец, а три-четыре сороки, гнездящиеся по соседству. Я не буду описывать, как я нашел первое гнездо голубой сороки, а лучше расскажу об одном интересном случае, происшедшем со мной на следующее лето.
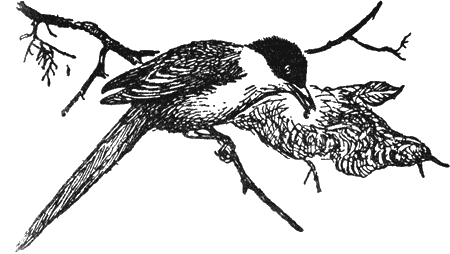
В один душный дождливый день, какие нередки в Уссурийском крае, я нашел гнездо голубой сороки. Снизу я не мог выяснить, что в нем, и решил до него добраться. Гнездо помещалось не очень высоко, но залезть туда оказалось довольно трудно. Толстый и гладкий ствол монгольского дуба в нижней части был лишен сучьев и вследствие сырой погоды и мха, покрывающего его кору, оказался чрезвычайно скользким. Но там гнездо, мне необходимо было знать, что в нем, и я, сбросив с себя все, что могло мешать при лазанье, стал карабкаться по дереву. Это было тяжело, но я лез все выше и выше и через десяток минут уже опирался на крепкий сук. До гнезда оставалось, так сказать, рукой подать. Для этого нужно было крепко обхватить ствол обеими руками, сжать его коленями и приподняться несколько выше, и тогда гнездо будет на уровне моего лица. Все это я рассчитал и, отдохнув, приступил к выполнению намеченного плана. Вот я, обхватив ствол руками, медленно поднимаюсь и наконец достигаю гнезда, готов заглянуть в него. Однако в этот момент обе взрослые голубые сороки подлетают к моему лицу и безнаказанно дергают меня за волосы, больно клюют в щеку, в уши. Боясь за свои глаза, я жмурюсь, встряхиваю головой, пытаясь отогнать птиц, но ничего не могу поделать. Мне ясно, что если я хоть на мгновение отпущу руку, я тотчас же слечу на землю. С другой же стороны, пока я держусь обеими руками — я беззащитен. Сорока может делать с моим лицом что ей вздумается. И вот я медленно отступаю до сука, на который можно опереться ногой. Одновременно отступают и сороки. Они поднимаются выше в крону дерева и сзывают своих соседей. Тогда, пользуясь отсутствием птиц, я вновь повторяю свой прием, но на этот раз встречаю еще более сильное и смелое сопротивление со стороны хвостатых хозяев. Вокруг гнезда вертится уже не пара сорок, а штук восемь.
После нескольких неудачных попыток я предпочел забраться на соседнее дерево и, на этот раз не подвергаясь нападению голубых сорок, сверху и издали заглянул в гнездо. Там, наклонив набок свои большие головы, лежало пять или шесть голых уродливых сорочат.
К концу июня у меня собралось около двух десятков живых птенцов голубой сороки. Пока они были малы, я держал их в большой корзине, затянутой сверху сеткой. Когда же они подросли, я поместил их в просторной, наскоро сооруженной вольере.
Однако случилось так, что, пользуясь образовавшимся в гнилой сетке отверстием, сороки одна за другой оказались на полной свободе. К моей большой радости, сорочата не улетели. Привыкнув получать корм из рук человека, они целые дни проводили в саду дома и, завидев меня, доверчивой подлетали на самое близкое расстояние и просили пищи. Кусочки сырого мяса, мелкие рыбки, пшенная каша и творог охотно поедались ими. Но кормил я сорочат не часто, и они были вынуждены сами отыскивать себе пропитание.
В поисках пищи особенно охотно они посещали яблони. Фруктовые деревья в том году были сильно поражены гусеницей и многие ветви сплошь затянуты паутиной. И вот мои голубые сороки, подвешиваясь на ветвях пораженного дерева, целыми днями вылавливали этих вредителей садоводства.
Спустя неделю деревья нашего сада были освобождены от гусениц, и мои голубые сороки стали посещать сады соседей.
Перед отъездом я выбрал десяток наиболее ручных сорочат и посадил их в транспортную клетку. Однако им не суждено было попасть в зоопарк столицы. Во время долгого пути у меня не хватило корма.
Опасаясь за жизнь пленниц, скрепя сердце я выпустил своих длиннохвостых красавиц в окно поезда, не доезжая Иркутска.
Но зато как я был обрадован, когда, приехав в Москву, посетил зоопарк. Я узнал, что четыре маленьких птенца голубой сороки, привезенные мной в прошлое лето, не только превратились в прекрасных взрослых птиц, но свили гнезда и вырастили потомство.
Глава третья
СПРАВОЧНОЕ БЮРО В ПРИРОДЕ
Что подавляющее большинство птиц приносит пользу человеку — это старая и неоспоримая истина. Однако далеко не все знают, как разнообразна эта помощь. Например, стервятник, дневной хищник, питающийся падалью и всевозможными отбросами, во многих населенных пунктах Средней Азии выполняет санитарную службу. Даже ястреб-тетеревятник, вредная птица, — и тот приносит известную пользу. В охотничьих хозяйствах он часто ловит больных промысловых птиц, чем сокращает распространение заразных заболеваний.
Несравненно большую пользу приносят насекомоядные птицы. Они помогают человеку бороться с насекомыми — вредителями сельского хозяйства.
Но кто из читателей слышал, что птицы могут оказать пользу человеку при изучении фауны самих птиц или фауны местных млекопитающих?
А в некоторых случаях это бывает.
Велик и разнообразен животный мир нашей Родины. В хвойной тайге Севера обитают таежные звери и птицы, в пустынях — животные, свойственные пескам и глинистым равнинам, каких не встретишь в иной обстановке, а в Уссурийском крае, вследствие смешения северной и южной растительности, обитают животные тайги и широколиственного субтропического леса.
Интересно приехать в новый, незнакомый тебе край и выяснить, какие птицы и звери здесь водятся. Только нелегкое это дело. Одни животные, населяющие край в большом количестве, встречаются уже в первые дни. Напротив, другие, ведущие скрытный образ жизни, попадаются на глаза очень редко. Иной раз пройдут месяцы, пока выяснишь, что по соседству с вами живет то или другое животное. С целью выяснения состава местных птиц или млекопитающих и приходится изо дня в день бродить по лесам, болотам с биноклем и ружьем, отмечать в дневнике тех, которых знаешь, и отстреливать малоизвестных.
Перед поездкой в экспедицию задолго начинаешь готовиться к ней, перечитываешь книги, где дано описание местности, которую будешь исследовать. Но этого еще мало. Надо уметь по-следопытски зорко читать живую книгу природы.
Много раз приходилось мне вести «перепись» звериного и птичьего населения.
И за годы путешествий я выработал свои собственные методы, которые облегчают и ускоряют мою полевую работу.
Об этом я и хочу рассказать.
Приехал я в Уссурийский край. Иду по молодому дубовому лесу и вдруг слышу — зяблик тенькает. Что за диковина! Ведь я отлично знаю, что в Уссурийском крае зяблики не водятся. Вскоре я разоблачил обманщицу: оказалось, это кричала древесная трясогузка, но ее крик очень похож на крик зяблика. И чем больше я прислушивался к весенней мелодии уссурийского леса, тем яснее мне становилось, что точных сведений о птичьем населении этих мест на слух я не соберу. Кажется мне, что чижи перекликаются, а оказывается — это птичка-белоглазка; китайская зеленушка кричит, как щегол. Голоса многих других птиц и вовсе были мне незнакомы. Ведь в Уссурийском крае водится немало таких птиц, каких в другом краю не встретишь. Запутался я совершенно и решил обратиться за помощью к самим птицам — к китайским серым скворцам.

Китайских скворцов в Уссурийском крае обитает великое множество. Гнездятся они в дуплах деревьев и до отказа набивают эти дупла сухими стебельками трав и птичьими перьями, чтоб у скворчат была мягкая подстилка, Собирают скворцы птичьи перья повсюду: в лесах, на полях и по берегам рек и озер. Этим скворчиным обычаем я воспользовался. Подождал, когда скворчата вылетели из гнезд (они вылетают рано), вынул из дупел несколько опустевших гнезд, разобрал их по перышку и сразу получил нужные мне сведения: какие птицы обитают в этой местности в летнее время. Среди скворчиной коллекции редко попадались перья, оброненные пролетными птицами. Больше было перьев местных птиц, которые здесь жили лето и линяли. Так я и составил большой список обитающих в этих местах птиц на основании справок, полученных от серых китайских скворцов.
Справки о четвероногих обитателях леса мне помогла навести другая веселая и красивая птица — уже знакомая нам голубая сорока. Строит свои гнезда голубая сорока на деревьях и в дуплах и внутри выстилает их толстым слоем шерсти всевозможных зверей. Осмотрел я гнездо голубой сороки и какой только шерсти в нем не нашел: здесь оказалась шерсть различных оленей, медведей двух видов — бурого и черного, енотовидной собаки, волка, лисицы, белки и колонка.
Сорока пользуется каждым удобным случаем, чтобы собрать нужную ей для гнезда шерсть. Найдет в ловушке-давилке, куда позабыл наведаться охотник, погибшего колонка — и давай из него шерсть выщипывать и в свое гнездо таскать. Попадется сороке клочок беличьей шерсти, утерянный зверьком во время линьки, заботливая птица и этот клочок не упустит.
Словом, хлопот у сороки по устройству гнезда по горло: шерсти нужно собрать много, да и сорока в лесу не одна. Другие сороки — такие же сборщицы шерсти — соперничают между собой на каждом шагу. Вот и старается голубая сорока, чтобы дело у нее шло быстрее, выщипывать шерсть у живых животных, особенно у тех, которые большим проворством не отличаются. Большинство зверей рано начинает линять. Уже в марте шерсть на них плохо держится. Для сороки этот срок как раз подходящий — она сравнительно поздно приступает к гнездованию.
Случалось мне несколько раз видеть, как голубые сороки занимаются заготовкой шерсти для своих гнезд.
Помню, однажды забрался я в лес и сел отдохнуть на полянке. День выдался жаркий. Ветра нет, солнце палит нещадно. Окунешься в высокую луговую траву — дышать нечем. А здесь, в лесу, в тени хорошо и прохладно. Отдыхаю, а сам по сторонам посматриваю. Вдруг слышу — в чаще тихое потрескивание валежника: должно быть, осторожный зверь идет. Смотрю: выходят на полянку из чащи три оленя. Остановились. Один потянул ноздрями воздух, но слабый ветер дул ко мне, и зверь меня не учуял.
Стали олени щипать на полянке сочную траву. Щиплют и порой от мошки отряхиваются — уж очень она им в глаза лезет. А я сижу, не шелохнусь, глазом моргнуть не решаюсь, хотя и меня мошка ест безжалостно. В этот момент, бесшумно промелькнув в воздухе, на спину к одному из оленей смело опустилась проворная птица. Хвост У нее голубой, шапочка на голове черная — как не узнать голубую сороку!

Попрыгала она по спине оленя так уверенно, точно это не живой зверь, а ствол дерева, нашла удобное местечко и давай выщипывать целые клочья линяющей шерсти. Надергала полный клюв и улетела со своей ношей в чащу. Но не прошло и трех минут, смотрю — длиннохвостая сборщица шерсти тут как тут, опять по оленьей спине прыгает. Видимо, обрадовалась сорока, что подвернулся удобный случай, и спешила вернуться, боясь, чтобы олени не ушли далеко. Но, видно, оленю это было совершенно безразлично, потому что он не обращал на сороку никакого внимания.
В другой раз я видел, как сорока выщипывала шерсть у домашней собаки. Погода в то утро была плохая, и мне пришлось остаться дома. Сидя у окна, я с тоской поглядывал на серое небо: когда же наконец перестанет лить дождь и выглянет солнышко? Вдруг среди построек мелькнула голубая сорока и исчезла в саду. Вышел я осторожно на крыльцо и вижу: сидит сорока на плетне и внимательно заглядывает под навес сарая. А там, укрывшись от дождя, спит соседский пес, большой, кудлатый; клочьями висит на нем линяющая шерсть. Нырнула сорока под навес, на лету вырвала у собаки клочок шерсти и уселась на дерево — поудобнее уложить шерсть в клюве. Проснулся пес, недовольно огляделся кругом, но понять не может, кто это ему спать не дает. А тем временем сзади подлетела другая сорока и опять клочок шерсти вырвала у собаки.

Видит пес, надо искать убежище понадежнее, и понуро зашагал к дому, хотел залезть под крыльцо. Но сорока не теряла времени и успела-таки вырвать еще клок собачьей шерсти. Вздрогнул пес, весь подобрался, даже зубы оскалил, но головы не повернул. Знал, видно, что ничего ему не сделать с назойливой и ловкой птицей.
Я рассказал эту историю не случайно. Любители природы могут сделать из нее полезные для себя выводы. Конечно, не каждому удастся увидеть гнездо голубой сороки или китайского скворца. Но каждый натуралист, собирая сведения о пернатом и четвероногом населении своего края, может пользоваться услугами «местного справочного бюро» в природе.
Очень верные справкам дают нам обыкновенный скворец, полевой воробей и многие другие птицы.
Глава четвертая
АМУРСКИЙ ПОЛОЗ
Во время моего пребывания в Уссурийском крае меня интересовали не только млекопитающие и птицы, к которым я питаю особую любовь, но и другие животные. В Долине реки Иман, экскурсируя в окрестностях селения Вербовка, я столкнулся впервые с амурским полозом. Эта неядовитая змея в некоторых случаях достигает около двух метров длины и бывает чуть тоньше руки взрослого человека. Амурский полоз настолько великолепен по изяществу рисунка и яркости своей окраски, состоящей из узких желтых полос по темному основному фону, что нельзя им не восхищаться.
«Какая замечательная змея, — подумал я, увидев в первый раз полоза. — Недаром змеиная кожа высоко ценится и идет на изготовление дорогих дамских сумочек. Обязательно нужно привезти в зоопарк в Москву несколько таких экземпляров — пусть посмотрят, кто не видел этих змей на воле».
Ловить змей не очень трудно, а перевозить даже на дальнее расстояние много легче, чем других животных. Их можно в дороге не кормить и не поить.
Для перевозки пойманных в Уссурийском крае змей я взял обычную старую вещевую корзину, набил ее наполовину сеном, сунул туда свои походные сапоги, сумку, патронташ и выпустил в корзину двенадцать полозов. Потом обшил ее мешковиной и сдал в багаж по железнодорожному билету как домашние вещи. «Домашние вещи» прекрасно перенесли одиннадцатидневный переезд по железной дороге, благополучно прибыли в Москву и долго жили в террариумах зоопарка.
В том году в районе, где я путешествовал, змей было особенно много — настоящая змеиная напасть. Куда ни пойдешь — всюду их встретишь.
Внесет хозяйка охапку сена в избу, а в сене — змея. Поднимется суматоха, крик! Пойдут деревенские ребята на лодке кататься — и в лодке под лавкой, свернувшись кольцом, лежит крупная змея.
Мне это было на руку. Как только услышу крик, бегу на место происшествия в полной уверенности, что найду легкую добычу. При этом обилии я решил оставлять для себя только самые интересные, крупные экземпляры. Но особенно часто встречались мне змеи во время моих охотничьих экскурсий. Иду я однажды по окраине болотистого мелкого леса и вдруг вижу, как под нависшими кустами медленно извивается длинное тело крупной змеи.

Это оказался крупный амурский полоз. Добравшись до гнезда дикой утки, полоз схватил в пасть одно яйцо и давай его заглатывать. Яйцо большое, скользкое — никак в глотку не лезет.
Несчастная утка, отойдя от гнезда в сторону, прижалась к земле и тихо шипела. Я подошел совсем близко, но утка не обращала на меня никакого внимания. Она не сводила со змеи глаз.
Мне стало жаль бедную птицу, и, осторожно срезав гибкий прут, я что было силы стегнул им полоза. Змея свернулась, как стальная пружина, и с молниеносной быстротой исчезла в траве.
Амурские полозы сильно вредят птицам, поедая птенцов и яйца. От змей страдают не только те птицы, которые гнездятся на земле, но и те, которые вьют свои гнезда на высоких деревьях.
Как-то раз, пробиваясь сквозь чащу уссурийского леса, я остановился передохнуть на краю старой гари. Оставалось пройти небольшой участок, но и этот короткий путь был нелегок.
Густая трава поднималась выше человеческого роста, скрывая обгоревшие стволы деревьев, поваленные ветром после пожарища. Споткнешься о такое невидимое препятствие — и падаешь ничком, а ружье, висящее за спиной, так стукнет тебя по затылку, что искры из глаз посыплются.
В травянистых зарослях душно и жарко, как в бане. Тучи бесчисленных мошек и комаров наполняют воздух, с назойливым гудением лезут в глаза, рот, уши.
Я предвидел все эти удовольствия и решил немного отдохнуть, издали наблюдая за странным поведением птиц, которые и привлекали меня в этот уголок леса.
Вокруг старого дуплистого дерева, поднимающего к небу свою засохшую вершину, возбужденно крича, летали ярко окрашенные птицы-широкороты. Им вторили, тревожно посвистывая, желтоспинные мухоловки. На ветках беспокойно суетились серые китайские скворцы. Все птичье население, гнездившееся в дуплах и трещинах коры отжившего дерева-великана, было чем-то сильно взволновано. И мне хотелось узнать, кто виновник этого переполоха.
Внимательно наблюдая за птицами, я пришел к убеждению, что непрошеный гость находится где-то на стволе дерева. По-видимому, он перемещался с места на место, и в такие минуты поднимался невообразимый шум, затем на короткое время он стихал и снова возобновлялся с особенной силой.

Я навел бинокль на ствол дерева и, исследовав его, вскоре увидел медленно передвигающееся по стволу тело крупной змеи. Пользуясь неровностями коры и трещинами, полоз, извиваясь и блестя на солнце, настойчиво взбирался на дерево. Может, ему хотелось поскорее позавтракать птенцами, а может, он заметил мое приближение и хотел укрыться от опасности.
Сбросив с себя ружье и бинокль, я тоже полез на дерево вслед за полозом. Человеку трудно соперничать со змеей. Полоз достиг вершины дерева и забрался на самый конец сухой ветки. Последовать за ним туда я не мог: сухая ветка не выдержала бы моей тяжести. «Ведь не достанешь, вот досада!» — думал я и смотрел, как змея, обвившая сук своим длинным телом, четко выделяется на фоне голубого неба.
Но не все еще было потеряно. Срезав длинную гибкую палку, я постарался взобраться возможно выше и начал дразнить змею, осторожно ударяя ее тупым концом своего оружия.
Такое обращение не могло понравиться полозу. Он шипел и в бессильной злобе кусал палку. Чем сильнее я дразнил змею, тем больше она теряла терпение. Заметив, что шея змеи обвилась вокруг моей палки, я перестал наносить удары. Это и обмануло полоза. Он стал переползать на палку, видимо приняв ее за сухую и более безопасную ветку. Я подождал, пока длинное тело змеи целиком переместилось на фальшивую ветку, быстро подтянул к себе и, схватив змею за шею, сунул ее в заплечный мешок.
Хотя полоз неядовит, но обращаться с ним нужно умеючи, потому что кусается он очень больно. Я это испытал на себе.
Однажды шел я по узкой, протоптанной в густой и высокой траве тропинке и увидел, как через нее медленно переползает змея. Она, видимо, меня не заметила. Голова змеи уже скрылась в траве, и мне было видно только скользившее по земле длинное тело.
Я подошел вплотную и поднял ногу, чтобы придавить хвост, когда он покажется. Я всегда таким способом ловлю крупных неядовитых змей. Наступлю на хвост, а когда змея начнет извиваться и биться, хватаю ее за голову.
Приготовился я таким образом и жду появления хвоста. А длинное тело медленно тянется и тянется по земле, и кажется мне, что конца ему не будет.
Но вот наконец появился долгожданный хвост. Я наступил на него и сразу почувствовал, с какой силой рванулась, пытаясь освободиться, змея.
Я сильнее придавил хвост и стал ожидать благоприятной минуты, когда змея совьется в клубок. Но полоз оказался хитрым. Он не показывал голову из травы и, дергаясь своим сильным телом, старался вытащить хвост из-под моей ноги.
Вдруг полоз вцепился в мою до локтя оголенную руку. Кровь так и брызнула и струйками побежала к кисти.
Схватив полоза за шею у самой головы, я старался раскрыть змеиную пасть, освободиться от ее хватки. Делать это одной рукой было очень неудобно, тем более что острые и длинные зубы полоза направлены своими концами по косой линии внутрь глотки.
Много боли причинил я себе и полозу. Часть зубов у змеи пришлось изломать: так глубоко они вонзились в мою руку. А когда полоз был посажен в мешок, при помощи иглы и скальпеля я извлек из своей руки обломки змеиных зубов.
Кусала меня и ядовитая змея, и хотя это произошло не в Уссурийском крае, а в пустыне Кызылкум, в Казахстане, я позволю себе рассказать и об этом случае.
Представьте себе палящий полдень в пустыне, очертания высоких песчаных холмов, караван верблюдов, медленно шагающих по раскаленному песку.
Я шел сбоку каравана с ружьем в руках: не выскочит ли где песчаный заяц, не взлетит ли птица?
Вдруг что-то мелькнуло среди полыни и исчезло в ближайшем кустике баялыча. Я наклонился к кусту, вглядываясь в его спутанные ветки, и в тот же момент почувствовал быстрое легкое прикосновение к своему лицу и укол в губу. Я тронул губу, на руке осталось пятнышко крови. Что такое?
Недолго думая, я стал топтать кустик ногами, и оттуда выскользнула змея-стрелка. Названа она так за необычайную быстроту своих движений. Трудно уследить глазами за скользящей по глинистой почве змейкой, тем более что окрашенное в серый цвет тонкое тело стрелки совершенно сливается с окружающей ее обстановкой.
Однако мне все же удалось нагнать стрелку, наступить ей на хвост и поймать за голову. Спрятав пойманную змейку в привязанный к поясу мешок, я зашагал дальше.
Может, вам покажется странным, что человек мог так легко перенести укус ядовитой змеи? Но дело в том, что ядовитые зубы у стрелки помещаются глубоко в пасти. Поймав ящерицу передними зубами, змейка начинает заглатывать добычу, и только когда уколет ядовитым зубом, ящерица перестанет биться. Укусить человека своими ядовитыми зубами стрелка не может, а укус передних ее зубов не опасен.
Так что хотя и укусила меня ядовитая змея, но укушенная губа даже не опухла и ранка быстро зажила.
У многих людей змеи вызывают страх и отвращение. Но для меня, натуралиста, каждое животное по-своему интересно. Я змей совсем не боюсь, так как хорошо знаю, что змея редко сама бросается на человека. Не трогай ее, и она тебя не тронет. Если же змея испугана или раздражена, она смело защищает свою жизнь или нападает сама.

«Змеиное жало», «ужалила змея» — очень распространенные выражения в быту. Только это неверно. Как раз жала-то у змеи и нет. Длинный раздвоенный язычок, который змея высовывает в минуту раздражения, совсем не опасен. Страшны ядовитые зубы змеи. Что же они собой представляют?
Обычно очень длинные и острые по сравнению с другими зубами, они помещаются по одному по сторонам верхней челюсти. Рядом с ядовитым зубом находится от одного до семи зубов-«заместителей»; их назначение — заменять сломанный ядовитый зуб. Основания ядовитых зубов, имеющих особые канальцы, соединены с железами, выделяющими ядовитую жидкость. При укусе, который обычно малоболезнен и напоминает укол тонкой иголки, яд по канальцу стекает из железы в ранку укушенного животного.
За исключением гюрзы и кобры, достигающих больших размеров, крупные змеи нашей страны не имеют ядовитых зубов. Напротив, надо быть очень осторожным с маленькой змеей, особенно если заметишь, что хвост у нее тупой, словно обрубленный, скулы широкие, а голова по форме похожа на треугольник. Это признаки ядовитой змеи.
Глава пятая
МЯГКОТЕЛЫЕ ЧЕРЕПАХИ
У большинства видов черепах все мягкие части тела, за исключением головы, ног и хвоста, постоянно скрыты в панцире. Испуганная или потревоженная черепаха тотчас же спрячет голову, ноги и хвост под края панциря и, защищенная им, как броней, для многих животных становится недоступной.
Плоский снизу и выпуклый со спинной стороны панцирь состоит из костных образований — щитков, сросшихся между собой и с ребрами и позвонками животного. Он настолько прочен, что его трудно раскусить хищнику, а иначе до мягких частей черепахи не доберешься.
В нашей стране есть и сухопутные черепахи, есть и такие, которые обитают в озерах и реках. Сухопутные питаются главным образом растениями (в хлопковых районах они могут вредить посевам). Водяные черепахи — хищники. Поедают они водяных животных, рыб, лягушек и личинки насекомых. Черепахи откладывают яйца. Зароет их черепаха в песок на отмели, пролежат яйца там известное время — и выведутся из них маленькие черепашата.
Встречаются у нас и такие черепахи, которые по внешности и строению отличаются от обычных. Их панцирь не такой крепкий, как у других черепах. Кости панциря не срастаются между собой, и весь он сверху покрыт мягкой темной кожей. Называется эта черепаха мягкотелой. Обитает она в озерах и реках Уссурийского края.
Думаю я, что эту черепаху знают очень немногие. Вот об этой своеобразной черепахе я и хочу рассказать читателям.
Еще задолго до моего выезда в Уссурийский край, куда я направлялся не только для изучения местной фауны, но и для того, чтобы привезти в Московский зоопарк редких животных, я составил для себя список. В него вошли птицы, млекопитающие, а также мягкотелые черепахи.
Перед отъездом ко мне несколько раз приходил заведующий террариумом и все просил привезти ему мягкотелых черепах, заверяя, что это совсем нетрудно. На поиски их много времени не потратишь — в Уссурийском крае мягкотелых черепах великое множество. Хлопот в дороге они не доставят, кормить их не нужно: и голодные до Москвы отлично доедут.
На словах выходило все очень гладко, а на деле… Но буду рассказывать все по порядку.

Приехал я на место, поселился в маленьком поселке на берегу реки и, как всегда делаю, собрал местных ребят и заказал поймать для меня различных животных. Ребята охотно обещали помочь, но как дошло дело до мягкотелых черепах, замахали руками, даже слушать меня не хотят. «Лови, — говорят, — сам, а мы не будем ни за какие деньга».
Обратился я тогда к местным рыбакам. Думаю, эти согласятся — люди бывалые. Но и рыбаки наотрез отказались ловить черепах. Пришлось заняться ловлей самому.
Поймать мягкотелую черепаху оказалось трудно. Большую часть времени она сидит на дне водоема. Зароется в ил или песок, только кончик носа высунет и следит своими выпуклыми глазами — не проплывет ли мимо рыба.
В глотке черепахи на слизистой оболочке есть особые выросты — ворсинки, обильно снабженные кровеносными сосудами. Они выполняют роль жабер, и благодаря им черепаха может сидеть в воде до пятнадцати часов, не показываясь на поверхности. Вот и попробуй найти такую черепаху.
На мое счастье, дни стояли чудесные, а в жаркую погоду черепахи охотно выходят из воды, чтобы погреться на солнце. Но и при этих условиях не так-то просто было поймать черепаху. Заметит она лодку и бросается в воду как сумасшедшая — только и увидишь, как круги по воде пошли. Потерпев не одну неудачу, я стал издали в бинокль разыскивать черепах на отмелях, а высмотрев, старался тихонько спуститься с лодки на воду и подплыть как можно ближе, чтобы, выскочив на берег, отрезать животному отступление к воде.
Этот стратегический план я и осуществил в один прекрасный день. Однако застигнутая мной на отмели черепаха не растерялась. Вытянув свою длинную шею, широко раскрыв пасть, она сама кинулась мне навстречу. Я схватил черепаху за бок, бросил ее на песок спиной вниз. Однако, не в пример другим черепахам, она тут же перевернулась и, разинув пасть, снова бросилась на меня.
Тогда я схватил ее за щит сзади у самого хвоста и стал звать своего спутника-рыбака: «Давай сюда лодку, мешок, да скорей!» Моя пленница повернула назад голову, вытянула длинную шею, того и гляди до моих пальцев достанет — укусит, а сама ногами гребет в воздухе — вот-вот вырвется.
Рыбак пригнал лодку, мешок мне бросил, а подойти ближе боится. Я его и просил, и стыдил, трусом называл, ничего не подействовало.
Пришлось мне самому управляться. Толкаю я черепаху в мешок, а она уцепилась за край мешка пастью — не оторвешь. Наконец впихнул я свою живую добычу в мешок, положил в лодку, и мы поплыли дальше по мелкому затону. Я сидел спереди, рыбак сзади на корме правил веслом, с опаской поглядывая на шевелящийся мешок.
Вдруг вижу я — две черепахи сбежали в воду с отмели и плывут к лодке. Вода прозрачная, как стекло, видно все дно, усыпанное крупной галькой, а под лодкой — тень, здесь они по глупости и решили укрыться. Спрыгнул я в воду по самую грудь, схватил одну черепаху и швырнул ее в лодку, признаться, забыв сгоряча о присутствии своего спутника. Только он тотчас же о себе напомнил: чуть лодку не перевернул, шлепнулся в воду и скорей вброд к берегу.

Черепаха тем временем старается из лодки выбраться. Я ее шапкой осаживаю, назад толкаю, а она знай кусает шапку и карабкается на борт. Кое-как я придавил ее мешком, рубаху снял и завернул в нее свою новую добычу. Пока я возился с черепахой, мой спутник, стоя на берегу, ругал меня отборными словечками. Дескать, документы у него промокли, а главное — спички и махорка, курить теперь нечего. Уж как только он меня не честил:
— Чтоб тебе с твоими черепахами пусто было! Век свой прорыбачил, а в одежде не купался. Хорошо, что на мелком месте в воду попал, а то и утонул бы, может. Знал бы, ни за что с тобой не поехал!
Я его зову:
— Старик, успокойся, влезай в лодку, домой поедем.
Но рыбак и слушать меня не хочет.
— Лучше десять верст пешком пойду, чем с твоими окаянными тварями в лодке плыть.
Разделся старик догола, развесил мокрую одежду на кустах, разложил на гальке документы, придавил их камешками. Сидит на берегу голый и все меня и моих черепах ругает. Самое главное, курить ему нечего, от этого еще пуще его злость разбирает.
Пришлось мне одному добираться домой. Вечером пришла старуха — жена рыбака — и тоже на меня напустилась:
— Што ж ты деда-то моего чуть не потопил, нешто так можно!
После этой истории никто больше со мной ездить за черепахами не соглашался. Однако я от своего решения не отступился и один сумел изловить десяток крупных черепах. Посадил своих пленниц в ящики, поставил в сарай и успокоился. Думаю, доживут они до отъезда без особого ухода, как и другие черепахи, с которыми мне приходилось сталкиваться раньше.
Однако я ошибся. Спустя четыре дня заглянул я в ящики да так и обмер. Все мои черепахи погибли без воды, даже успели высохнуть! Столько труда, хлопот — и все напрасно.
Опять начинай все сначала. Правда, к этому времени я научился ловить черепах при помощи особого, специально для этой цели изготовленного треугольного сачка.
Поймать новых черепах я поймаю, но как довезти их до Москвы? Путь далекий, целых десять дней ехать надо, а они два дня без воды вряд ли выдержат.
Вскоре опять у меня собралось десять черепах, а среди них одна большая, как сковородка. Длина ее была тридцать сантиметров. Каждую черепаху я сажал в отдельный ящик со щелями и наполовину погружал в воду речного затона. Сидит моя черепаха целыми днями, как в ванне, и рыбу ловит, которая нет-нет да и зайдет в ящик через щели.
Собрал я, кроме того, более сотни черепашьих яиц, думаю, авось удастся вывести из них черепах. Интересно было отыскивать эти яйца. Подъедешь к песчаной косе, выследишь, куда черепашьи следы ведут. Они наверняка приведут к тому месту, где песчаные бугорки насыпаны. Какой ни раскопаешь — найдешь тридцать — сорок яиц. Одним словом, с черепахами все было в порядке, и я занялся ловлей других животных. В ежедневных экскурсиях — то по реке на лодке, то пешком по сопкам или по высокотравным уссурийским лугам — время пролетало незаметно и быстро.
Подошел срок ехать в Москву. Перевозка живого груза — ответственное дело. Все надо предусмотреть, рассчитать, обдумать, обо всем позаботиться. Малейшую оплошность допустишь — трудно ее в дороге исправить, замучаешься.
Из Москвы я захватил с собой два ящика, разгороженных на отдельные ячейки. Туда я и посадил черепах и достал большое ведро, чтобы купать своих пассажиров во время дороги. Только одна самая большая черепаха в ведро не помещалась. Но достать ведро еще шире было невозможно.
На другое утро я со своей живностью прибыл подводой на железнодорожную станцию.
Погрузил я своих животных в багажный вагон скорого поезда. С этой минуты и начались мои мучения. Багажный вагон помещался впереди состава — сразу за паровозом, а сам я ехал в пассажирском вагоне, почти что в хвосте поезда. Животных нельзя оставлять без присмотра (мало ли что в дороге случиться может), и покормить их надо. Но никто не доставлял мне столько хлопот, как черепахи. Каждую из них надо в течение дня подержать в воде, чтобы они не высохли, не погибли, а черепах у меня десяток. Вот и бегаю я на каждой остановке вдоль всего состава к багажному вагону и обратно. Говорят, моцион полезен, но все же никому не пожелал бы я таких прогулок.
В багаже находилось у меня и ведро с водой. Прибегу, вытащу из ящика черепаху и посажу в ведро. К этому времени я научился обращаться со своими пленницами и умел так взять черепаху, что она при всем старании не могла достать моей руки. Сидит черепаха в воде до первой большой остановки, а там на смену ей другую сажаю.
Так в течение дня каждая черепаха могла побыть часа полтора-два в своей родной стихии. Только одну, самую большую черепаху купать я не мог: не помещалась она в ведре — и приходилось мне ее в мокрый мешок заворачивать. Только эти примочки не помогли. Мешок быстро высыхал, и животное не получало нужной ему влаги. Доехала моя черепаха до Читы и погибла. Скрепя сердце пришлось мне ее выбросить. Много времени прошло с тех пор, но и сейчас не могу вспоминать об этом без досады. Такие крупные черепахи — редкость, в музей бы ее надо, а я выбросил.
У Байкала, на станции Мысовой, произошло неожиданное приключение. Я знал, что здесь поезд не будет стоять долго, нервничаю, пересаживаю черепаху из ведра в ящик, тороплюсь, а она как вцепится в рукав моей куртки, хорошо еще, что не в руку. Попытался я ее оторвать от рукава, ничего не выходит.
А тут уже два звонка поезду дали, багажный раздатчик спешит закрыть вагон. Что тут делать? Выскочил я из вагона на платформу и бегом к своему вагону с черепахой на руках. Едва успел вскочить на площадку на ходу поезда. В вагоне публика так от меня и шарахнулась. Прошу я помочь мне отцепить черепаху, но соседи видят, что это черепаха необыкновенная, кусачая, — и все в стороны, никто мне помочь не хочет.
Целых два перегона провозился я с черепахой, пока наконец отделался от ее мертвой хватки.
Спокойно вздохнул я только на московском вокзале. Передал свой живой багаж сотруднику зоопарка, а сам скорей домой отсыпаться после дороги. В спешке я и забыл предупредить, что с черепахами нужно обращаться осторожно.
Стала служительница в зоопарке черепах из ящика в террариум пересаживать. Она привыкла иметь дело с другими черепахами и вновь прибывших не знала. Ну и одна черепаха вцепилась ей в руку так крепко, что более часа не могли развести ее челюсти. Пришлось ветеринарным врачам зоопарка вмешаться.
Чем же, собственно говоря, страшны мягкотелые черепахи, почему их так боятся в Уссурийском крае? Да, вероятно, потому, что они действительно кусаются больно и иной раз схватывают за ногу купающегося, случайно наступившего на них человека. Как и у других черепах, зубов у них нет, но они крепко сжимают челюсти и долго не отпускают своей жертвы.

Остается мне сказать еще несколько слов о черепашьих яйцах, которые я привез в Москву. Положили их в банку, наполненную песком, поддерживали нужную влажность и температуру, и спустя некоторое время из яиц вывелись черепашата. Маленькие, смешные, но шустрые и злющие, как их родители.
Но их не удалось сохранить в зоопарке. Однажды посадили черепашат в широкий низкий аквариум, где вода едва прикрывала дно, и выставили на воздух, чтобы погреть на солнце. День выдался жаркий и ветреный, вода быстро высохла, и все до единого черепашата погибли. С тех пор прошло немало времени. Несколько раз я просил знакомых, едущих в Уссурийский край, привезти мне живую мягкотелую черепашку. Но каждый раз попытка выполнить мою просьбу оканчивалась неудачей. То убежит пойманная черепашка, то погибнет, то вообще поймать ее не удастся. Наконец в 1949 году я получил драгоценный для меня подарок — крошечную, с медный пятак величиной, мягкотелую черепашку. В течение трех лет она благополучно жила в моем аквариуме.
Вначале я поместил ее в низкую банку, дно которой покрыл толстым слоем песка и очень тонким слоем воды. Мне казалось рискованным помещать животное в глубокий аквариум — вдруг задохнется. Однако вскоре я убедился, что моя черепашка часами сидит, зарывшись в песке, под водой и крайне редко пользуется внешним воздухом. Тогда я пересадил черепашку в большой глубокий аквариум, где жили различные рыбки. Интересно было наблюдать, как черепашка быстро плавала среди растений, схватывала на дне красного червяка мотыля, а потом закапывалась в песок. Однако я боялся за своих рыбок: вдруг поймает? — ведь мягкотелая черепаха — большой хищник. И мои опасения вскоре оправдались: черепашка поймала и съела рыбку-меченосца.
После этого случая я счел необходимым, хотя бы временно, содержать ее отдельно от рыбок и устроил специально для черепашки просторный аквариум. Туда же я посадил особую бойцовую рыбку, так называемого макропода. Мне было хорошо известно, что самцы макроподов крайне смелы и драчливы; в некоторых случаях они смело дают отпор даже крупным и сильным животным. Мне казалось, что макропод может отучить черепашку гоняться за рыбками, и я не ошибся. При первой же попытке схватить макропода черепашка потерпела поражение. Несколько ударов смелой рыбки заставили ее спасаться бегством и зарыться в песок. Вскоре между рыбкой и черепахой установились прочные отношения. Черепашка боится макропода и не решается на нападение. Макропод не замечает труса-черепашку. Оба животных едят одну и ту же пищу — красных червячков мотыля. Макропод даже научился извлекать пользу от своего сожителя. Он поедает тех червячков, которых выкапывает черепашка, зарываясь в песок.
Мягкотелая черепаха — животное съедобное. Японцы издавна занимались разведением этих черепах, получая большие доходы. В последнее время стали разводить мягкотелых черепах и у нас в Уссурийском крае.

ПО ЗАКАВКАЗЬЮ
Глава первая
ОДИН ДЕНЬ В ЛЕНКОРАНИ
Живописный портовый городок Ленкорань расположен в Закавказье, на юго-западном берегу Каспийского моря. В прошлом до Ленкорани добираться было не так легко, как в наше время. Баку и Ленкорань не соединялись, как ныне, железной дорогой, а переезд морским путем, и особенно в штормовую зимнюю погоду, был сопряжен со многими неудобствами.
Новый, 1925 год мы встречали на палубе парохода. Ночь была темная и холодная, как у нас на севере поздней осенью. Над широким Каспием гулял ветер, за бортом парохода неприветливо шумели и плескались волны. В эту ночь мы заснули под тоскливый вой ветра и монотонное гудение пароходного винта. Зато на другой день, когда пароход остановился на Ленкоранском рейде, а громкий свисток поднял всех пассажиров на ноги, нас встретило чудное утро. По-весеннему светило яркое солнце. Было тепло и как-то особенно тихо. Но недолго пришлось нам спокойно любоваться голубым небом и тихим морем. Нас ожидала такая своеобразная высадка на берег, какой мы не предвидели.
По свистку парохода от берега отделилось около десятка больших лодок. Быстро приблизившись, они окружили пароход, на палубу со всех сторон полезли загорелые мускулистые носильщики. Поднялась страшная суматоха. Носильщики хватали и тащили с палубы вещи и пассажиров, причем каждый старался захватить в свою лодку как можно больше живого и прочего груза. Это соревновались между собой артели. Все делалось с такой ошеломляющей поспешностью, с таким неистовым криком, что высадка напоминала сцену нападения пиратов из какого-нибудь приключенческого фильма.
Через две-три минуты до отказа нагруженные лодки отчалили от борта парохода и направились к берегу. Но вскоре лодки одна за другой сели на мель. Опять началась кутерьма. Носильщики бесцеремонно хватали пассажиров, взваливали их себе на плечи и, вброд достигнув берега, как куль с мукой, сбрасывали людей на землю, но так умело, что пассажир всегда становился на ноги. Вряд ли такая высадка могла понравиться свежему человеку — к ней необходимо привыкнуть. Надо сказать, что в настоящее время все это только далекие воспоминания.
Но вот мы на твердой почве. Однако вместо того чтобы заняться своим багажом, позаботиться о подыскании квартиры, мы стоим на морском берегу, растерянно осматриваясь вокруг.
Какой невероятный контраст с предыдущей холодной и неприветливой ночью! В то время, когда у нас под Москвой трещат морозы, бушуют метели, под Ленкоранью выдаются такие деньки, какими не так уж часто и летом балует нас север. Первое января — а перед нами тихое, безмятежное море, мягкие очертания лесистых гор и душистый воздух, напоенный ароматом фруктов, вялых листьев и выброшенных на берег морских водорослей. На зеркальной морской поверхности — масса плавающих уток. Вот на них бросается крупный хищник — орлан-белохвост. Спасаясь от него, часть уток ныряет, другие поднимаются в воздух и шумной стаей, описав большой полукруг, вновь садятся на воду.

Вот далеко на морском горизонте появляются неясные вереницы гусей и фламинго. Живая лента колеблется в воздухе, растет по мере приближения — ближе, ближе. Вот она над самыми нашими головами. Видны крупные розовые фламинго и серые темнобрюхие гуси, их глаза, ноги, перья. Воздух наполняется звонкими высокими выкриками, протяжным гоготом. Птицы так близко, звуков так много, что вы невольно сжимаетесь перед надвигающейся на вас лавиной. Но это только одно мгновение. Близость человека заставляет дикие стаи нарушить строй, сбиться в тесный клубок, круто подняться выше. Крик возрастает, порывисто шумят и свистят сильные крылья. Несколько секунд — и, вновь образовав шеренгу, птицы далеко позади, очертания движущейся линии становятся неясными, голоса слабеют, и, наконец, крикливая вереница, как бы тая в воздухе, сливается с далью.
А вместо них с противоположной стороны уже приближаются новые разноголосые полчища.
Муганская степь и морской залив, расположенные несколько севернее Ленкорани, — коренные места зимовок различных уток, гусей и длинноногих, ярко окрашенных птиц — фламинго. Из Западной Сибири, северных частей Казахстана и с Волги бесчисленное количество водяных птиц собирается сюда, на степные озера и морские побережья, чтобы провести зиму.
Но в том году резкое похолодание в декабре и выпавший глубокий снег заставили птиц покинуть коренные места зимовок и отлететь далеко к югу, за границы Ирана. Борясь с неблагоприятными условиями, масса зимующих птиц погибла от бескормицы, другие, обессиленные жестоким голодом, отдались живыми в руки местных жителей. Но как только прекратились холода и бураны и стаял снег, обнажив зеленые травы, отлетевшие в Иран стаи вновь потянулись к северу, на свои обжитые места зимовок — в Муганскую степь. Это как раз и совпало с нашим приездом.
Не замечая времени, мы с восхищением следили за летевшими вереницами. Нового человека особенно поражают фламинго.
Кажется — ярко-красная лента извивается, медленно ползет в голубом небе. Эх, скорей бы хоть одну такую птицу заполучить в руки, на всю жизнь сохранить ее шкурку на память о Ленкорани! Но в этот момент наше восторженное настроение самым бесцеремонным образом было нарушено носильщиками. Им, видимо, надоело ждать, когда приезжие прекратят топтаться на одном месте, следя за пролетающими птицами. Не видя этому конца, они взяли на плечи наш экспедиционный багаж и направились к ближайшему строению — ленкоранской гостинице. Пришлось идти и нам.
Для нас Ленкорань была только промежуточным пунктом. После многолюдной столицы мы стремились к настоящей природе, подальше от населенных мест.
Утром, наняв подводу, запряженную парой буйволов, и погрузив нашу экспедиционную утварь, мы, по совету местного лесничего, выехали в селение Вель.
Глава вторая
КОЛЮЧИЙ ШАКАЛ
В восьми километрах к югу от городка Ленкорани, в маленьком селении Вель, расположенном на берегу моря, жил замечательный зверовой охотник — лесной объездчик Макар Потягаев. Ему и было адресовано письмо из Ленкоранского лесничества, лежавшее в моем кармане. Но в этом письме, видимо, и не было большой нужды, так как, отложив его в сторону, чтобы прочесть на досуге, Макар встретил нас так приветливо, словно мы были старые знакомые. За ужином он с жаром рассказывал о замечательных местных собаках, об охоте на кабанов, но особенно нас заинтересовали рассказы про дикобразов. Дикобраз — самый крупный грызун нашей фауны. Его иглы — видоизмененные волосы — надежное орудие защиты против врагов. Он населяет предгорья, овраги и сады большей части Средней Азии и отсюда проникает в юго-восточное Закавказье.

По словам Макара получалось, что достаточно выйти ночью на крыльцо и постоять минут двадцать, чтобы обязательно услышать, как в садах дикобраз тарахтит своими хвостовыми иглами. Эту музыку за полкилометра слышно. Дикобраз здесь самый обычный зверь, и увидеть его нетрудно. Он не очень пуглив и чуток, когда копает коренья на огородах. Однако поймать дикобраза живым — нелегкое дело. Капкан для этого мало пригоден. Если капкан слабый, его дуги не могут удержать ногу зверя, покрытую жестким и скользким волосом. Сильный капкан, правда, не дает зверю выдернуть ногу, но зато повредит ее обязательно, а зверь с пораненной ногой не выживает. Значит, надо ловить руками, но попробуй схватить зверя, когда он весь покрыт иглами. Схватишь за загривок — толку мало. В руке останется пучок вырванных игл, а сам дикобраз уйдет. За переднюю ногу ловить дикобраза опасно: он может укусить своими огромными передними зубами — резцами.
— За заднюю ногу надо дикобраза хватать — только так его поймать можно, — закончил свой рассказ Макар, — но зверь свое слабое место хорошо знает: подойди к нему сзади — он так тебя иглами угостит!
Время для ловли было самое подходящее. Недавно выпал большой снег и весь растаял, так что норы дикобраза теперь затопило водой и зверям приходилось отсиживаться в колючих кустарниках.
Нас так раззадорили рассказы старого охотника, что мы решили, не откладывая, попытаться поймать колючего зверя. В то время в Московском зоопарке дикобразов не было, и такая добыча была бы весьма ценна.
Ночь, которую мы выбрали для охоты, была теплая и тихая. Яркая луна освещала спящий поселок, сады, леса и горы. В стороне чуть слышно плескалось море. Вчетвером мы пробрались в глубь сада по узкой тропинке, идущей вдоль шпалерных виноградников. Было ли это счастливое стечение обстоятельств или действительно дикобразов в садах водилось множество, но не успели мы пройти и сотни шагов, как натолкнулись на зверя. Дикобраз так был увлечен выкапыванием кореньев на полянке, что заметил нас слишком поздно. Он помчался скачками к колючим зарослям, но мы со всех ног бросились за ним вдогонку, и через несколько секунд зверь был окружен четырьмя ловцами. Почувствовав, что уйти невозможно, дикобраз приготовился защищаться. Весь взъерошенный, он ловко поворачивался, выставлял толстые, покрывающие его спину иглы в ту сторону, откуда грозила опасность.
Добыча была близко, почти что в руках, но как взять так хорошо вооруженного зверя? Сгоряча один из ловцов попытался схватить зверя за ногу, но дикобраз, быстро повернувшись, с такой силой ударил преследователя острыми иглами, что они глубоко вонзились в руку, и из многочисленных ранок брызнула кровь. Тут мы на горьком опыте убедились, что дикобраз не стреляет иглами издали, как это думают многие, а, подпустив преследователя поближе, бьет его своей колючей массой. Иглы настолько слабо держатся в коже зверя, что, вонзившись, остаются в теле врага.
— За заднюю ногу хватай! — неистово кричал Макар, стараясь ударом ноги свалить зверя на бок. Но как только нога его коснулась дикобраза, зверь сделал резкий толчок всем телом по направлению нападающего, и добрый десяток толстых игл насквозь прокололи сапоги и глубоко застряли в ноге.
Так же безуспешны были и новые отчаянные попытки овладеть зверем. Руки и ноги у большинства ловцов были сильно поранены. Но нельзя же было упускать зверя.
Не щадя себя, мы дружно, все вчетвером, снова ринулись на дикобраза, сдавили его ногами со всех сторон, и одному из нас наконец удалось схватить зверя за заднюю ногу. Так, за ногу, мы и приволокли своего пленника к жилью Макара.
В избе дикобраз как-то сумел вырваться и стал метаться из угла в угол, опрокидывая по пути домашнюю утварь. Проснувшись от шума, сынишка Макара в страхе полез под кровать. Туда же через несколько секунд забился и дикобраз, тарахтя своими иглами.
Мы быстро вытащили из-под кровати перепуганного мальчишку, а дикобраза загнали в угол и, охраняя себя, как щитами, скамейками, прижали колючего зверя к стенке. Опять пришлось заплатить новыми ранениями, чтобы схватить дикобраза за заднюю ногу. Наконец зверь был пойман и за неимением клетки водворен в пустую винную бочку.

На другой день участники ночного похождения вышли из строя. Пораненные руки и ноги опухли и сильно болели.
Но мы все же не отказались от своего намерения продолжать ловлю, так как одного дикобраза для нас было недостаточно.
Решено было только изменить способ ловли. Мы твердо были уверены, что, как только земля просохнет, норы в садах (а их было немало) вновь заселятся животными. Не хотелось больше подвергать себя болезненным уколам и казалось легче и безопаснее взять дикобразов в их подземных жилищах, раскапывая норы при помощи вертикальных колодцев. Раскопка нор была крайне тяжелой работой, но мы с этим мирились.
Настал февраль, пришла ранняя закавказская весна. Среди колючих зарослей и лоз винограда зазеленела свежая травка, на деревьях набухли почки. Влажная дымка испарений поднималась от быстро просыхавшей земли. Просыхали и норы дикобразов, взятые нами под наблюдение.
Мы же со дня на день все откладывали раскопку. Уж очень много хлопот и беспокойства причинял нам сидевший в бочке дикобраз. На отсутствие аппетита у своего пленника мы не могли пожаловаться. Капуста, свекла, морковь и другие овощи поедались им охотно и в изобилии. Но когда дикобраз не был занят едой, он начинал грызть стенки бочки. Мы забивали образовавшиеся дыры кусками жести, но и это не помогало. Могучими резцами зверь отдирал жестяные заплаты и расширял отверстия.
Ни одной ночи мы не знали покоя. Нас будил треск разгрызаемого дерева. Приходилось вставать с постели и что есть силы стучать в стенки бочки. На короткий срок дикобраз утихал, но затем вновь упрямо возобновлял свою разрушительную работу. Мы так измучились, что один вид дикобразовой бочки приводил нас в плохое настроение. Вот почему мы и откладывали отлов новых дикобразов на самые последние дни своего пребывания в селении Вель.
Наконец больше оттягивать было уже нельзя, и, выбрав нору, казавшуюся более доступной, ранним утром мы принялись за работу. Раскопать целиком длинную и сильно разветвленную нору дикобраза — непосильный труд, и мы поступили так. Сунем в нору длинный ивовый прут, определим направление хода и копаем над ним вертикальный колодец, пока не докопаемся до норы. Потом залезем в яму, при помощи того же прута определяем дальнейшее направление хода и копаем новый колодец.
Сначала ход шел прямо, а затем стал ветвиться — от норы отходили ответвления то влево, то вправо. Мы совершенно запутались в подземных коридорах зверя и, откровенно говоря, повесили носы. Сколько сил потратили, а дикобраза нет, да и только.
Но настойчивость наша не пропала даром. Во второй половине дня нам удалось прутом нащупать дикобраза. Почувствовав прикосновение прута, зверь стал выталкивать его из норы. Тут мы сразу повеселели, определив, что добыча близка, и с новым жаром взялись за работу. Прокопали колодец над самым дикобразом, загнали зверя в тупик и, нащупав заднюю ногу, торжественно извлекли наружу. А тут еще оказалось, что в подземном коридоре скрывается не один, а пара дикобразов. Пока мы возились с первым, второй прорвался из тупика и укрылся в другой части подземного жилища.
На помощь нам прибежали местные ребята и давай гонять зверя по отноркам. Завидят через колодец пестрые иглы и поднимают крик, а напуганный дикобраз мечется по своим подземным коридорам. Выбраться наружу через глубокий колодец с отвесными стенками он не может. А у главного выхода норы, откуда зверю легче всего выскочить, был поставлен на страже один из ловцов.
Однако, к несчастью, зверь оказался бывалый. Он умело избегал тупиков, никак не давался в руки. Провозившись без толку более получаса, мы снова взялись за раскопку. Подземные коридоры уходили все дальше, под шпалерные виноградники.
Пришла моя очередь сторожить главный выход. Сел я над норой, опустил ноги вниз. Незаметно сгустились сумерки и взошла луна, большая и ясная. Загляделся я на луну, заслушался тихого рокота морского прибоя и размечтался. Я думал о том, какая огромная наша страна: сейчас в Москве февральская стужа, метели, а здесь весенняя теплынь. Но мои мечтания прервались неожиданным образом.
Сильный толчок вышиб мои ноги из норы, и крупный дикобраз, звеня иглами, выскочил наружу и галопом поскакал по виноградникам. Опомнившись, я бросился за ним. С разбегу налетел на соединяющую виноградные стойки проволоку — шпалеру — и, отброшенный ею назад, упал на землю. Однако в ту же минуту я вскочил на ноги и, несмотря на режущую боль в шее, побежал дальше. Одна мысль заполняла сознание: где дикобраз? Неужели ушел?
Но вот на полянке, освещенной луной, мелькнула тень зверя. Тут он! Я мчусь, перепрыгивая через рытвины и колючий кустарник, и с бьющимся сердцем слежу, как сокращается расстояние между мной и беглецом. Только бы не допустить его добраться до колючих зарослей — тогда пропала добыча!
Вот я уже настигаю дикобраза, но тут зверь неожиданно резко остановился. Не удержавшись, я с разбегу налетел на него и тут же почувствовал сильный удар в правую ногу. Острые иглы пробили голенище моего сапога. Я не упустил добычи и, схватив дикобраза за ногу, стал громко звать товарищей. Они поспешили мне на помощь. Пойманного зверя посадили в мешок и понесли в селение, а я, с трудом передвигая ноги, поплелся следом.
Шел я медленно и намного отстал от приятелей. Подхожу к нашей хате и слышу шум и возбужденные голоса. Что-то случилось. Превозмогая сильную боль, я на здоровой ноге поскакал к калитке. При ярком лунном свете посреди двора метались человеческие фигуры — три темные и одна белая; они подпрыгивали, точно танцуя какой-то дикий танец. Среди них вертелся выскочивший из мешка дикобраз, блестя своими пестрыми иглами.

Белая фигура принадлежала Макару. Разбуженный поднявшейся на дворе суматохой, он выскочил на помощь прямо с постели в одном нижнем белье. Ловцы то наступали на зверя, то отскакивали от него. Белая фигура постепенно становилась все более пестрой от многочисленных пятен выступившей крови. Когда же наконец зверя схватили и потащили к крыльцу, ноги Макара, окровавленные до самых колен, казались одетыми в высокие сапоги.
С большим трудом поднялся я на другой день на ноги: все тело болело. Однако я не мог отказать себе в удовольствии осмотреть место вчерашней ловли. Среди потоптанной молодой травы я нашел свою шапку и много игл, утерянных дикобразом. Из одной иглы я сделал себе ручку. Ею я пишу рассказы о своих былых похождениях.
Меня могут спросить: вреден ли дикобраз? Живя в предгорьях и глухих лесах, дикобраз, конечно, не приносит вреда. Однако, поселившись близ садов и полей и питаясь корой фруктовых деревьев, початками кукурузы и корнеплодами, он приносит много вреда сельскохозяйственным культурам.
Глава третья
ИСТОРИЯ ПЕРВОЙ КРАСНОЗОБОЙ КАЗАРКИ
Среди фламинго, всевозможных уток и гусей, проводящих зиму в Закавказье, под Ленкоранью регулярно зимует замечательный маленький гусь — краснозобая казарка. Родина этой птицы — далекая приенисейская тундра Сибири. Здесь она выводит свое потомство, а когда короткое северное лето кончается и наступает холод, пересекает нашу страну и проводит зиму в юго-восточном Закавказье. Таким образом, поймать живой краснозобую казарку или достать ее шкурку можно только в нашей стране. Лишь в крайне редкие зимы, когда на местах зимовок выпадает обильный снег, краснозобые казарки улетают в северную часть Ирана. Краснозобые казарки представляют большую ценность для зоопарков всего мира. Вот с этой-то замечательной птицей, так сказать, эндемиком нашей страны, лет двадцать пять тому назад у меня случилось маленькое происшествие.
Во второй половине января я со своим товарищем, ныне профессором, Сергеем Павловичем Наумовым охотился на обширных лугах близ устья маленькой речушки Камышовки. Теперь там вырос большой рыбацкий поселок. Тогда же это место было малолюдно.
На берегу моря стояли три крохотных домика и маленькая чайхана под открытым небом. В ней мы частенько пили чай, наблюдая в то же время за стаями кормившихся по соседству гусей, стрепетов и других птиц. Помню, в тот день мое внимание привлекли крупные соколы-балобаны. Они охотились за водяными птицами. Как только в воздух поднимались утки или мелкие гуси-казарки, один из соколов, поднявшись выше стаи, со страшной быстротой бросался на свою добычу. Часто он промахивался, но иной раз ударял птицу задним когтем своих лап и, когда та перевертывалась в воздухе, схватывал ее и с трудом тащил тяжелую жертву в сторону.
Мне очень хотелось добыть сокола для своей коллекции, но они держались крайне осторожно и при моем приближении перемещались с места на место. Вот один хищник уселся на телеграфный столб у самых строений. Пользуясь этим, я подкрался к нему из-за домика и хотел уже поднять ружье и выстрелить, но вместо этого остановился как вкопанный. У самого человеческого жилья я увидел разгуливавшую на полной свободе великолепную краснозобую казарку. Она вела себя совсем так же, как домашняя птица. Не обращая внимания на стаи диких гусей, пасшихся неподалеку на прибрежных лугах, она держалась близ самых строений. Надо сказать, что я никогда не видел живой краснозобой казарки так близко.

Краснозобая казарка еще не попадала на пруды Московского зоопарка, и в моих глазах эта жемчужина среди пернатых нашей страны представляла несоизмеримую ценность. В тот же момент охота за соколами была забыта, и я, отыскав хозяина, попросил продать мне его ручную казарку. Но он заупрямился. Как я ни старался убедить его, приводя всевозможные доводы, как ни просил, предлагая за птицу значительную сумму, ничего не действовало на этого упрямца. «Зарежу, а не продам», — с сердцем заявил он наконец и, поймав казарку, скрылся с ней в дверях своего жилища. Конечно, я не мог примириться, что такая редкая птица будет зарезана из-за глупого каприза упрямого человека, но, с другой стороны, видел, что дальнейшая попытка разрешить вопрос мирным путем не приведет к желанным результатам. Не зная, что предпринять, на что решиться, я отыскал моего спутника и рассказал ему о случившемся.
— Отдаст, — успокоил меня приятель. — Ведь если он зарежет казарку, ему придется заплатить большой штраф. Будь уверен — он знает о постановлении, что ловить и стрелять дичь, когда она переживает такое тяжелое время, запрещено охотничьим законодательством. Ему надо об этом напомнить, а уж если он и тут заупрямится, то придется вызвать ближайшего объездчика и забрать птицу силой.
— Или сейчас же продавай казарку, или мы сами возьмем ее у тебя, — решительно заявил мой приятель вышедшему навстречу хозяину.
— Никакой казарки у меня нет, — ответил тот.
— Как нет, куда ты ее дел? — наступали на него мы оба.
— Нет, и только — я ее в море пустил, а если не веришь, сам смотреть можешь.
Мы воспользовались последними словами хозяина и в поисках птицы обыскали все пристройки и печку, поставленную на открытом воздухе, то есть положительно все, куда, по нашему мнению, было возможно спрятать живую птицу. Хозяин спокойно стоял в стороне и с усмешкой смотрел на нас.
Казарки нигде не было. Неужели он мог действительно выбросить ее в море? Но в таком случае она должна была находиться поблизости. Однако самый тщательный осмотр морского побережья и окрестностей не дал также никаких результатов. Краснозобая казарка как будто провалилась сквозь землю. Неудача так на меня подействовала, что я вдруг почувствовал сильную усталость. На протяжении четырех километров, отделявших нас от дома, ноги мои заплетались, я спотыкался, голова горела. Не приступ ли это столь характерной для этих мест тропической малярии? И действительно, добравшись до дому, я забрался на печку и почувствовал себя совершенно больным.
— Что вы расстраиваетесь? — с участием сказал мне хозяин — лесной объездчик. — Дело не пропащее, я сейчас все выясню и уверен, что казарка у нас будет.
— Макар, дорогой, — оживился я, — плати за казарку любые деньги, если не продаст, силой отними, но прими все меры, чтобы не упустить птицу.
— Ладно, сделаем, — с уверенностью сказал Макар и вышел из дому.
И действительно, несколько часов спустя казарка была доставлена нам. Она была найдена под перевернутым котлом, валявшимся во дворе ее хозяина.
Я торжествовал, но, конечно, ждал больших неприятностей и подготовился к самому решительному отпору. Рано утром на следующий день явился упрямый хозяин птицы.
— Казарка у тебя? — спросил он.
— У меня, — стараясь быть спокойным, ответил я. — Могу тебе предложить за нее хорошую плату, но назад ты ее не получишь.
— Не надо мне денег — я к тебе по другому делу пришел, — без всякого раздражения ответил он. — Вчера оба мы плохо делал. Ты кричи, я тоже кричи, совсем как дурной человек. А потом я подумал, зачем мне эта казарка, когда домашней птицы сколько нужно дома есть, и решил к тебе зайти. У моего брата два такой казарка есть. Если хочешь, принесу их тебе, он их охотно продаст.
— Конечно, неси, куплю с величайшим удовольствием.

Но после вчерашнего столкновения я не ждал такого оборота дела и, естественно, не поверил его словам. Поэтому был приятно удивлен, когда два дня спустя вновь явился мой новый знакомый. В его корзине я нашел двух других краснозобых казарок. На этот раз мы расстались с ним настоящими друзьями. Я был счастлив приобретением, а он доволен и оплатой, и доставленным мне большим удовольствием.
Весть о том, что приезжие москвичи скупают всевозможных животных, после этого случая широко облетела все селения и дала нам возможность собрать большую и великолепно подобранную партию.
Такова история первых краснозобых казарок, попавших в зоопарк Москвы зимой 1925 года.
Глава четвертая
ДИКИЕ КОШКИ
Присмотритесь внимательно к нашей домашней кошке, и вам станет ясно, что это высокоспециализированный хищник. Сколько в кошке грации, прирожденной осторожности. Походка ее бесшумна, когти подтянуты и скрыты шерстью. При таком положении они не тупятся во время ходьбы. А какое зрение, слух! И это ведь домашнее животное, испытывающее борьбу за существование в самой ничтожной степени. В дикой кошке все эти черты хищника выражены значительно ярче. Она до крайности осторожна и обладает не только превосходным слухом и зрением, но, в противоположность своей домашней родственнице, и сравнительно хорошим чутьем.
В нашей стране дикие кошки представлены различными видами. Одни из них своим сложением похожи на домашних кошек, другие, как, например, рысь, высоки на ногах и короткохвосты. Обитают дикие кошки в самой разнообразной обстановке — в пустынях, зарослях колючих кустарников и тростника, в лесах и безлесных высокогорьях.
Под Ленкоранью во время своих странствий я постоянно встречал крупных камышовых кошек, и только однажды мне посчастливилось увидеть крайне редкую для этих мест лесную кошку. Вот как это было.
В тот день я вышел в сады, окружающие селение Вель, чтобы поохотиться за фазанами. За этими замечательными птицами под Ленкоранью не нужно ходить далеко. В глухих уголках они в изобилии встречаются у самого жилья человека, рядом с домашними курами.
Не успел я сделать и сотни шагов от дома, как, к моей досаде, сзади меня появились две зверовые охотничьи собаки. Скучно им дома сидеть без дела, охотники не так уж часто ходят на кабанов, вот они и не упускают случая увязаться со мной на охоту. Конечно, собака в колючих зарослях, где держатся фазаны, большой помощник: быстро найдет и заставит взлететь птицу. Однако собака собаке рознь, и услуга зверовых псов не всегда была для меня желанной.
Застрелишь фазана и бежишь к нему сломя голову, а иначе разгоряченные четвероногие помощники выдернут из него половину перьев: ведь они не знают, что мне нужно не мясо птицы, а ее целая шкурка.

На этот раз мне жалко было прогонять собак, и они вскоре выгнали превосходного петуха-фазана. После моего выстрела, смертельно раненный, он пролетел метров двести и упал близ густых зарослей ежевики. Но, несмотря на все мои старания, я никак не мог найти птицы. Не помогали в этом деле и собаки. Они напали на чей-то след и были целиком поглощены поисками. Приготовив на всякий случай ружье, я стоял на большой поляне, поросшей молодым виноградником, и ждал, что будет дальше.
Вдруг на краю ее появилась лесная кошка. Видимо, она, запутав следы, пыталась уйти от собак незаметно. Пригибаясь к земле, она осторожно выбралась из зарослей и, осмотревшись по сторонам, галопом пустилась через поляну. Как она была красива в этот момент! Сравнительно небольших размеров, с огромными глазами, она была покрыта высоким серым мехом и обладала таким пушистым хвостом, какой можно увидеть разве только у домашней кошки сибирской или ангорской породы.

Я выстрелил, но промахнулся. На мой выстрел в тот же момент появилась собака. В несколько прыжков она нагнала кошку — вот-вот схватит. Но маленький хищник, не надеясь на быстроту своих ног, смело кинулся на врага, в несколько раз превосходящего его силой и ростом. Зубами и когтями он вцепился в морду собаки, и сад наполнился отчаянным собачьим визгом. Я поспешил на выручку псу, надеясь каким-нибудь путем завладеть живым хищником.
Завидев меня, кошка оторвалась от собачьей морды, как пружина, отскочила в сторону и вновь исчезла среди зарослей ежевики. Тряся окровавленной мордой и взвизгивая от досады и боли, собака кинулась по ее следам, а за ней и другая.
Вновь начались поиски, отнявшие у меня массу времени. Я искал фазана, а мои собаки — скрывшуюся кошку. Около часа, повизгивая от нетерпения, они копались среди колючих перепутанных кустарников, а я безнадежно осматривал место, где упал фазан, или стоял поодаль и ждал, чем кончатся собачьи поиски.
Наконец пострадавший пес, утомленный тщетными поисками, вернулся обратно. Кровь запеклась на его израненной и распухшей морде. Как бы извиняясь за свое поражение, помахивая хвостом, он подошел ко мне и вдруг, взвизгнув, поспешно отскочил в сторону. В тот же момент я увидел среди сухой травы того самого фазана, которого застрелил в начале охоты. Собака, наступив на него ногой и, вероятно, не успев сообразить, что под ней не свирепая лесная кошка, а только мертвый фазан, инстинктивно шарахнулась в сторону.
Это была первая неудача с дикой кошкой, за которой последовал ряд других.
Крупная камышовая кошка по своему телосложению несколько напоминает нашу рысь. Это животное под Ленкоранью обитает в камышах водохранилищ и в лесах, устраивая свои логова или в покинутых норах других животных, или в непроходимой чаще кустарников.
При попытке добыть живую камышовую кошку нас упорно преследовала неудача. Либо зверь не попадал в ловушку, либо не удавалось сохранить пойманное животное живым и здоровым.
Однажды ранним февральским утром меня разбудили мои приятели, сельские ребята. Перебивая друг друга, они спешили сообщить важную новость: «Дикий кот у дяди Прохора в капкан попался! Во какой здоровый и страшный!» Я наскоро оделся и, с трудом поспевая за шустрой компанией, через несколько минут прибыл на место происшествия.

Там уже стояла толпа, наблюдая за лежащим на земле крупным камышовым котом. Лапа хищника была крепко зажата дугами капкана. Как только кто-либо из толпы пробовал приблизиться к злополучному зверю, кот взъерошивал свою выпачканную в глине шерсть, шипел и прыгал навстречу противнику. Но короткая цепь капкана, прикрепленная к вбитому в землю колу, неизменно валила кота на землю.
Сообразив, что при таких прыжках ценное животное может сломать себе лапу, я сбросил с себя кожаную куртку и, прикрывая ею лицо, приблизился к зверю. Он с бешенством отчаяния повторил свой неудачный маневр и опять бессильно упал на землю. Тут я мигом набросил на кота куртку и навалился поверх всей своей тяжестью.
Зверь был обезоружен и связан. Мы осторожно сняли с него капкан, смазали йодом и перевязали легкую рану на лапе. После этого пойманный кот был помещен в просторную клетку.
Странным было его поведение.
В отличие от других пойманных нами животных, кот не пытался освободиться, не искал выхода из своей темницы. Он неподвижно лежал в углу клетки, не прикасаясь к предлагаемой ему пище, и делал вид, что не замечает окружающих его людей.
Так прошло три дня. Опасаясь за жизнь нашего пленника, мы пустили в клетку к коту живую курицу. Эта глупая птица — любимая добыча для вольных камышовых котов. Вначале курица металась по клетке, боясь опасного соседа, но потом успокоилась и даже начала нахально шагать по спине лежащей кошки. Хищник не обращал на нее никакого внимания.
Прожив еще два дня, камышовый кот погиб, а обреченная на съедение курица осталась невредимой и была выпущена на волю. Жалко было потерянной редкой добычи, но что же было делать! По-видимому, пойманный нами кот был слишком стар, чтобы примириться с потерей свободы.
Однако первая неудача не остановила нас от дальнейших попыток заполучить дикую кошку. Мы каждый вечер расставляли капканы и широко оповестили местных охотников о том, что дорого будем платить за каждую дикую кошку, доставленную нам живой и здоровой.
Многие думают, что в противоположность диким собачьим — волку, шакалу, лисице — кошки не обладают чутьем. Это не совсем верно. Расставляя капканы по следам зверя, я неоднократно убеждался в противном. Издали учуяв капкан, кот сворачивал в сторону и, миновав опасное место, снова выходил на тропу.
Чтобы поймать кота, я вынужден был прибегать к различным хитростям. Я выследил, что одна дикая кошка каждую ночь ходит по тропинке, проложенной между виноградником и старой, заросшей бурьяном пашней. В стороне от тропинки я протоптал среди бурьяна короткую дорожку и посреди нее установил капкан, тщательно замаскировав его измельченным конским навозом.

Спустя три дня я бросил с тропинки в сторону капкана поджаренную на огне убитую ворону в расчете, что запах жареного мяса отобьет запах железа. На другое утро капкан оказался захлопнутым, но зверя в нем не было. Я только нашел между дугами капкана много кошачьей шерсти. Хищнику удалось вырвать из капкана лапу и благополучно уйти.
Тогда я решился на последнюю хитрость: посадил в маленькую железную клетку живую крысу и вкопал клетку в землю среди зарослей колючки, где часто днем спугивал камышовых кошек. Поверх клетки я поставил настороженный капкан, тщательно замаскировав его сухими листьями. Кошки протоптали вокруг клетки хорошо заметную дорожку; они слышали, как крыса грызла решетку, но идущий от капкана запах железа внушал им недоверие. Так ни одна из кошек и не решилась подойти близко к ловушке.
После многих неудач я потерял всякую надежду приобрести живьем камышовых кошек. Но вот однажды утром ко мне явились два юных охотника, ребята-подростки Иван и Марк. Они держали себя с особенной важностью, и я сразу сообразил, что ребята пришли неспроста. Около них вертелись малыши, которые тоже, видимо, были в курсе дела и изнывали от нетерпения первыми сообщить мне новость, но боялись старших. Наконец, улучив удобную минуту, один из малышей шепнул мне на ухо:
— Дядя! Марк и Иван кота поймали.
Все стало мне ясно. Недаром ребята важничали. Нетерпение передалось мне, возрастая с каждой минутой. Сначала я сдерживался, молчал, делая вид, будто ничего не знаю, но затем решил вызвать юных звероловов на разговор.
— Эх вы, охотники! С пустыми руками явились. Чего же кота не притащили?
— А чего тащить, — возразил Иван, — дай дроби и пороху — тогда мигом здесь кот будет.
Мне было жалко отдавать последний порох, но досадно было ехать в Москву, не добыв дикую кошку, а до отъезда осталось всего несколько дней. И я ответил ребятам:
— Ладно, если кот хороший и ноги у него не поломаны капканом, и дробь и порох получите, только живей тащите сюда, а то времени нет.
— Кот есть, да не дома, — насупившись, заметил Марк.
— А где же?
— Мы у леса его в нору загнали, а чтоб не выскочил, выход травой и землей забили.
Тут уж я не выдержал:
— Так чего же вы тут целый час околачиваетесь? Ждете, когда ваш кот из норы выберется и хвост вам на память покажет?
— Не уйдет он, не бойся. Некуда ему уйти.
Ребята захватили лопаты и два мешка и зашагали по направлению к ближайшему перелеску. А я, проводив их глазами, стал приготавливать клетку для долгожданного зверя.
«Поспешишь — людей насмешишь», — говорит русская пословица. Иван и Марк были сыновьями опытных звероловов, гордились этим и не хотели ударить в грязь лицом. К работе они приступили вдумчиво и неторопливо: проверили, нет ли из норы запасного выхода, а затем, чуть приоткрыв забитый вход, всунули в него гибкую удочку. Расщепленный конец удилища уперся во что-то мягкое. Повращав удочку несколько раз, ребята вытащили ее обратно — на расщепленном конце оказалась шерсть камышовой кошки.
Убедившись в присутствии животного в норе, юные звероловы принялись за работу. Набив один из мешков, которые они захватили с собой, сухой травой, ребята вскрыли забитый ход и плотно, как пробкой, заткнули его мешком. Проталкивая толстой палкой эту пробку все глубже и глубже в нору, мальчики начали раскапывать только ту часть хода, которая была расположена между пробкой и выходом. Таким образом, кот все время оставался в полной темноте и единственный выход из норы для него был надежно закрыт.
После двухчасовой беспрерывной раскопки набитый сеном мешок вплотную приблизился к логову зверя. Ребята сделали передышку и позавтракали. Нужно было не горячиться и собраться с силами, чтобы закончить дело так же основательно, как оно было начато.
Закусив, мальчики натянули второй захваченный ими мешок на два деревянных обруча. Кота, зажатого в тупике, можно было взять руками, но дикая кошка крайне опасна, и особенно болезненны ее укусы. Зная это, ребята хотели поймать кота, не подвергая себя риску.
Наступила самая ответственная минута. Юные звероловы осторожно вытащили из закупоренного хода пробку и, приставив к отверстию норы натянутый на обручи мешок, стали ждать, когда животное, выскочив из своего убежища, попадет в ловушку.
Да не тут-то было! Кот и не собирался делать этой глупости. То ли со страха, то ли из осторожности он предпочитал отсиживаться в тупике. Ребята, устрашая его, топали над выходом из норы ногами — зверь не шевелился. А может, кот сдох в закупоренной норе за долгое время раскопок? Осторожно отодвинув мешок, Иван заглянул в темную глубину хода и тут же отпрянул назад.
Из темноты прямо ему в лицо сверкнули два горящих злобой желтых глаза.

Достаточно было мгновения растерянности со стороны юных охотников. Взъерошенный хищник выскочил из норы и, перепрыгнув через Ивана, скрылся в колючих кустарниках. Пораженные случившимся, юные звероловы растерянно смотрели то на опустевшую нору, то на кустарник, в котором исчезла кошка. Пропали даром труды, пропала добыча.
О неудаче ребят я узнал позднее, о ней мне рассказали другие.
Спустя два дня я охотился за гусями, которые большой стаей кормились на лугу неподалеку от селения. Укрываясь за редкими кустиками и клочьями сухой прошлогодней травы, я медленно подползал к птицам и тут-то натолкнулся на Ивана. С огромной дедовской одностволкой, какие сейчас можно увидеть только в музее, мальчик лежал в меже и пристально следил за стаей.
Сначала мы молча переглянулись, но потом я не удержался от желания подразнить юного зверолова и шепотом спросил его:
— Иван, а куда же кот-то делся?
Мальчик только махнул рукой и ничего не ответил. И такая досада и огорчение отразились у него на лице, что, пожалев парнишку, я шепнул ему в утешение:
— А ты все-таки зайди к нам. А то на этих днях в Москву уедем. Хоть кот и ушел, а порох я с собой не повезу — тебе оставлю.
То, что я рассказал вам, случилось при первом моем посещении Ленкорани в зимнее время. Прочие столкновения с дикими кошками произошли зимой и летом при моих позднейших выездах в Закавказье.
Глава пятая
КОТЯТА
Несмотря на частые экскурсии по лесам и садам Ленкоранской низменности, мне как-то не случалось встречать котят дикой кошки. Надо сказать, что найти логово этого зверя довольно трудно. Обычно оно помещается в самых густых и непроходимых зарослях колючего ежевичника, куда человек попадает, разве что сбившись с дороги. Пробираясь сквозь колючую чащу, обязательно порвешь одежду, изранишь, исцарапаешь тело и в другой раз предпочтешь сделать большой крюк, лишь бы стороной обойти заросли.
Трудно, кроме того, даже предположить, где помещается логово камышовой кошки. Котята, как правило, ведут себя тихо и осторожно, ни голосом, ни появлением на открытых участках не выдавая своего присутствия. Вот при этих условиях и попробуй отыскать гнездо кошки с котятами. Конечно, иногда найти удается, но совершенно случайно. Благодаря такому умению скрыть логово в большинстве случаев котята вырастают благополучно, и потому, несмотря на истребление камышовых котов всевозможными средствами, их в Ленкоранской низменности всегда много.
Однажды у меня выдался незадачливый день. Такие бестолковые дни бывают время от времени в жизни каждого человека. Проснувшись необычно поздно и позавтракав, я никак не мог придумать, куда бы сегодня отправиться, как использовать время. Не сидеть же дома в самый разгар экспедиционной работы только потому, что, утомленный вчерашней экскурсией, я проспал лучшую пору — раннее утро!
Положив в сумку десяток патронов и закинув за плечи ружье, я тропинкой направился сквозь виноградник к лесистому водоему — истылю. До коллективизации все эти виноградники и фруктовые сады принадлежали индивидуальным хозяйствам и отделялись друг от друга глубокими арыками. Арыки сплошь заросли джидой и колючим ежевичником. Пройти, вернее продраться, сквозь такую живую изгородь почти невозможно. Вдоль зарослей ежевичника, не зная, как использовать время, я и шел в то позднее утро.
«А все-таки, куда бы пойти? — ломал я голову. — Неужели опять в истыль? Ведь там приходится часами бродить по пояс в воде». «Мяу-мяу-мяу-вуу», — вдруг услышал я истерический писк котенка и остановился как вкопанный.
«Мяу-мяу-вуу», — вновь донеслось из колючих зарослей ежевики. Эти дикие звуки заставили меня оглянуться. Они показались мне необычными.
«Наверное, котенок камышовой кошки, — мелькнула у меня догадка. — Так не мяучит домашняя кошка».
Безмятежный покой царил кругом. Под южным синим небосклоном как зачарованные дремали великаны деревья, фруктовые сады, виноградники, молчали птицы; ни ветерка кругом, ни звука. Почему же так истерически кричал дикий котенок?
«Мяу-мяу-мяу-вуу», — вновь раздалось в тишине сада, и мне стало ясно, что в кошачьей семье случилось что-то неладное. Котенок, безусловно, кричал не напрасно — он был голоден и настойчиво требовал пищи. Заметив место, откуда исходили звуки, и стараясь не производить шума, я побежал в селение. А четверть часа спустя несколько поселковых ребят, вооруженных кетменями, граблями и косами, окружили заросли ежевики, где недавно кричал котенок.
— Ну, ребята, прорубай скорей колючку! — подбодрял я помощников, показывая место. Дружно заработали кетмени и косы, и спустя короткое время небольшой участок колючей изгороди оказался отрезанным от прочих зарослей. Окружив его, мы прекратили работу, притихли, чутко вслушиваясь в невнятные шорохи. Но долго молчал котенок.
«Мяу-мяу-вуу», — спустя полчаса наконец прозвучал его голос. На этот раз мяуканье раздалось совсем близко. «Стереги, ребята!» — крикнул я и, закрыв голову брезентовой курткой, на четвереньках полез по дну арыка под нависшие ветви ежевики. Метра три прополз я таким образом и вдруг наткнулся на маленького котенка. Перепуганный появлением человека, он, притаившись, лежал среди густой поросли и встретил меня шипеньем и фырканьем. Схватив его и сунув за пазуху, я осмотрелся по сторонам. Кругом поднималась густая чаща колючих стеблей. Почву покрывала опавшая в прошлую осень сухая листва, но логова дикой кошки, настоящего гнезда нигде не было видно. Откуда появился здесь этот котенок, как он сюда попал, для меня оставалось загадкой.
«Интересно, сколько ему дней?» — рассматривали мы пойманного зверька дома. Небольшой и толстый, он был покрыт мягким бурым пухом. Массивные лапы с розовыми когтями, широкий лоб с большим темным пятном посередине и длинные усы делали его удивительно привлекательным. Котята домашней кошки, достигнув такого роста, бывают игривы и непоседливы, а их движения вполне уверенны. Наш же котенок казался совсем беспомощным. Он широко расставил лапы и, пытаясь передвигаться, с трудом ползал по полу. Такое его поведение позволяло безошибочно признать в нем крупную камышовую кошку в раннем возрасте.
— Дядя Женя, в колючке еще котенок пищит! — ворвался в комнату запыхавшийся мальчуган. Не теряя времени, мы бросились в глубину сада. В той же колючке действительно громко и истерично пищал котенок. Много часов сряду рубили мы кустарник, уничтожили значительную часть колючей изгороди, ползали по дну арыка и лишь незадолго до вечера наконец отыскали и извлекли второго котенка. Он был как две капли воды похож на первого.
Котята еще не питались самостоятельно, и остаток дня я потратил на отыскание в поселке домашней кошки-кормилицы. Как видит читатель, неудачно начавшийся день, который, казалось, нечем заполнить, прошел не напрасно. Поиски котят в колючих зарослях и создание для них благоприятных условий в неволе заняли большую часть светлого дня.
Наступили сумерки. Знойный летний день сменился тихим вечером. В далеком лесном истыле квакали лягушки. Мне не хотелось спозаранку ложиться спать, и я уже знакомой тропинкой не спеша побрел в глубину сада. На группе крупных деревьев жалобно кричал птенец ушастой совы. «Пиии-пии», — монотонно разносилось в тихом воздухе. Вдруг я услышал иные, хорошо мне знакомые звуки. Быстро прошел я короткое расстояние и, остановившись, вновь чутко прислушался. В том же ежевичнике, где нами сегодня были пойманы два диких котенка, таким же истерическим голосом пищал третий. Найти его в густых зарослях в темноте нечего было и думать. «Не уйдет никуда, — решил я, — а сейчас повешу над ним зажженный фонарь. Место замечу и отпугну им старую кошку, если она здесь появится ночью». Так я и сделал. Большой фонарь «летучая мышь», укрепленный среди перевитых колючих ветвей, был помещен мной как раз над тем местом, где пищал котенок.
К утру погода испортилась. Под порывами ветра шелестела листва деревьев, вдали глухо шумело море. Когда ранним утром я пришел к знакомому месту, фонарь продолжал гореть, но котенок долго не подавал голоса. Наконец я услышал знакомый писк, но не в зарослях ежевики, а далеко в стороне. Стараясь поменьше шуметь и часто останавливаясь и вслушиваясь, я пошел на доносившийся голос. Метрах в трехстах от вчерашнего места, среди высокого бурьяна, после кратковременных поисков я обнаружил котенка. Он попал сюда, конечно, не сам. Вероятно, мать-кошка по каким-то причинам не могла кормить молоком своих детенышей, и они настойчивым писком требовали пищи. Свет фонаря не испугал старую кошку. Ночью она пыталась утащить своего последнего котенка как можно дальше от фонаря, в более спокойное место.

«Не страшен и огонь», — размышлял я, направляясь с третьим котенком в руках к дому.
Несколько дней спустя после этого случая неожиданно у меня появился четвертый живой экземпляр молодой камышовой кошки.
Был невыносимо жаркий июльский полдень. Влажная жара наших субтропиков заставила все живое замолчать и искать тени, прохлады. Молчали сады, лес, поселок — ни птичьего голоса, ни голоса человека. С раннего утра я набродился по лесистым водохранилищам-истылям и тоже решил отдохнуть — посидеть дома. Распахнув настежь двери и окна и устроив в квартире сквозняк, я только хотел почитать книжку, как увидел в конце улицы не совсем обычную группу. Под тенью крупных деревьев по дороге селения не спеша шел высокий человек в широкополой шляпе. Рядом с ним на тонкой веревке, совсем как воспитанная собака, спокойно шагала молодая камышовая кошка. По сторонам бежали деревенские ребятишки, с удивлением рассматривая хорошо знакомого им зверя, но в столь необычных условиях.

Группа направлялась к домику, где я поселился. Присмотревшись, я узнал своего московского товарища Верещагина и вышел к нему навстречу. Приятель недолго погостил в Велях. Он был здесь проездом. Спустя три дня, подарив мне ручного камышового кота Мишку, он уехал в другие районы Закавказья.
Я не буду сейчас подробно рассказывать о содержании в неволе добытых котят. Лето они прожили в Велях, причем ручному Мишке была предоставлена полная свобода. Осенью, возвратившись в Москву, трех уже сильно подросших котят я передал Московскому зоопарку, а Мишку оставил себе. Однако крупный зверь, да к тому же большой хищник, доставлял мне массу неудобств и хлопот. Одно замечательно — Мишка был совершенно ручное животное, вполне утратившее стремление к свободной жизни. В квартире, среди людей, он чувствовал себя как дома. Сядешь, бывало, за письменный стол заниматься, а из соседней комнаты на своих длинных ногах появляется Мишка. Кот без церемонии вскакивает мне на спину. Несмотря на свой крупный рост, он умело укладывается спать на мои шею и плечи. Зимой в морозные дни это было не только эффектно, но и приятно. Жалко было расстаться с Мишкой, но настала пора, когда я был вынужден передать кота Московскому зоопарку. Ведь держать крупную дикую кошку в московской квартире действительно почти невозможно.
Совершенно ручной камышовый кот — редкое явление. Пойманный взрослым, он тяжело переносит потерю свободы, взятый маленьким — очень часто остается злым и недоверчивым.
Глава шестая
НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ
Февраль в Закавказье — это весна. И в то время, когда под Москвой бушуют метели, трещат морозы, на благодатном юге выдаются такие денечки, что лучше и желать нельзя. С каждым днем ярче светит солнце, согревает остывшую землю, и под его живительными лучами пробуждается природа. Вот на лужайках к солнцу потянулась трава, набухли на деревьях почки, по-весеннему оживился лес.
Обидно бывает уезжать с юга в такое чудное время, но что поделаешь, если работа закончена и пора выезжать в Москву.
С сожалением мы простились с соседями-сельчанами, еще раз посетили уголки природы, которые успели полюбить, и, погрузив наши вещи на телеги, запряженные буйволами, перебрались к пароходной пристани в Ленкорани. Отсюда ночь езды на морском пароходе — и мы в большом шумном городе.

Прямой поезд «Баку — Москва» отходил вечером. Мы приехали на вокзал заранее, чтобы успеть погрузить свой живой багаж. Из Ленкорани в Москву мы везли большую партию разнообразных животных для зоопарка. Здесь были дикобразы, антилопы-джейраны, шакалы и много различных птиц.
Хлопоты по погрузке заняли немало времени, и только когда прозвучал звонок, мы поспешно вскочили в свои вагоны. Билеты в то время было достать трудно, и получилось так, что один я попал в мягкий вагон, а мои товарищи ехали в жестком.
Попав в купе мягкого вагона, я почувствовал себя не в своей тарелке. Публика ехала нарядная, а я был с ружьем, в охотничьем костюме, в сапогах выше колен.
Наскоро я стал готовиться ко сну, раскладывать свои вещи, чтобы они не мешали соседям. Открыл чемодан, собираясь вынуть оттуда мыло и полотенце, и невольно мне бросился в глаза лежащий в углу чемодана маленький серый мешочек. Я осторожно оглянулся на своих соседей, на секунду задумался, затем с самым невинным видом повесил серый мешочек на крючок у своего изголовья.
Что бы сказали мои соседи, если бы узнали, что в этом скромном мешочке скрывается живой зверек, правда, спящий крепким сном!
В день отъезда мои юные приятели, сельские ребята, принесли мне в подарок спящую зимним сном соню-полчка. На дворе стоял февраль, и зверек, вынутый из дупла спиленного дерева, так и не проснулся.
Соня-полчок — небольшой древесный зверек, несколько напоминающий белку. Шкурка у него серая или бурая, хвост пушистый, глаза большие, черные, выпуклые, как у всех зверьков, ведущих ночной образ жизни. Населяют полчки леса и сады. Особенно много полчков на Кавказе, где они приносят немалый вред садоводству.
Летней ночью в саду или в лесу можно слышать, как с шумом падает с ветки то грецкий орех, то спелая груша. Это работа полчков. Зверек прогрызает зубами крепкую скорлупу ореха и лакомится сердцевиной, а у груши и винограда больше всего интересуется семенами, пренебрегая сладкой мякотью плода.

Наступит осеннее ненастье, и ожиревший полчок забьется в дупло или в норку под деревом и спит без просыпу до тех пор, пока снова не поспеют черешни и груши. Недаром этого зверька прозвали соней. Он спит восемь-девять месяцев в году.
Такого впавшего в зимнюю спячку полчка и принесли мне ребята. Я прикоснулся рукой к положенному передо мной пушистому клубочку — он был холоден и неподвижен. День отъезда — всегда хлопотливый и трудный день, и заняться устройством клетки для маленького и к тому же спящего зверька мне было некогда, да и ни к чему. Я попросил хозяйку сшить мне маленький мешочек, сунул туда горсть сена, положил спящего полчка и спрятал мешочек в чемодан с бельем.
Так попала моя соня в купе спального вагона. Ехали мы без всяких приключений. К себе в купе я приходил только вечером и тут же укладывался спать, а весь день проводил у своих ехавших в жестком вагоне товарищей; вместе с ними ходил на остановках в багажный вагон поить и кормить четвероногих и крылатых питомцев.
Но вот как-то среди дня заглянул я в свой мягкий вагон, а там творится что-то невероятное: крик, суматоха, звон разбивающейся посуды.
Остановился в дверях, в недоумении гляжу и ничего понять не могу. Что могло произойти здесь? — стараюсь сообразить. Как будто поезд идет нормально, мерно постукивая колесами, только чем-то взбудоражены пассажиры, кричат, толкаются, все вниз смотрят. Такой в вагоне переполох подняли, что представить трудно.
На одно мгновение смятение утихло, но затем забушевало с еще большей силой. «Крыса, — кричат пассажиры, — крыса!» — да как шарахнутся по коридору ко мне. Услышав о крысе, я сразу все понял. Выскочил в тамбур, закрыл дверь, но никак не могу сообразить, что же я должен делать.
Понял я, что виновник переполоха не кто иной, как мой злосчастный полчок.
Были у меня при перевозке зверей случаи, когда лисицы и шакалы в общественном месте выскакивали из клеток. Но это были крупные звери, которых легче поймать, схватить за шиворот и водворить в их законное помещение — в транспортную клетку.
Но попробуй схватить за шиворот шустрого полчка, особенно при таком переполохе! Это все равно что блоху ловить. Если же и удастся поймать, то куда его деть?
В дырявый мешочек, повешенный на крючок в купе мягкого вагона? Тут тебя и начнут допрашивать: как, на каком основании вы везете с собой «безбилетного пассажира»?
Все эти мысли вихрем пронеслись в моей голове. Стою я в тамбуре, нервничаю, никак не соображу, что же мне делать, — совсем растерялся.
Сколько я там простоял — не знаю, только слышу шепот: «Дорогой товарищ, ваш безбилетный пассажир у меня в купе, ловите его скорей, а то выйдет большая неприятность».
Сказал это начальник поезда. Симпатичный человек оказался. Поспешил я к начальнику в купе, и мы с ним, предварительно заткнув все щели, молча, с каким-то деловитым озлоблением стали гонять полчка по купе. Обезумевший от испуга, он по занавескам мгновенно вскарабкивался к потолку и оттуда срывался на пол.
Наконец мы все-таки поймали беглеца. Закрутив полчка в носовой платок, я поспешил в жесткий вагон к своим приятелям. Я так торопился, что не догадался пожать руку начальнику поезда и сказать ему спасибо. А было за что поблагодарить этого славного человека.
На другое утро, лежа у себя на полке, я притворился спящим и из разговоров пострадавших пассажиров выяснил все детали происшествия.
Вот как было дело.
Отогревшись в теплом вагоне, от толчков при движении поезда полчок проснулся, прогрыз в мешочке дырку и вылез наружу. Видимо, он вообразил, что пришло лето.
Но обстановка спального вагона не походила на родной лес. Сорвавшись с верхней полки, полчок шлепнулся на столик и зазвенел посудой. В этот момент в купе как раз собралась целая компания пассажиров, любителей поиграть в карты. Играющие сидели вокруг объемистого чемодана, заменяющего им карточный стол; другие пассажиры с интересом следили за игрой.
Звон посуды заставил всех обернуться: на столике у окна копошился юркий серый зверек. Раздался пронзительный женский крик: «Крыса!» — и началось настоящее столпотворение.

Кто выскочил в коридор, кто вскарабкался на верхнюю полку.
Один из пассажиров, не сводя глаз с мечущегося по столику зверька, ощупью отыскивал какой-либо тяжелый предмет. Еще мгновение, и длинная трость в его неумелых руках обрушилась на столик, и все, что стояло на нем, со звоном полетело на пол.
Будь то действительно крыса, она как наземный обитатель искала бы спасения внизу под полками. Но соня-полчок — древесный зверек, привыкший укрываться от беды на деревьях. Перепуганный полчок взметнулся вверх, зацепился когтями за оконную занавеску и очутился на верхней полке. Она в ту же секунду очистилась от пассажиров. Спотыкаясь о перевернутые предметы, оступаясь и толкая друг друга, часть игроков и зрителей кинулась к двери.
Тут всполошился весь вагон. Одни хотели помочь пострадавшим, тщетно пытаясь выяснить, в чем дело, другие с тревогой проверяли, целы ли их чемоданы.
Через открытую дверь купе соня выскочила в коридор и начала метаться из конца в конец по вагону. В каждом купе, где появлялся ошалевший от страха зверек, поднималась страшная суматоха. Мой полчок произвел такое сильное впечатление, что на другое утро в моем купе, да и во всем вагоне, только и было разговору, что о «крысе».
— Я едва не умерла от страха, — в десятый раз повторяла сидевшая на нижней полке дама. — Вы представьте, эта крыса прыгнула мне прямо в лицо. Вот наш сосед на верхней полке — счастливец. Он ничего этого не испытал, его в это время в купе не было. Правильно я говорю, сосед?
Не отвечая, я только плотнее сощурил глаза, делая вид, что сплю крепким сном.
Вот как удружил мне несвоевременно проснувшийся зверек называемый соней-полчком. Но понятно ли читателю, почему это произошло? Вероятно, не вполне понятно, и поэтому я расскажу немного о спячке ряда наших животных.
С наступлением холодного времени года многие птицы улетают от нас на юг. К югу их гонит не зимняя стужа, а отсутствие пищи. Птицы, умеющие находить пищу зимой, остаются у нас.
Как же ведут себя млекопитающие — ведь некоторые из них также попадают в неблагоприятные условия вследствие обилия снега и бескормицы? Ведут они себя по-разному. Многие хищники, зайцы, белки на зиму остаются на тех же местах, где жили летом, или перекочевывают в места, где пищи больше.
Некоторые грызуны, как, например, полевой зверек — хомяк, в своих глубоких норах делают большие запасы зерна. Всю зиму он бодрствует, живя в своем подземном жилище, и крайне редко показывается на поверхности земли.
Летучие мыши улетают к югу, но не все. Часть летучих мышей впадает в зимнюю спячку в дуплах деревьев.
Другие грызуны — суслики, сурки, сони — спят всю зиму.
Спячка у этих животных начинается с наступлением холодной осени, а пробуждение от долгого сна — с момента некоторого потепления. Однако есть и такие зверьки, которые спят не только зимой, но и летом. Степной и пустынный зверек желтый суслик местами впадает в спячку в мае — июне, как только наступает жара и высыхают сочные растения.
Соня-полчок, забившись в дупло или под корни деревьев, продолжает спать под Ленкоранью и в теплое время весны, когда деревья уже покрыты листвой, но плоды еще не созрели. Разбудить спящее животное можно, согревая и беспокоя его.
Вот это и произошло с тем полчком, о котором я здесь рассказал.
Глава седьмая
ДВЕ ЗИМЫ
Когда кончается первое полугодие и наступают зимние каникулы у студентов, а у меня выкраиваются две-три недели, свободные от занятий, мне не сидится в Москве.
Настоящая зима под Москвой, стоят морозы. Скованы льдом водоемы, надолго прикрыта снегом земля. «А там, на далеком юге, вероятно, совсем тепло, греет солнце. Как хорошо побывать сейчас в Закавказье! — мечтаю я. — Увидеть зеленую травку, журчащие ручейки, нашу летнюю птичку зарянку, стаи крикливых гусей и уток». И вот уже четыре года подряд, хотя бы на самое короткое время, я прощаюсь с шумной столицей и уезжаю на юг, в Закавказье, где зимуют птицы нашего севера. Но пусть помнит читатель, что в мечтах все ярче и краше.
Не каждый год природа щедро дарит наш юг теплом и солнцем. Иной раз в Закавказье выдаются на редкость снежные и холодные зимы. Вот мне и хочется сейчас рассказать о двух зимах, проведенных мной в Закавказье, так непохожих одна на другую.
Я вспоминаю зиму 1950 года. 21 января я стою по колено в снегу на берегу знакомой неширокой протоки. Кругом, насколько хватает глаз, болота, поля и прибрежные камыши — все заметено снегом. Необычно крупные снежные хлопья бесшумно падают сверху, толстым слоем ложатся на колючие заросли ежевичника, на мои шапку и плечи. Извиваясь среди снежных сугробов, далеко вперед от меня уходит узкая студеная полынья. Ее тусклая вода на всем протяжении покрыта стаями плавающих лысух и уток, табунами уток насыщен и воздух. Почти беспрерывно они летят мимо меня вдоль незамерзшей протоки, быстро скрываясь из виду в мутном горизонте.
Ведь настоящая зима. И где же? В теплом Закавказье, куда улетают зимовать птицы, куда и я стремлюсь в самое холодное время года, чтобы погреться на южном солнце и сократить долгую зиму нашего севера. И я вновь осматриваюсь кругом, гляжу на белую пелену, на хлопья падающего снега. Но тут мои мысли обрываются самым неожиданным образом. «Что это такое?» — ничего не понимая, смотрю я вперед. Мимо меня в воздухе скользят какие-то странные длинные черные ноги…
«Да это птица, это большая белая цапля!» — соображаю наконец я. Сквозь хлопья падающего снега она спешит от холода, от бескормицы в том направлении, куда летят и утиные стаи. Но, в отличие от уток, на фоне мутно-белого неба она почти незаметна; видны только ее длинные черные ноги.
Тяжело переживают пернатые странники такие суровые зимы. Мелкие птички становятся необычно доверчивы. В надежде найти тепло и пищу они жмутся к жилью человека, залетают в конюшни. Из водяных птиц те, которые еще не потеряли от бескормицы силы, поднимаются в воздух и летят к югу; ослабевшие остаются на месте.
Вот перед вами небольшая полынья; на ней лысухи и нырковые утки. Вы подходите к самой воде, но истощенные птицы не обращают на вас никакого внимания. Они заняты своим делом и, ныряя, пытаются с большой глубины достать пищу. Мороз крепчает; участок чистой воды с каждым часом становится меньше. Дня два, не больше, продержится здесь птица, и когда вода сплошь покроется ледяной коркой, хромая и падая, лысухи и утки доберутся до тростников и спрячутся среди снежных сугробов и кочек. Следы дикой кошки или шакала, перья и кровь на снегу расскажут вам о их гибели.
Мало после суровых зим возвращается птиц на свою родину, и в такие годы они нуждаются в бережном отношении со стороны человека, и особенно со стороны наших охотников.
А вот другая зима.
Январь 1951 года. Я вновь в Закавказье, в крошечном рыбацком поселке на берегу одного из крупных местных озер. Это озеро, а вместе с ним и рыбный промысел, приютившийся на его берегу, называют Мегман.
Шофер, доставивший меня на автомашине на промысел, торопился обратно. Он помог выгрузить мои вещи, забежал к знакомому рыбаку и, вернувшись оттуда со связкой крупных сазанов, простился со мной и уселся в кабину. «Удачной охоты!» — крикнул он мне на прощанье. Несколько секунд спустя машина, поднимая за собой веселое облачко дорожной пыли, быстро катилась к лесу.
Спустя час я уже удобно устроился в доме рыбака, достал лодку и, толкаясь длинным веслом, погнал ее по канаве к озеру. «Сколько дней утомительного пути прошло, пока я добрался сюда!» — думалось мне. Трое суток ушло на переезд от Москвы до Баку, потом вновь вагон местного акстафинского поезда, бессонная ночь, проводник, выкрикивающий станции. Но вот железнодорожный путь закончен, кажется, цель близка. Еще семьдесят километров на автомашине, сначала по степным дорогам, потом сквозь тростники и леса, лентой протянувшиеся по берегам Куры. Однако, преодолевая трудности, я рассчитывал не только ознакомиться с зимовками птиц, но и пострелять вволю — ведь я охотник. Увы, мои надежды не оправдались. Я понял, что водяные птицы не случайно выбрали это озеро для своих зимовок — они использовали все его преимущества. Сотни тысяч всевозможных уток почти круглые сутки держались на открытой обмелевшей воде. Подъехать к ним на лодке оказалось почти невозможно. Теплая безветренная погода и обилие корма позволяли уткам не предпринимать кормовых перелетов. Только гуси, кормясь на отдаленных озимых посевах, не оставались долго на одном месте. На озере они проводили всю ночь и незначительную часть дня, прилетая сюда на водопой.
Когда я на своей лодочке по канаве достиг озера, моим глазам представилась картина, которой я никогда не забуду. На много километров вперед под яркими косыми лучами солнца блестит водная гладь. Зеркальную поверхность со всех сторон окружают тростниковые заросли. На далеком горизонте они маячат едва заметной дрожащей линией, поблизости высоко поднимаются желтой стеной, отражаясь в неподвижной воде. Множество птиц — то сплошными темными массами, то рассеянными пятнами — покрывает озеро во всех направлениях. Сколько их здесь — представить, сосчитать невозможно. Когда же мой выстрел по случайно налетевшей крупной черноголовой чайке прокатился по всему озеру, живая громада ответила на него невообразимым шумом. На протяжении двух-трех минут стаи непрерывно поднимаются в воздух, наполняя его свистом крыльев, разноголосым кряканьем, гусиным гоготом. Крупные и мелкие стаи уток, вереницы гусей и казарок летят над озером во всех направлениях. Я бросаю весло, поспешно вытаскиваю из патронташа как можно больше патронов, с надеждой беру в руки ружье, жду, затаив дыхание. Вот прямо на меня низко двигается огромная стая уток — ближе, ближе. Но увы, моя лодка четко выделяется на водной поверхности, и стая раскалывается на две части, далеко облетая меня справа и слева. Минут двадцать не может угомониться птица, носится в воздухе, а я провожаю ее безнадежным взором. Близок локоть, да не укусишь.
— Поедемте сегодня со мной на вечернюю зорю, — сказал мне однажды приехавший в поселок шофер. Я только что успел с ним познакомиться и поделиться своими охотничьими невзгодами. — Километрах в пяти отсюда, — продолжал он, — я нашел небольшой мелководный плес, где ночами кормится много птиц. Вчера за вечернюю зорю я без труда убил там двенадцать уток.
У меня не было на вечер плана, и на любезное приглашение нового знакомого я охотно дал согласие. Почему не постоять на вечерней зоре, когда нет никакой охоты и время проходит напрасно? Еще задолго до вечера мы уселись в машину и узкой дорогой, пробитой сквозь высокие тростниковые заросли, поехали к открытому шофером месту.
— У вас много с собой патронов? — сидя за рулем, спросил меня спутник. — Я уверен, что сегодня вы постреляете вволю — только для этого на плесе нужно остаться до наступления настоящей ночи. Хорошая птица, то есть кряква, прилетает на кормежку поздно. Сначала летят стаи сорок, потом чирята и самыми последними кряквы, — пояснил он.
— Как стаи сорок? — переспросил я спутника. — Вы каких сорок имеете в виду?
— Да самых обыкновенных сорок, — подтвердил мой собеседник. — Они ночуют в затопленных тростниках и прилетают к месту ночлега целыми стаями.
Стаи сорок? Как-то это не укладывалось в моем понятии. Я никогда не видел, чтобы сороки держались настоящими стаями. Ну, штук десять, редко двенадцать соберется их иной раз в одном месте, да и то не случайно. Обычно птиц привлекает сюда что-нибудь необыкновенное. Одним словом, сорока и стая не вязались с моим представлением об этой птице. Но я не стал ни о чем расспрашивать спутника. Зачем это делать, если полчаса спустя я уже буду стоять на зоре и все увижу своими глазами?
— Вот мы и доехали, — весело обратился ко мне шофер, делая невероятно крутой поворот с дороги и с треском врезаясь в густые заросли. От этого места к открытой воде была пробита тропинка; по ней мы проникли к заранее приготовленным засадкам и, удобно усевшись на смятый тростник, стали ждать вечера.
Полная тишина и безветрие царят кругом — ни всплеска воды, ни шороха. Как будто дремлют застывшие высокие тростники, отражаясь сплошной желтой стеной на блестящей под лучами заходящего солнца водной поверхности. Лишь изредка над водой пролетит голубой зимородок, в тростниках тонко посвистит крошечная птичка — ремез, и опять все надолго затихнет.
Когда солнце стало скрываться за горизонтом, я увидел высоко в воздухе группу сорок. Более десятка птиц, видимо, прилетели сюда издалека. Поравнявшись с тем местом, где я сидел в ожидании уток, они вдруг рассыпались в разные стороны и с замечательной быстротой стали спускаться вниз. Каждая сорока, то складывая, то распуская свои короткие крылья, ныряла в воздухе и в несколько приемов пикировала почти до самой воды. Когда все птицы оказались совсем низко, они устремились в одно место и расселись в зарослях, как раз против засадки. Мне было хорошо видно, как под их тяжестью сгибались стебли высокого тростника, как затем птицы, быстро перемещаясь с места на место, наконец восстанавливали равновесие и усаживались на ночевку.
Спустя несколько секунд следом за первой прилетела новая, более крупная стая. Она в точности повторила все приемы первой и опустилась в те же заросли. Вероятно, на этот раз сорок было более трех десятков. Я попытался их подсчитать, но тут появилась новая стая птиц, а затем еще и еще. Одни сплоченными группами летели высоко в воздухе, другие, рассыпавшись поодиночке, стремительно падали вниз, третьи, шелестя в сухом тростнике, усаживались на ночлег. Птиц было так много, и они перемещались с такой стремительной быстротой, что я тут же сбился со счета и отказался от этого безнадежного дела. Вероятно, их слетелось сюда штук триста, а может, и вдвое больше. Появление новых стаек продолжалось около получаса, а затем прекратилось. Все прилетевшие сороки разместились на небольшом участке зарослей, видимо уже не один раз используемых птицами для ночевки.
К моему удивлению, сороки вели себя в тростниках удивительно тихо. Ведь всем известно, что сорока — беспокойная и крикливая птица, а на этот раз… Кончился подлет новых стаек, разместились в тростниках запоздавшие, коротко прострекотала одна, другая, и вдруг кругом стало опять так тихо, как в самом начале. Сгустились краски зари, одинокая яркая звезда загорелась низко над горизонтом, отражаясь в побагровевшей воде, потом вспыхнула вторая… «Где же появится третья?» — подумал я и, взглянув прямо над собой, сразу увидел десятки звезд: они едва мерцали на всем огромном потемневшем небосклоне.
Оглушительный выстрел моего спутника вернул меня к действительности. Наблюдая за сороками, а потом любуясь зарей, откровенно говоря, я совсем забыл об утках; отсутствие перелета на этот раз меня нисколько не огорчило. Долго после этого я еще продолжал стоять в своей засадке; с каждой минутой становилось все холодней — ноги и руки зябли. Где-то далеко за плесом трещали заросли, порой резкий крик прорезал тишину ночи. Это пасся в тростниках табун диких свиней, дрались секачи-кабаны.
Но вот, шлепая по воде в высоких сапогах, подошел мой спутник.
— Хотел сделать вам удовольствие, — обратился он ко мне, — да ничего не вышло. Как будто назло, нет никакого лету. Никак не могу понять, почему не летели сегодня утки — ведь вчера их было здесь множество?
Я видел, что мой спутник ужасно огорчен неудачей, и пытался убедить его, что для меня не имеет значения, если я возвращусь домой без пары уток, что я и так получил огромное удовольствие, стоя на зоре. Если бы не стрельба по быстро летящей птице, которую, признаться, люблю до страсти, и не хорошие ружья, к которым я также неравнодушен, я бы давно бросил охоту и ограничился наблюдением животных в природе. Ведь убьешь дичину, сунет хозяйка ее в котел — и поминай как звали. А вот то, что увидишь интересное и красивое в природе, запомнишь на всю жизнь, а если выберешь время, то напишешь об этом заметку, и ее прочтут сотни людей, которым интересна и дорога наша природа.
Глава восьмая
У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ
Однажды в конце ноября, когда в Подмосковье клочья серых туч, гонимые холодным ветром, бежали по беспросветному небу, раскачиваясь, стонали березы и сосны и хлестал дождь, я воспользовался отпуском, сел в поезд и укатил на юг. Вот и конечный мой пункт — станция Кюрдомир. Я слез с поезда, сел на попутную автомашину и опять ехал в неизвестную даль, пока многолюдье и городской шум не остались далеко позади.
И пока я совершал переезд, настал декабрь, то есть зима. Но зима без снега, без холода, с ярким голубым небом, с греющим солнцем, с пряным запахом сырой земли, увядающих листьев и прелого тростника.
В легком костюме, с ружьем в руках я не спеша бродил по заросшим берегам извилистой речки; в полдень, когда солнце поднималось высоко над горизонтом и особенно щедро изливало тепло на землю, усаживался отдыхать на берегу в тени группы развесистых деревьев. На сердце было так безмятежно спокойно, а кругом так хорошо, что я часами просиживал на одном месте и мне не было скучно. В высоких тростниках речки, шелестя сухими стеблями, с чоканьем перепархивали камышовки, иной раз звучала неуверенная песенка нашей лесной птички зарянки, тревожно кричала водяная курочка. Стая гусей — белолобых казарок — вдруг с шумом поднималась в воздух и, наполняя его чудным звонким гоготом, резкими выкриками, низко тянула над побуревшими бурьянами и вновь рассаживалась на зеленеющие озимые посевы. Я же издали следил глазами за крикливой гусиной стаей, за перепархивающей маленькой птичкой, за облачком вьющихся над водой мошек. И мне хотелось на всю жизнь запечатлеть в памяти окружающие картины, образы, шелест сухих стеблей камыша, запахи — одним словом, все то, что мне пришлось видеть, слышать и ощущать в декабрьские дни на южной окраине моей необъятной, многообразной Родины. Всего лишь десять дней прожил я в маленьком домике на берегу речки. Но и за этот короткий срок я вволю насмотрелся зимующей птицы, послушал вечерние крики шакалов и неоднократно сталкивался с дикими камышовыми кошками. И чем ближе я знакомился с образом жизни этого зверя, тем больше мне хотелось назвать его иным именем. Уж очень отличается он от своих ближайших родичей. Другие кошки избегают, даже боятся воды, и если их пушистый мех намокнет — чувствуют себя совсем несчастными.

В отличие от своих сухолюбивых родственников, камышовый кот — это кот-водолюб. Вы не встретите его вдали от озер и рек. Он живет в прибрежных колючих зарослях ежевики, ловит здесь турачей, фазанов и всевозможных водяных животных, и если иной раз ему случается спасать свою жизнь от собак и охотника, он вплавь уходит от них в тростники, разросшиеся вдали от берега. Водяной кот — вот как мне хочется назвать зверя, покрытого, не в пример другим кошкам, желтовато-серым жестким и низким мехом.
— Не хотите ли сходить за кабанами? — спросил меня как-то охотник, в домике которого я поселился. — В соседнем селении есть неплохие собаки, — продолжал он, — с ними можно попытать счастья.
Конечно, я согласился, и не потому, что меня прельщала кабанья охота, а потому, что с собаками всегда удается найти что-нибудь интересное. В следующее раннее утро мы были уже на месте и, запустив пеструю стаю разноголосых псов в колючие заросли, сами попытались перехватить кабанов у берега крупного озера. Охота не удалась. Сначала кабаны кинулись к нам, но затем круто повернули в сторону и ушли без выстрела. Но я не жалел — мне еще раз удалось посмотреть на свободе камышовую кошку. Крупный кот на этот раз вышел на меня на самом близком расстоянии. Конечно, я мог убить зверя, но, соблюдая правила кабаньей охоты, воздержался от выстрела и был вознагражден за это интересным наблюдением. Обеспокоенный собаками зверь выбрался из зарослей ежевики и, издавая тихое раздраженное порявкиванье, зашел в редкий тростник, разросшийся на берегу озера. Здесь он остановился и, повернувшись назад, стал прислушиваться к треску кустарников. Видимо, кот рассчитывал, что собаки не пойдут по его следу, но он ошибся. Из кустарников вскоре появился молодой черно-пегий пес. Не замечая меня, он энергично обнюхивал след, повизгивая от азарта, и наконец, ориентируясь чутьем, пошел вперед.
В следующую секунду он был уже рядом с кошкой, но, увидев ее, вместо того чтобы броситься на врага, с визгом шарахнулся в сторону. Острые зубы и когти крупного зверя, видимо, внушали ему страх и уважение. Однако, заслышав визг, сюда, обгоняя друг друга, с лаем кинулись другие собаки. Выхода не было — коту пришлось спасать свою шкуру бегством. Он, громко урча, вошел в воду, быстро проплыл открытый участок и, раздвигая тростник, стал все дальше уходить от берега сквозь густые заросли. Только покачивание отдельных высоких стеблей да тревожный крик водяной курочки указывали направление, куда уплывало животное.

Как же вели себя собаки? С азартным лаем всей гурьбой они кинулись вплавь за кошкой. Но густые заросли мешали преследованию. Жалобным визгом и воем выражая досаду, одна за другой собаки возвращались на берег.
В надежде отдохнуть в безопасном месте кабаны частенько ходят в глубь обширных мелководных озер. Выбравшись вдали от берега на кучу тростникового валежника, они предаются в дневные часы безмятежному отдыху. Иной раз, по словам охотников, из тростника кабаны сами устраивают на мелкой воде огромные гнезда и отдыхают здесь после ночных странствий. Но, конечно, и сюда проникает охотник. Медленно бредет человек среди зарослей и, хотя холодная вода местами достигает пояса, с ружьем наготове зорко высматривает спящего зверя.
Вот впереди на желтом фоне сухих тростников четко виднеется черная туша, медленно шевелятся мохнатые уши. И охотник, затаив дыхание и зайдя против ветра, подходит все ближе и ближе, чтоб без осечки, наповал повалить крепкого зверя.
— Убил я на днях кабана, — рассказывает мне молодой парень. — Далеко от берега на лежке его нашел. Хотел сначала волоком его по воде тащить, уже губу прорезал и ремень пристроил, да куда там — пудов так на восемь, с места сдвинуть трудно, не только в этакую даль тащить. Прикрыл я его тогда чаканом и отправился домой за лодкой. Пока это домой добрался, щей похлебал и на лодке к месту доехал, глядь — уже темнеет: день-то короткий. Стал я подъезжать к лежке — смотрю и глазам не верю. Шевелится мой кабан убитый, то во весь рост поднимется, то опять ляжет, и, что меня особенно удивило, камыш под ним не трещит — будто живая тень двигается. «Как, — думаю, — это может быть, когда пуля навылет прошла и в шее в кулак дыру сделала?» И вдруг мне боязно стало, хоть назад поворачивай и деру давай. Камыш от ветра шуршит, убитый кабан бесшумно двигается. Вспомнил я тогда, что ружье у меня крупной дробью на гусей заряжено. Тихонько до ружья дотянулся — оно на носу лодки лежало, один курок взвел да как двину шагов этак с двадцати, а сам скорей второй курок взвел и жду, что дальше будет.
Разошелся немного дым, гляжу — кабан мой не шелохнется. «Убил, значит, — думаю, — хоть и дробью, да близко стрелял». И тихонько одной рукой шестом толкаюсь; а в другой ружье на изготовку держу. Уж очень все чудно и страшно мне показалось.
Ну а когда подъехал ближе — все ясно мне стало. Рядом с кабаном здоровенный кот лежит, и там, где пуля моя из кабаньей шеи вышла, кругом все мясо объедено. Значит, кот на кабане сидел и мясо драл и потому, когда он двигался, камыш над ним не трещал.
— Во как меня кот напугал! В самых озерах он живет, по камышам ходит, лысок ловит, подранков всяких подбирает, — закончил рассказчик.
Спустя два дня после неудачной кабаньей охоты, когда кот на моих глазах уплыл в озеро, я опять столкнулся с котом и сделал новые интересные наблюдения. Глубокая речка, на берегу которой я жил, глухой протокой соединялась с большим озером. Берега этой протоки заросли непроходимыми кустарниками ежевики, и к воде можно было подойти только в немногих местах, где колючего ежевичника нет.
То ли из-за того, что на протоку редко приходили охотники, то ли благодаря обилию корма, но ее охотно посещали утки. К любому плесу подойдешь, обязательно поднимешь уток-чирков или крякв. Вот специально чтобы пострелять уток с подъема, я и отправился на эту протоку в одно прекрасное воскресное утро. Еще с вечера наехало к нам много городских охотников, все на лодках выехали на плес озера и открыли стрельбу по лыскам. Видя, что при таком скоплении стрелков на озере делать будет нечего, я и отправился на протоку. Много уток мне не надо, а пяток там без труда взять можно было.
Только стал я подходить, как совсем близко вырвались шесть великолепных крякв, и после моего дуплета одна из них упала на чистую воду, а другая — зеленый селезень — застряла в колючем кусте ежевики на противоположном берегу.
Протока была неглубокая, и я знал несколько удобных бродов. Но мне как-то не хотелось с утра лезть в холодную воду. Думаю, осмотрю я пока ближайшие части протоки, а когда немножко потеплеет, достану уток — благо селезень, как хорошая метка, чернеет на высоком кусте и его издали видно. С полчаса, наверное, потратил я на осмотр протоки, еще застрелил чирка и крякву и, решив, что мне этого хватит, побрел на другой берег и отправился к висящему селезню.

Уже близко я подошел, вдруг вижу: на тот самый куст камышовый кот лезет, добирается до моего селезня. Мне бы ружье с плеча сорвать да пальнуть бы по вору, а я совсем растерялся. «Куда, куда лезешь!» — кричу, хотел было закричать, что селезень — мой, как будто на куст не кот, а мальчуган лезет. Сообразил я тогда, что веду себя глупейшим образом, да было уже поздно. Заслышав мой крик, кот поспешил лапой подтянуть селезня к морде, схватил его в зубы и спрыгнул в густую колючую чащу. Побегал я кругом зарослей, сверху и снизу осмотрел их и, убедившись, что, кроме нескольких перьев, кот мне ничего не оставил, стал пробиваться к воде, где лежала вторая убитая утка. Только и второй утки на месте не оказалось. И увидел я тут, что весь грязевой заплесок между урезом воды и колючим ежевичником сплошь истоптан бесчисленными мелкими следами круглой формы. «Эге, — думаю, — да тут, видимо, бойкое место для котов и шакалов. Пожалуй, стоит сюда вечерком прийти и до темноты посидеть в засаде». И после этого решения я отправился домой, но не прямой дорогой, а опять вдоль протоки, а потом вдоль озера. Мне хотелось взамен пропавших уток добыть новых.
Ждать наступления вечера мне показалось скучным. После обеда я дополнил свой патронташ четырьмя патронами некрупной картечи и не спеша зашагал к знакомому месту. Протока была расположена недалеко от дома, и я пришел туда еще задолго до вечера и в ожидании зари решил с подхода пострелять уток.
После ряда случаев я вполне убедился, что камышовые кошки совсем не боятся выстрелов. Напротив, в надежде подобрать потерянных уток они подходят к местам, откуда недавно доносилась стрельба охотников. Я подошел в одном месте к самой воде, взглянул вдоль протоки и метрах в ста впереди заметил целую стайку плавающих чирков. Если сделать небольшой обход зарослей и вновь подойти к протоке, можно приблизиться к чиркам на верный выстрел. Пять минут спустя я осторожно обогнул кусты, нашел проход и вновь подошел к воде. И хотя на этот раз чирки оказались от меня довольно близко, они вели себя так странно, что я не выстрелил и, желая выяснить, в чем дело, замер на месте. Для меня было несомненным, что, когда я вышел из прибрежных кустарников, утки меня заметили, но почему-то не обращали внимания. Высоко подняв головы, они собрались в необычно тесную стайку и продолжали плыть, приближаясь ко мне, причем то быстро, то медленно, то вертясь на одном месте, как будто их кто-то временами подгонял сзади. Их внимание целиком сосредоточилось на противоположном береге, и как только я взглянул в том направлении, сразу понял, в чем дело. По заплеску, не сзади чирков, а на одной с ними линии, не торопясь шагал крупный камышовый кот. Он вел себя так, как будто кроме него, кота, здесь не было никого живого. Он не торопясь шагал у самого уреза воды, то останавливался и смотрел куда-то вверх и в сторону, то начинал сладко потягиваться. Чирков, вертевшихся в двадцати шагах от него, он не видел, ни разу не взглянул в том направлении; их вообще для него не существовало. Это, конечно, был прием, хитрость хищника, но интересно, что, применяя хитрость к чиркам, он сам вел себя невероятно глупо.

Стараясь не смотреть на уток, он и меня не замечал, хотя я и стоял на совершенно открытом месте. Одним словом, на этот раз кот перестарался, и это было мне на руку. Но вот досада. Я не надеялся на встречу с котом до вечера и зарядил свое ружье самой мелкой утиной дробью. Разве годна она на крупного, сильного зверя! Я, конечно, не забыл, что перед выходом из дому сунул в патронташ патроны, заряженные картечью, но я не мог шелохнуться. Ничтожным движением я тотчас же выдал бы свое присутствие, и осторожный кот шмыгнул бы в заросли. А кот тем временем шагал вперед; неподалеку от него, все ближе ко мне — охотнику — подплывали чирки. Я был удивлен их поведением. Но вот ждать больше нечего — зверь не может подойти ближе. Я вскинул ружье и один за другим нажал оба спуска. Одновременно с резким звуком двух частых выстрелов кот, как стальная пружина, подпрыгнул вверх на отмели и, едва коснувшись земли, исчез в зарослях. «Фрры-ко-ко-ко», — услышал я взлет и крик турача в следующую секунду. Это кот, продираясь сквозь колючую чащу, спугнул птицу. Но не в этом дело. Я и без того предвидел, что не застрелю кота мелкой дробью. Меня поразило поведение чирков. Когда я выстрелил, они были от меня совсем близко. Но вместо того чтобы, взлетев в воздух, шарахнуться от человека, от огня и грома страшного огнестрельного оружия, они рванулись ко мне и, промелькнув над самой моей головой, исчезли из виду. Прыгнувший кот им был несравненно страшнее стреляющего человека. Впрочем, что ж тут особенного. Вероятно, чирки в Закавказье чаще подвергаются нападению камышовых кошек, нежели стрельбе охотников. У страха глаза велики. «Страшнее кошки зверя нет», — вспомнил я, стоя на берегу опустевшей протоки.
Глава девятая
ВСПЫШКА ГНЕВА
Однажды зимой, в теплый, почти жаркий день, какие нередко выдаются у нас в Закавказье, я набродился по болоту за бекасами и решил отдохнуть и позавтракать. После недавно прошедших сильных дождей почва была настолько насыщена влагой, что для отдыха я вынужден был взобраться на стог соломы. Этот стог одиноко стоял на краю сжатого рисового поля. Отсюда мне открылся типичный зимний ландшафт нашего Закавказья. Широкая равнина, покрытая бурой, а местами и багровой прошлогодней травой, на близком горизонте подступала к желтой стене тростниковых зарослей. Влево виднелся небольшой азербайджанский поселок. Тутовые деревья с обрубленными вершинами да причудливые, обвитые диким виноградом ветлы окружали его со всех сторон; сквозь эту поросль только местами проглядывали одинокие домики.
Приятно отдохнуть после утомительной ходьбы по болоту, но особенно приятен отдых, когда его удается совместить с интересными наблюдениями. Так именно и получилось в самом начале. Неподалеку от стога паслись буйволы, затем сюда же прилетела большая стая зимующих скворцов и с шумом опустилась на сжатое поле. И вот, отдыхая, я смог наблюдать, как веселые, подвижные птицы вели себя по отношению к домашним животным. Одни из них суетливо бегали среди стада, другие взлетали на спины буйволов, копались в их шерсти клювами или, трепеща крыльями, распевали свои простенькие зимние песенки. Буйволы никак не реагировали на поведение птиц.

Однако на этот раз мне не удалось продлить свои наблюдения. К стаду подошел парень, и с его появлением скворцы с шумом поднялись в воздух и улетели.
Отыскав в стаде крупного буйвола, парень погнал его по дороге к селению. Буйвол покорно подчинился воле человека, но шел своей обычной медленной походкой, едва передвигая ноги. Эта медлительность раздражала парня, и он ударами палки старался заставить животное идти быстрее. Один за другим удары сыпались на бока и спину могучего зверя, но, увы, без всякого результата. Он положительно не реагировал на побои и продолжал идти таким же медленным и размеренным шагом.
— Зачем бьешь напрасно скотину? — вмешался я, приподнимаясь на стоге. Тот на мгновение остановился.
— А тебе какое дело? — огрызнулся он. — За дело, значит. Нужно, и бью; тебя спрашивать буду, что ли?
И, нагнав буйвола, он вновь начал наносить ему жестокие удары палкой.
— Смотри, председателю колхоза пожалуюсь! — крикнул я вслед парню.
Но и эта угроза не привела ни к каким результатам. Парень с ожесточением продолжал бить палкой буйвола в течение всего пути, пока оба они не исчезли из виду за кустарниками ежевики.
«Вот безответный зверь, — с раздражением думал я. — Такое крупное, могучее животное, и позволяет делать с собой все что угодно». И я невольно вспоминаю в этот январский день незабываемые картины, связанные с поведением буйволов летом.

Знойный летний полдень. Ослепляет, безжалостно жжет горячее южное солнце. Туча жалящих насекомых назойливо вьется над стадом, гудит в воздухе. Спасаясь от них, большие спокойные буйволы теряют терпение, спешат к подсыхающему водоему и погружаются в воду. Часами отдыхают они, лежа в неглубокой воде озера, на поверхности выступают только их широкие спины да большие, украшенные рогами черные головы. Но в жаркий полдень вода привлекает не только домашних животных, здесь же купаются местные ребятишки. Они забираются на спины буйволов и отсюда бросаются в мутную воду. Угомонится, уйдет наконец шумная ватага мальчишек, и тогда им на смену прилетят к озеру десятки малых белых и египетских цапель. Медленно бродят они по спинам флегматичных животных, ловят порой близко подлетающее насекомое или тоже безмятежно отдыхают. И буйволы не реагируют ни на доверчивых птиц, ни на бесцеремонных мальчишек. Они продолжают лежать в воде, то погружая до самых ушей головы, то вновь поднимая их над поверхностью. А ведь тот же буйвол, только в диком состоянии — это страшное животное. Иной раз он смело дает отпор даже тигру. Мне вспоминаются когда-то прочитанные страницы об Индии.
Облако пыли привлекает в этот момент мое внимание. Оно поднимается вдали по дороге и ползет в моем направлении. Невольно я приподнимаюсь на стоге и, воспользовавшись биноклем, пытаюсь выяснить, что там случилось. И что же я вижу? По дороге, размахивая руками, быстро бежит тот самый парень, который минут десять тому назад так бесцеремонно палкой бил несчастного буйвола. Его глаза, все лицо выражает ужас; видимо, он бежит, не чуя под собой ног, напрягая все силы и боясь оглянуться. А позади него, вытянув вперед черную рогатую голову и поднимая целое облако пыли, бежит уже знакомый нам буйвол.
Две-три минуты спустя я вижу их простым глазом. До меня доносится тяжелый топот, храп и какое-то хрюканье.
Поза бегущего буйвола с вытянутой вперед головой, клубы пыли под его ногами — все это выражает бешеный гнев, внушает угрозу и заставляет человека бежать как можно быстрее.

Не скрою, я полностью на стороне буйвола. Жестокие и бессмысленные побои на этот раз не прошли даром, и я оправдываю возмущение и гнев зверя. Но мне страшно за парня. В его движении чувствуется утомление, бег становится неуверенным, не таким быстрым. Буйвол же бежит, правда, тяжелой, трясущейся рысью, но ничуть не сбавляя скорости. И расстояние между бегущими медленно сокращается. «Неужели нагонит, и что тогда будет?» — с напряжением слежу я за ними издали. А тем временем наступает критическая секунда. К счастью, на мгновение парень оборачивается назад. Совсем рядом за его спиной колеблется голова разъяренного зверя. И тогда, чтобы спасти жизнь, он напрягает последние силы, бросается в одну, затем в другую сторону, падает на землю, катится вбок, вскакивает и вновь бежит по прямой линии. Этот прием позволяет ему увеличить расстояние. Буйвол не в силах повернуть круто при быстром беге. Он замедляет скорость, но упрямо продолжает преследовать своего более ловкого противника. И расстояние между ними вновь сокращается. «Хоть бы сюда, к стогу бежал», — нервничаю я, продолжая оставаться только зрителем. Но не могу же я стрелять в домашнее животное? В этот момент, взмахивая руками, парень делает большой прыжок и отскакивает в сторону. «Арык», — соображаю я. Глубокий сухой арык — это препятствие сравнительно легко берет, спасая жизнь, человек, но с трудом преодолевает буйвол. Он неудачно перескакивает на противоположную сторону, с трудом вытаскивая из арыка задние ноги. В ту же секунду человек прыгает через арык обратно, заставляя животное вновь брать препятствие. Это продолжается несколько раз. Без разбега буйвол не в состоянии сделать прыжок. Он спускается в арык и с большим трудом выбирается на противоположную сторону. Измученный этим лазаньем, он наконец останавливается, издает глухое хрюканье и издали смотрит на своего врага. Останавливается и человек.
Проходит минута, другая, еще и еще, а человек и животное остаются на одном месте. Оба они тяжело дышат. Наконец буйвол начинает щипать траву. Переждав еще немного, парень осторожно приближается к буйволу, выгоняет его на дорогу и уже без побоев, негромко покрикивая, гонит к селению. Вспышка гнева прошла, и могучий зверь, страшный в секунды ярости, опять покорно повинуется человеку.
— Ну что, получил удовольствие? — кричу я парню, когда он проходит недалеко от стога. — Будешь зря бить животное?
С сокрушением покачав головой и ничего не ответив, он продолжает осторожно гнать буйвола по дороге к селению.
Глава десятая
ТАМ, ГДЕ ЗАРОЖДАЕТСЯ СУЕВЕРИЕ
Пройдет теплая ленкоранская зима, наступят весенние дни, и многие зимующие здесь пернатые — утки, гуси, розовые фламинго — двинутся в далекий путь к северу. Гнездящиеся в тундрах маленькие гуси-казарки совершают громадный путь, пока достигнут своей родины. Отлетят, исчезнут из-под Ленкорани крикливые странники, но с их отлетом не опустеет, не умолкнет природа. На смену зимующим гостям под Ленкорань прилетят другие птицы. Многие из них проводили холодное время года далеко за пределами нашей страны и сейчас спешат на места гнездовья. Так по сезонам года изменяется состав птичьего населения.
Ленкоранские лесные водохранилища — истыли — издавна являются излюбленными местами размножения разнообразной водяной и болотной птицы. Близость моря, богатство рыбой, обширные болота с бесчисленным количеством лягушек и крупные деревья, на которых устраивают свои гнезда многие пернатые, привлекают сюда водяных птиц — больших и малых бакланов, черных и белых аистов и всевозможных цапель. Массами слетаются они в затопленные водой леса, чтобы провести лето и вывести свое потомство.
Те птицы, что посильнее и могут отогнать от своих гнезд злейшего врага, похитительницу яиц и птенцов — серую ворону, устраиваются открыто отдельными парами на деревьях. Так гнездятся черные и белые аисты.
Другие, слабые, прячут свои гнезда с таким искусством среди зарослей кустарников и камыша, что их не удается открыть и зоркому глазу хищника.
Различные же цапли всегда предпочитают селиться крупными колониальными гнездовьями. Тысячи их соберутся на небольшом участке затопленного леса и своими гнездами покроют ветви деревьев. При этом каждая пара извлекает для себя пользу. В колонию, заселенную множеством птиц, не всегда рискнет вторгнуться хищник, чтобы грабить гнезда.
Много раз я бывал на ленкоранских гнездовьях. Однажды, когда я заблудился и мне пришлось заночевать в лесу, со мной случилось маленькое смешное происшествие.
Вот как это произошло.
Около часа я упорно пробивался сквозь чащу леса. Кабаньи тропы, проложенные среди колючих зарослей, были моими тоннелями. Здесь я полз на четвереньках. Порой зеленая стена, вся увитая лианами, преграждала мне путь. Тогда я взбирался по древесным стволам и, цепляясь за толстые лозы дикого винограда, как канаты, перекинутые с дерева на дерево, с трудом продвигался дальше.
Исцарапанный и исколотый, я изредка останавливался передохнуть. И тогда с каждым разом все явственней доносился из глубины леса беспрерывный гомон. Он напоминал мне шум морского прибоя. Это был голос птичьей колонии. Он ободрял меня, звал вперед, и с новой энергией я пускался в путь, полз, карабкался, рубил ножом лианы, продирался сквозь густые заросли.
Так прошел еще час, и вот наконец я у цели — у края громадной птичьей колонии.
Она тянется на пять километров. Часами будешь идти по лесу и видеть великаны деревья, покрытые гнездами.
Одни деревья уже погибли, засохли, другие еще богаты листвой или увиты плющом, но все стволы, ветви, листва — все бело от птичьего помета.
Человек, впервые попавший в птичью колонию, будет ошеломлен, оглушен многоголосым криком, шумом, хлопаньем крыльев. Но я здесь уже не в первый раз и могу наблюдать и рассматривать. Я различаю большие, неуклюжие гнезда водяных птиц — бакланов — и похожие на перевернутый конус гнезда цапель. Они сделаны из скрепленных пометом прутьев, отстоящих друг от друга настолько далеко, что все гнездо просвечивает и яйца, лежащие в нем, видны, как сквозь сетку.
Птичье население в колонии размещается как бы по этажам. На самых верхушках гнездятся серые цапли и большие бакланы, под ними — малые бакланы и ночные цапли-кваквы, еще ниже — мелкие цапли: желтые, малые белые, египетские.
Чтобы удобнее было наблюдать, я влезаю на дерево. Сперва мое вторжение вызывает переполох, но так как я сижу очень тихо, птицы успокаиваются и снова принимаются за свои дела, не обращая на меня внимания.
Теперь сверху мне хорошо видны гнезда и спины сидящих птиц. Я насчитываю в гнезде у желтой цапли только два яйца. Их должно быть пять или шесть — значит, гнездовье еще только началось. Вижу, как кваква клювом осторожно переворачивает яичко в своем гнезде. Другая цапля слетела с гнезда, чтобы не перегреть яиц, и устроилась рядом, загораживая их своим телом от лучей солнца.
Малые белые цапли непрерывно спускаются на землю и снова возвращаются к гнездам, неся сухие веточки. Одна цапля пытается вытащить веточку из соседнего гнезда. Крик, возмущение, драка.

С моря возвращается стая самцов-бакланов. Двое несут в клювах по хворостине. Самки бакланов уже насиживают яйца, а самцы еще продолжают подправлять гнезда. И хотя в лесу полно хвороста, эти настоящие водяные птицы не возьмут ветку с сухой земли, а тащат их с берега моря, за несколько километров.
А я сижу на дереве и записываю все, что мне кажется интересным.
В колонии ни минуты покоя: то на ее краю появилась ворона — шумом и гамом птицы встречают непрошеную посетительницу. То под тяжестью усевшихся птиц с треском обламывается сухая ветка (на таких отмерших ветвях птицы не вьют гнезда, а только садятся отдыхать) — новый переполох: вся масса встревоженных птиц срывается с места и заполняет воздух.
Сильно взмахивая крыльями, пролетают черные бакланы, легко и красиво мелькают среди деревьев белые и желтые цапли.
Когда выведутся птенцы, станет еще шумнее. Подрастая, молодь забирается на верхние ветки, и каждый старается раньше других захватить принесенную пищу.
Наблюдая и записывая, я провел в птичьей колонии весь день. Время шло так незаметно, что я вспомнил об обратном пути только тогда, когда солнце было уже на западе и в лесу стало прохладней.
На юге ночь наступает быстро, надо было спешить, чтобы до темноты выбраться из лесу. Я спустился с дерева и стал искать дорогу. То ли я плохо искал, то ли тропа была едва заметна, но в напрасных поисках прошло полчаса. Я больше не мог терять времени и пошел наугад, выбрав, как мне казалось, правильное направление. По моим расчетам, мне нужно было идти на восток.
Долго пробивался я по чаще, а лес все не кончался. Должно быть, я сбился с пути. Все чаще попадались мне незнакомые, труднопроходимые участки колючих зарослей.
Стало уже совсем темно. Я не мог отыскать кабаньей тропы и должен был ломиться по верху колючих зарослей. Это была мучительная дорога. Бредя в темноте по колючей сетке, спотыкаясь и проваливаясь, я вдруг оступился и, потеряв равновесие, с шумом упал в воду. Тут я понял, что шел по кустарнику, нависшему над лесной рекой. Хватаясь за колючие ветки, кое-как я выбрался на берег.
Не хотелось мне ночевать в лесу. В этих местах, в Ленкоранском районе, очень распространена малярия. С наступлением сумерек бесчисленное количество малярийных комаров набрасывается на запоздавшего человека. Но другого выхода не было.
Я снова углубился в лес, выбрал большое дерево, залез повыше, чтобы избавиться от назойливых комаров, и расположился на ночь.

Удобно облокотившись на толстую ветвь, я сидел, прислушиваясь к ночным звукам. До меня доносился далекий сонный гомон птичьей колонии. Квакали лягушки, монотонно кричала маленькая сова-сплюшка, да иногда в потемневшем небе резко каркала ночная цапля. Вот где-то далеко жалобно закричал шакал, вслед ему затянули другие. Испуганный шакальим воплем, в стороне сорвался фазан. Вдали усиливался гомон птичьей колонии.

Но потом все смолкло, и ночная тишина нарушалась лишь невнятным шорохом да изредка тихим треском сухой ветки под ногой вышедшего на охоту хищника.
Видимо, я задремал, как вдруг резкий голос заставил меня вздрогнуть и открыть глаза. Голос был так силен, что заглушал все шорохи ночи, проникая в самые глухие уголки чащи.
— Э-э-эй! — разнеслось по лесу и отдалось: — Э-э-э!
Я с удивлением прислушался. Откуда мог взяться ночью в лесной чаще человек и кому он подавал голос?
— Э-эй! — опять прокатилось по лесу.
«Неужели это меня ищут? — мелькнула мысль. — Вероятно, кто-нибудь из моих приятелей, жителей ближайшего поселка, догадался, что я заблудился, и хочет помочь мне выбраться».
— Э-эй! — раздалось снова.
Конечно, это меня зовут.
Я откликнулся и уже взялся рукой за сук, чтобы начать спускаться с дерева, но дикий, нечеловеческий хохот был ответом на мой призыв. Я обомлел. Казалось, весь лес хохотал, издевался надо мной. Хохот перешел в резкий визг и оборвался. Затем я услышал обычный голос ночной птицы: «ху-бу, ху-бу…»

Теперь я все понял: это кричал не человек, а филин. Мне стало понятно происхождение сказки о лешем. Должно быть, ее создала фантазия суеверных людей, слышавших ночью в глухом, диком лесу хохот и крики филина.
Все снова затихло, и я стал ждать рассвета, с улыбкой вспоминая свою перекличку с ночной птицей.
Глава одиннадцатая
НАЗОЙЛИВАЯ ПТИЦА
Сколько неприятностей и бед приносят птицам разнообразные четвероногие хищники. Весной и летом лисята требуют много пищи, и взрослая лисица, обремененная потомством, рыскает по полям и болотам в поисках добычи. Поймает она мышь или полевку, съест птенчиков у гнездящейся на земле птички, бесшумно подкрадется к зазевавшемуся тетереву, и не успеет тот подняться на крыльях, как попадает в зубы беспощадного врага. А дикие кошки для крылатых обитателей полей и леса опаснее всякой лисицы. Заметит кошка среди листвы на ветвях птичье гнездо, заслышит, что в нем пищат птенцы, — без труда вскарабкается на высокое дерево и погубит все потомство сразу. Кружатся над хищником, кричат несчастные родители, но ничем не могут защитить своих детенышей. Того и гляди, при малейшей оплошности и сами попадут на завтрак кошке.
Многие птицы терпеливо переносят все беды, наносимые им кошками, лисицами и шакалами. Как завидят или заслышат они своего врага — спешат убраться из опасного места. Другие птицы, заметив кота или лисицу, оповещают криком о близкой опасности всех пернатых соседей. В этом отношении особенно отличаются птицы нашего леса — сойки, сороки, вороны. Обнаружив врага в зарослях, они очень часто поднимают такой переполох, что не дают шагу сделать зверю. Следуя за ним по пятам и наполняя лес тревожными криками, они предупреждают все живое о появлении хищника. Обнаруженный враг мечется из стороны в сторону, пытается скрыться от своих крылатых преследователей, но не всегда это ему удается.
Если кошки приносят сорокам и воронам много несчастья, то и те при случае отплачивают им той же монетой. Вот об одном подобном случае, свидетелем которого я был, мне и хочется вам рассказать.
В то время я жил на берегу Каспийского моря в маленьком поселке Вель. В семи километрах к западу поднимался хребет Талыш. Его невысокие вершины на юге, за иранской границей, были покрыты снегом.
Белые мазанки — хаты жителей поселка — тонули в зелени. Позади хат пышно раскинулись сады и шпалерные виноградники. Их делили на отдельные участки живые изгороди из посадок ветлы, сплошь увитые вьющимися колючими растениями. Местами эти колючие заросли были так густы и велики, что участок одичавшего сада превращался в неприступную крепость.
Вот в этих-то зарослях и жило много всякого зверья. Оттуда под вечер слышался вой шакала. Иногда мы из окон домика видели, как, выходя из зарослей, бродит по саду дикобраз. Жили там барсуки, а больше всего, пожалуй, обитало в зарослях камышовых кошек.

Эти коты были грозой местных кур. Летом и зимой в этих местах куры весь день ходят на свободе, а вечером усаживаются на какое-нибудь дерево около дома. Ночью охотиться за курами коты не всегда решались: близко люди и собаки, сейчас поднимется переполох. Зато днем пасущиеся в саду куры были любимой добычей котов — птица вкусная и глупая, чтобы поймать ее, особых уловок не требуется.
Каждый день повторялось одно и то же. Вдруг слышится отчаянный куриный крик, а потом все куры стаей летят к дому. Хозяйка выбегает, считает вернувшихся кур, и каждый раз нет то одной, а то двух или трех птиц.
И стреляли котов, и ловили капканами, и развешивали крючки в курятниках, где неслись куры, и все же котов было очень много.
Раз я собрался на охоту за камышовой кошкой. Собак на такую охоту не берут — в этих колючих густых зарослях они не всегда полезны. Здесь у охотника другой помощник — птица сорока. Выслеживает она кошек не хуже собаки, притом по собственному желанию.
Четвероногих хищников — лисицу, дикого кота — сорока не пропустит. Криком оповещая все живое о появлении кота, она часто срывает ему охоту. Даже в ночное время потревоженная сорока лучше откажется от сна, но зато не даст покоя и дикой кошке.
Крик сороки — это сигнал. По нему все жители леса узнают, что идет кот или лиса. По сорочьему крику можно, не видя, знать путь хищника. Вот она продолжительно застрекотала — значит, нашла врага. Короткое, часто повторяющееся стрекотание — сорока преследует идущего хищника. Опять продолжительное стрекотание — хищник бросился бежать и скрылся от сороки в зарослях.
Я знал эти привычки сороки, но в то утро мне хотелось понаблюдать ее преследование. Убить кота я успею в любое время.
Солнце еще не взошло, поселок спал под тихий, мерный рокот морского прибоя. Стараясь как можно меньше шуметь, я пробрался в глубину сада, туда, где виноградники граничили с колючей порослью, и влез на старое густое дерево.
Отсюда весь участок был виден как на ладони. Подо мной расстилались шпалерные виноградники и полосы скошенной пожелтевшей травы. Темно-зелеными пятнами виднелись непролазные колючие поросли. Скрытый листвой, я ждал.
И вот неподалеку от зарослей раздалось резкое в тишине утра стрекотание. На вершину дерева взлетела сорока. Она, нагибаясь, часто подергивала длинным хвостом, всматривалась в густую чащу.
Потом, нырнув, перелетела на виноградную стойку-столбик и коротко застрекотала.
«Началось», — подумал я и пригнулся, чтобы лучше видеть. Между рядами шпалер по скошенной траве медленно шагал камышовый кот.
Он шел к поселку, не оглядываясь, и не спеша переставлял свои длинные ноги. Сорока следовала за ним по пятам. Хищника и птицу отделяло расстояние не более метра. Сорока перелетала со столбика на столбик, дергая хвостом, стрекотала и не собиралась прекращать преследования.
Поселок уже проснулся. Слышался шум стада, куры с кудахтаньем слетали с деревьев, где провели ночь.
Кот шел, не замедляя и не убыстряя шага. Я любовался его выдержкой. Казалось, сорока для него не существовала.
На краю виноградника кот остановился. Его дразнило кудахтанье кур, но он понимал, что с таким провожатым охота невозможна: ведь никто не ходит с барабанным боем на разведку. Как бы ни были глупы куры, к ним при таком шуме не подойти.
Кот ждал — видимо, надеялся, что птица оставит его в покое.

Но сорока, сидя на столбике, вызывающе стрекотала. Последним усилием кот сдержал себя и сделал еще несколько шагов к поселку. Сорока тотчас же перелетела на последний столбик и уселась почти над головой кота. Тело птицы было напряжено, видно было, что она ждет нападения и в любой момент готова взлететь, но не отказаться от своих намерений.
Кот выгнул спину, и в тишине утра до меня ясно донесся отрывистый царапающий звук. Это хищник поочередно вытягивал свои длинные ноги, всаживая когти в лежащее на земле гнилое дерево, срывая с него кору. Конечно, с большим удовольствием он разорвал бы когтями эту назойливую птицу — сороку.
Хищник медленно поднял голову, впервые взглянул на своего мучителя, негромко проурчал «уууу…» и закончил резким «кха!». Однако сколько было в этом несложном звуке бессильной злобы и ненависти к назойливой птице-тирану!
И надо сказать, что в этот момент я всецело был на стороне кота. Сколько было проявлено выдержки, спокойствия, терпения — и все пошло прахом. Пропала охота! Он был бессилен прекратить это издевательство.
Вдруг кот сделал несколько крупных прыжков, но не к сороке, а в противоположную сторону. Еще секунда, и хищник исчез в сплошной зелени, верно рассчитывая скрыться от птицы.
Но сорока и тут не хотела пощадить кота. Усевшись на вершину ветлы, она громко стрекотала. Другие птицы слетались на ее голос. Они возбужденно кричали и кружились над чащей. Более смелые спускались на землю и, осторожно пригибаясь, всматривались в колючую поросль.
Скоро вся компания перелетела на другое место — видимо, кот переменил убежище. Потом сороки стали слышаться все дальше и дальше от поселка. Кот уходил в лес. Там он забьется в чащу и будет лежать голодным: не удалась сегодня охота.
Но все-таки мне нужно было добыть камышового кота. На другой день, взяв ружье, я утром вышел в виноградник. Опять застрекотала сорока. По ее крику и перелетам со столбика на столбик я узнал, что идет зверь, и, выбрав место, стал с ружьем на его пути. Сорока стрекотала все ближе. Я ждал. И вот прямо на меня вышел из зарослей крупный серо-желтый хищник.
Глава двенадцатая
ДЕНЬ В СКОПИНОМ ГНЕЗДЕ
Скопа — это большая красивая хищная птица. В отличие от многих других хищников — орлов, коршунов, ястребов — она никогда не нападает на птиц и крайне редко ловит мелких млекопитающих. Посадите скопу в одну клетку с голубем или кроликом, и они будут жить мирно. Почти единственная добыча скопы — крупная рыба. Ловит она ее замечательно ловко. Скопа — птица, населяющая весь земной шар, но держится она только там, где есть обширные прозрачные водоемы, в которых можно добыть пищу, где есть деревья и скалы, на которых она устраивает свои массивные гнезда. У нас скопы распространены очень широко, но особенно много их на юго-западном побережье Каспийского моря, в районе портового города Ленкорани. Во время своих выездов туда я наблюдал этих пернатых в большом числе и один раз, при попытке добраться до гнезда птицы, попал в крайне затруднительное положение.

Всю жизнь, с самого раннего детства, я не могу видеть равнодушно гнезда скопы. Я часами любуюсь им, хотя в нем как будто и нет ничего особенного. Гнездо сооружается из толстых кривых ветвей и сучьев, но как бывает живописна эта огромная куча хвороста, укрепленная на самой вершине великана дерева. Конечно, это может не всем нравиться, как, например, не всем нравится кваканье в пруду лягушек и одновременно песнь соловья. Скажите об этом завзятому горожанину, редко бывающему среди природы, и он будет над вами смеяться, а другие скажут, что для них это самая лучшая музыка. Но это уж, конечно, дело вкуса, и каждый прав по-своему. Так или иначе, но когда я приехал весной в Ленкорань и увидел много скоп и их гнезда, мне стало как-то особенно радостно. «Вот, — подумал я, — будет интересно понаблюдать за этими чудными птицами. А быть может, мне удастся добраться до гнезда скопы и достать кладку яиц для своей коллекции». Однако большинство гнезд, попадавшихся мне во время экскурсий, помещалось на таких огромных деревьях, что влезть на них не представлялось никакой возможности. Мало того, что деревья оказывались очень высокими и в нижней своей части лишенными сучьев, но главное — они были в два-три обхвата. При этих условиях лазанье становилось крайне опасным, так как, не имея возможности обхватить дерево руками, на нем почти невозможно держаться.
Вот среди затопленных водой рисовых полей — беджар, покрытых, как ковром, яркой зеленью молодых всходов, высоко к небу поднимается великан дуб. Дерево давно отжило свой век, высохло, буря сломала его вершину, свалились на землю ветви, но могучий ствол по-прежнему сохраняет былую красоту и прочность. И по сравнению с мертвым великаном кажутся низкими растущие по соседству молодые деревья. Погибшие дубы-великаны — излюбленные места гнездования скоп. Массивное гнездо, выстроенное на обломленном стволе, как шапкой, прикрывает нагую вершину дерева. Вот и попробуй добраться до такого гнезда. Конечно, попробовать можно, но мало вероятия, что ваша попытка даст результат.
После осмотра нескольких десятков гнезд я наметил лишь два из них, которые мне казались более доступными. Одно помещалось в окрестностях селения Вель, другое в двадцати километрах, у самого подножия хребта Талыш. На них я и решил испытать свои силы и умение.
Выбрав сухой и солнечный день, ранним утром я оседлал лошадь и пустил ее крупной рысью по направлению видневшегося вдали лесистого холма Машхан.
Сначала дорога шла к западу. Я миновал селение, пересек широкое, открытое пространство затопленных водой рисовых полей и, углубившись в лесную чащу, едва приметной тропой достиг первых увалов. Отсюда хорошо проторенная дорога шла прямо на юг, мимо того места, где неделю тому назад я нашел и заметил гнездо скопы. Дикая и своеобразная природа окружала меня. Что-то сказочно красивое и в то же время страшное таилось в ней. Направо от моего пути поднимались покрытые лесом Талышские горы, налево широко раскинулись лесные водохранилища — истыли, то есть затопленные лесные площади, где местные жители сохраняют воду, используя ее для поливки рисовых плантаций. Эти затопленные водой леса поражают вас своей пышностью. Какая яркая зелень листвы, сколько цветов, ветви обвиты серыми и зелеными лианами, сколько яркого света и солнца вверху, и как темно под зеленым сводом! А из глубины глухой чащи до вас доносится беспрерывный гомон квакающих лягушек. Только обилие воды и южное солнце в состоянии создать такую роскошь. Но в то же время лесные истыли — страшное место. Это рассадник тропической лихорадки.
Впереди по обеим сторонам дороги виднелась роща каких-то вечнозеленых растений. Моя лошадка, бежавшая до этого бодрой и ровной рысью, вдруг начала упрямиться. Она крутилась на одном месте, не желая идти дальше. И когда я, потеряв терпение, дал ей шпоры, она встала на дыбы и, сорвавшись с места, вихрем понеслась вперед так, что в ушах засвистел ветер. Несколько минут спустя роща осталась далеко позади, и лошадка вновь бежала обычной рысцой. Так называемая «пальмовая роща», по суеверным понятиям стариков окрестных селений, — нехорошее место. Ее принято объезжать стороной или проскакивать полным карьером. Лошадка, приученная своим хозяином, строго придерживалась этих правил.
Еще десять минут езды, и я близок к цели. С дороги мне видны совсем маленький азербайджанский поселок, расположенный на берегу истыля, несколько поодаль возвышающееся над лесом дерево, а на его вершине уже знакомое гнездо скопы. Приблизившись к первому домику и заметив сидящую на низком крылечке женщину, я прошу у нее разрешения оставить лошадь. Но она не отвечает мне и как будто сидя спит, опустив на грудь голову. Я громче повторяю свой вопрос, она поворачивает ко мне лицо, и при виде его мне становится жутко. Белеют ровные зубы, из темных орбит безжизненно смотрят глубоко провалившиеся глаза замученного лихорадкой человека.
— Что с тобой? — невольно срывается у меня с языка вопрос, и в следующую минуту я уже жалею о нем.
Женщина медленно поднимает худую, дрожащую руку, указывает ею по направлению ближайшего леса, где как сумасшедшие квакают лягушки.
— Ис-ис-ис-тыль, — тянет она еле внятным голосом.
Да, это истыль с его роскошной растительностью, с источником жизни — водой, необходимой для рисосеяния, и в то же время источник страшной тропической лихорадки. Сейчас у нас борются с малярийным комаром — передатчиком тропической лихорадки — путем нефтевания водоемов, уничтожают личинок насекомых с помощью выпущенных в истыли маленьких рыбок — гамбузий. А в то время эта болезнь являлась настоящим бичом местного населения.
Я поспешно иду к дереву с гнездом скопы. Мне хочется уйти от страшного впечатления, но мысль об этом преследует меня.
Вот и истыль, под ногами хлюпает вода, в темной чаще она достигает моих колен. Я подхожу к дереву, на котором выстроила свое гнездо птица. Но каким неприступным кажется оно мне вблизи! Его вершина намного возвышается над крупным лесом. Тысячи комаров, потревоженных моим появлением, поднимаются в воздух, назойливо лезут в глаза, в уши, в рот. Я пытаюсь их отгонять сорванной зеленой веткой, давлю их на лице, на шее ладонью и вдруг, вместо того чтобы попытаться влезть на дерево, спешно возвращаюсь в поселок и, отвязав лошадь, галопом пускаю ее к дому. Обидно за напрасно потерянное время, но я спешу уйти от страшного места и не вернусь сюда больше.
Хотя я и был вполне здоров, но когда вспоминал лицо женщины, меня начинало знобить, как будто я сам заболел лихорадкой. В таком состоянии нечего было и думать достичь цели. Лазанье по высоким деревьям, конечно, всегда связано с известным риском. Здесь необходимы уверенность в своих силах, хладнокровие, спокойствие, а в тот момент этого как раз и не было.
Отказавшись от попытки добраться до гнезда скопы близ горы Машхан, я, однако, был далек от мысли вообще отказаться достать скопиные яйца для своей коллекции. Напротив, меня не покидала уверенность, что рано или поздно мне это удастся. Ведь у меня на примете оставалось еще гнездо, которое мне казалось более доступным. Оно располагалось на погибшем дубе совсем близко от селения Вель, и перед тем как действовать, я еще раз решил его осмотреть.
На следующий день утром я вновь посетил это место. К моему разочарованию, и это гнездо оказалось нелегким. Толстый и изогнутый ствол почти весь был лишен сучьев. Чтобы добраться до первого сука, находившегося под самым гнездом, нужно было потратить массу мускульной силы — хватит ли ее у меня? «Попытаемся, — решил я и, усевшись в тени кустарников, стал наблюдать за скопами. — Сегодня я ограничусь только безобидными наблюдениями, а завтра… посмотрим, что будет завтра».
Одна из птиц гнездовой пары прочно сидела в гнезде, другая занималась охотой. Вот она, широко взмахивая крыльями, медленно летит над морской гладью. Ее зоркие глаза устремлены в воду. Порой она бьется на одном месте в воздухе, вероятно заметив под собой рыбу, и вновь летит дальше. Но вот опять быстрота полета сокращается, скопа складывает крылья и падает вниз, вытянув вперед ноги. Слышится всплеск воды, летят брызги, и, отряхиваясь на лету, птица поднимается выше и выше. В ее когтях бьется и блестит на солнце мокрой чешуей крупная рыба.
Раннее утро. На горизонте показалось солнце. Ярким светом оно пронизывает густую листву деревьев, блестит в каплях росы на траве, на листьях кустарников. Полный решимости и энергии, я на знакомом месте. Сегодня я не допущу никакого малодушия — сделаю все от меня зависящее, чтобы добраться до гнезда птицы. И эта уверенность придает мне силы, а дерево кажется не столь уже недоступным, и при большом желании до гнезда добраться не так сложно.
Я сбрасываю с себя все лишнее: патронташ, сумку, ружье, стягиваю с ног сапоги и, оставшись в носках, начинаю карабкаться по стволу выше и выше, туда, где в стороне от гнезда, на фоне неба, четко вырисовывается сухая ветвь. Только бы схватиться за нее рукой, а там, опершись на ее основание, нетрудно влезть и в гнездо птицы. И, судорожно сжимая руками ствол, я медленно, но упорно взбираюсь все ближе к заветной ветви. Проходит минута, другая, еще несколько, и я достигаю цели. Силы мои почти на исходе, но я крепко обхватываю основание сука и могу несколько отдохнуть в таком положении. Вот уже не так сильно бьется сердце, не стучит в висках — можно действовать дальше. Я осторожно подтягиваюсь на руках, встаю ногой на ветвь и, вытянувшись во весь рост, достаю руками до края гнезда. Но в этот момент предательская ветвь хрустнула, я судорожно вцепляюсь в гнездо и через мгновение сижу в нем вместо скопы. Отсюда мне слышно, как падающая ветвь скребет ствол дерева и наконец с хрустом разлетается на куски при ударе о землю.
Несколько минут назад я стремился вверх, к гнезду, а сейчас, когда достиг цели, меня охватывает противоположное желание. Скорей вниз, на твердую землю. Но как это сделать, когда ветвь обломана, когда спуск опасен — почти невозможен! Я стараюсь взять себя в руки, успокоиться и поступаю так, как будто не произошло ничего страшного. Осторожно завернув три крупных пестрых яйца скопы в бумагу, а затем в мешочек, я на тонком шпагате спускаю их на землю. «Эх, если бы мне самому удалось спуститься так благополучно!» — думаю я и тут же допускаю непростительную глупость — бросаю конец веревки.
Гнездо огромно, я сижу в нем, как в мягком кресле, но ведь не для того я сюда забрался, чтобы оставаться здесь неопределенное время, и я чувствую себя так, словно попал в ловушку, и начинаю ломать голову, как мне спуститься на землю. Сделать это чрезвычайно трудно и, конечно, много труднее, чем сюда забраться.
Крепко ухватившись за гнездо, я спускаю с него ноги, пытаюсь достать ими ствол, но это не удается мне, и я вновь комфортабельно усаживаюсь в гнезде. «А если разобрать его? — думаю я. — На это уйдет немало времени, но шансы на благополучный спуск тогда увеличатся. А если и после этого я не спущусь с дерева, ведь мне придется сидеть без всяких удобств, и долго ли я просижу на голой вершине! Нет, это я успею сделать всегда, а пока подожду — быть может, найду другой выход».
Время шло. Солнце поднялось высоко, сильно пригревало землю, блестело на спокойной морской поверхности. А я все продолжал сидеть в гнезде и не мог ничего придумать. Однако как было приятно смотреть с высоты на цветущую землю! Направо в голубой дымке синел лесистый истыль, ею берега желтели от бесчисленных цветов желтой лилии, а кругом — рисовые плантации, покрытые коврами какой-то особенно нежной зелени. Вот мимо беспечно трусит шакал. Сверху мне это хорошо видно. Его линялая шкурка выглядит неказисто — зимняя шерсть висит клочьями на боках. Неожиданно он замирает на месте, вслушивается. Это ветерок пахнул на него запахом лежащих под деревом моих вещей. Еще секунда, и он опасливо спешит в сторону и исчезает в густых зарослях.

— Э-эй, что ты там делаешь? — слышу я где-то внизу голос и, обернувшись, вижу загорелого азербайджанца. Он стоит на освещенной солнцем поляне и, загораживаясь от ярких лучей ладонью, с удивлением рассматривает меня. — Что ты там делаешь? — повторяет он свой вопрос.

— Сижу, как видишь.
— А как тебя туда занесло?
— Не занесло — сам залез. Слезть не могу.
— Не можешь, а залезть мог?
— Залез, как видишь, а слезть никак не могу.
— Ничего я не вижу; если слезть не можешь, значит, и влезть не мог.
— Да что я, с неба сюда свалился, что ли? — вспылил я.
— Не знаю, как ты туда попал, да и не мое это дело. — И, покачивая головой, он стал удаляться от дерева.
— Послушай, погоди, что ты уходишь! Помоги мне как-нибудь слезть с дерева.
— Ну как я тебе помогу? — на мгновение остановился тот и развел руками. — Залез — и сиди там. — И, отмахнувшись от меня, он исчез за густыми кустарниками.
Что мне оставалось делать? Я вспомнил, как утром ушел от завтрака. Я всегда не любил, когда запоздавший завтрак отнимал у меня лучшее время дня — утро. Вот и сегодня я сказал, что вернусь, когда завтрак будет готов. Быть может, меня хватятся дома? В этот момент снова на полянке появился азербайджанец в сопровождении еще одного человека.
— Ты кто такой? — спросил меня новый пришелец.
— Москвич, живу в Велях, — ответил я.
— Сам ты туда залез?
— Да, сам.
— Ну так слезай.
— Я уже говорил твоему товарищу, что слезть не могу. — И я, чтобы убедить их в своем бессилии, спустил с гнезда ноги и, не достав ими ствола дерева, беспомощно поболтал в воздухе.
— Не надо, не надо, — запротестовали оба и сокрушенно закачали головами. — Подожди немного, сейчас придем, — крикнул один из них, и оба удалились по той же тропинке.
На этот раз они не появлялись очень долго. Солнце уже давно перевалило за полдень и сейчас склонялось к западу.
А я все сидел в гнезде и надеялся на помощь. Иногда подлетали владельцы гнезда — скопы — и кружились над самой моей головой.
Спустя часа полтора наконец на лужайке появились люди, и не один, и не двое, а по крайней мере человек двадцать. Они принесли сюда два тонких длинных шеста, веревку, топор и ряд мелких предметов. Молодой здоровый парень опоясал себя прочным ремнем, пропустил под него толстую веревку и охватил ею ствол. Далее, всаживая топор в дерево, подтягиваясь на руках и передвигая веревку, он медленно, но уверенно стал подниматься вверх. Это продолжалось долго, и я с трепетом следил за каждым его движением. Поднявшись таким образом на две трети высоты дерева, он особенно глубоко всадил свой топор и, опершись на него ногой, подтянул к себе на шпагате длинный шест. Поднятый шест коснулся гнезда — я торжествовал. Сорвав с него конец шпагата, я осторожно втянул в гнездо толстую веревку. На ее конце я сделал широкую петлю, сунул в нее ногу и, перекинув веревку через гнездо, приготовился к спуску. Меня спустили на землю так же осторожно, как я спустил из гнезда мешочек со скопиными яйцами. Только то было ранним утром, а сейчас был уже вечер. Я просидел в скопином гнезде, следовательно, целый день.
Вы думаете, после этого случая я отказался лазать на большие деревья? Ничего подобного! После того я побывал во многих скопиных и орлиных гнездах. Но этот урок не пропал даром. На всякий случай я захватываю с собой прочную веревку и стараюсь не делать никаких глупостей. Семь раз отмерь, один раз отрежь — строго придерживаюсь я мудрой пословицы.
Глава тринадцатая
ЗАГАДОЧНЫЕ ПТИЦЫ
— Елдаш (товарищ), дай мне два патрона, — обратился ко мне колхозник-азербайджанец, у которого мы остановились, чтобы передохнуть часок-другой после утомительной охоты и сварить обед.
— Разве ты охотник? — спросил я его.
— Да нет, не охотник, — ответил он. — У соседа ружье есть, патронов нет, а мне птицу стрелять надо.
Не интересуясь, какую ему надо застрелить птицу, я вынул из патронташа пару патронов и передал ему. Однако вскоре я был до крайности удивлен: колхозник достал у соседа ружье, сунул в него мои патроны и тут же во дворе застрелил пару своих собственных кур. Мне было непонятно его поведение.
Кругом изобилие дичи — фазаны, турачи, а он тратит полученные от меня патроны на стрельбу домашней птицы. «Зачем, — думал я, — шпиговать дробью куриное мясо, когда для убоя кур существуют обычные способы?»
— Не поймаешь, — кратко пояснил он, видя мое недоумение и передавая застреленных кур своей дочке.

Конечно, для меня это было неубедительно, но какое мне дело — режет ли он своих кур или стреляет из ружья соседа патронами, полученными от случайно зашедшего в селение охотника.
Передохнув и закусив, мы вновь занялись поисками турачей и фазанов, и случай со стрельбой домашних кур перестал меня интересовать. Однако этим не все кончилось.
Следующий день выдался исключительно теплый. Затих ветерок, а солнце светило по-весеннему ярко. Пользуясь хорошей погодой, мы забрались далеко от того селения, где вчера отдыхали. Дичи здесь было исключительно много.
Места, где обычно держатся фазаны и турачи, — это крепкие колючие кустарники ежевики, перемешанные с камышом, настолько густые, что иной раз сквозь них невозможно пробраться — всю одежду изорвешь и сам в кровь исцарапаешься. Вот, пробиваясь сквозь такую колючую чащу, я и увидел издали небольшую стайку крупных птиц. Они плотным табунком низко и быстро пронеслись над колючими зарослями и скрылись за деревьями фруктового сада, зеленевшего на окраине селения. Своими размерами и быстрым, прямым полетом птицы напоминали тетеревов и, несомненно, принадлежали к отряду куриных.
Птиц Закавказья я знаю неплохо и могу в полете определить их на значительном расстоянии. Я перебрал в уме всех пернатых, водившихся в этой местности, но все они чем-нибудь да не походили на встреченных. Эта загадка настолько заняла мои мысли, что на охоте в тот день я делал непростительные промахи и упустил несколько турачей.
Вскоре все разъяснилось. Незадолго до вечера я вновь столкнулся с загадочными птицами и, к своему большому изумлению и даже досаде, вынужден был признать в них… домашних кур.

Но что это были за удивительные куры! Целая стая их сорвалась при моем приближении со сжатого поля и, пролетев около километра, снизилась в черте ближайшего поселка. Поднявшиеся куры так напоминали в воздухе диких птиц, что я с большим трудом удержался, чтобы не выстрелить.
И тогда мне вспомнилась книга Арсеньева «Дерсу Узала», в которой автор описывает свои путешествия по Уссурийскому краю. В ней было такое место:
«Вдруг с шумом поднялись сразу три птицы. Я стрелял и промахнулся. Полет птиц был какой-то тяжелый, они часто махали крыльями и перед спуском на землю неловко спланировали. Я следил за ними глазами и видел, что они опустились во двор ближайшей к нам фанзы. Это оказались домашние куры».
Позже я неоднократно встречал хорошо летающих домашних кур и в других уголках нашей обширной страны, причем особенно часто в Казахстане у кочующих по степным просторам казахов. Однако мне кажется, что среди наших домашних кур лучше всего летают куры Закавказья.
Почему же некоторые куры хорошо летают, а другие почти не умеют летать?
Как и все домашние животные, наши куры произошли от диких предков. Предки домашней курицы — банкивские куры — жили и сейчас живут в джунглях, в лесах Индии и хорошо летают. Очень давно эти дикие куры были приручены людьми. В течение многих веков шла работа по одомашниванию кур, и, отбирая то лучших несушек, то наиболее крупные экземпляры, человек вывел разнообразные породы. Породистые куры стали плохо летать. Одни из них — мясные породы, крупные, тяжеловесные, — совершенно утратили способность к полету. Лучше летают хорошие несушки: они легче весом и меньше ростом.
Закавказские, отчасти уссурийские и казахстанские куры живут в условиях, очень близких к природе. Этих кур не кормят, и никто о них не заботится. Они предоставлены самим себе — сами добывают себе пищу и часто далеко уходят от жилья человека, где сталкиваются с хищниками. Врагов у таких кур, как и у диких птиц — фазанов, турачей, — множество. Курятиной не прочь полакомиться шакалы, лисицы, дикие кошки. Куры отлично знают своих врагов и при первой же опасности поднимаются на крылья, летят в селение или садятся на высокие деревья.
Но все же от четвероногих хищников гибнет много полуодичавших кур, и, конечно, в первую очередь те, которые хуже других летают и не умеют быстро подниматься в воздух. Таким образом, среди домашних кур Закавказья, Уссурийского края и Казахстана в течение длительного времени шел естественный отбор: гибли особи, не умеющие приспособиться к местным условиям, и, напротив, выживали и сохранялись лучшие летуны.

ПО ПУСТЫНЯМ И ОЗЕРАМ КАЗАХСТАНА
Глава первая
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ОСЕЛ
Сегодня раннее майское утро. На большом речном пароходе я плыву вниз по Волге от Волгограда к Астрахани. После утомительного переезда по железной дороге в душном вагоне здесь так привольно! В этот ранний час на палубе ни души. Ласковый ветерок дует в лицо, блестит солнце, дымкой подернуты уходящие назад зеленые острова и желтые косы. И когда смотришь далеко вперед, где водная гладь соприкасается с небом, то кажется, что меж ними нет границы.
С твердым намерением написать о волжском просторе я сажусь за маленький беленький столик, вынимаю из кармана карандаш и тетрадку и собираюсь приступить к делу, но безуспешно. Не могу писать о том, что вижу, что меня окружает. Нужно забыть это, вновь воскресить в памяти после долгого перерыва, прочувствовать, и тогда писать будет легко и свободно.
А сейчас мне вспоминается другая река. С неприветливым плеском стремится она на северо-запад, порой подмывает крутой берег, и тогда глыбы земли с шумом валятся в желтую воду. По ее сторонам — цветущие в мае тугайные заросли с душистым белесым мхом да голубым джингилем. Это река привольного, необъятного Казахстана; называют ее Сырдарья.
Маленькая станция Кара-Узяк, расположенная в двадцати двух километрах от Кзыл-Орды, была для нас основной базой. Отсюда мы предпринимали постоянные походы, исследуя тугайные заросли, прилегающие к Сырдарье пустыни и сеть глубоководных озер, громадной дугой охватывающих эту местность.
Для нас, начинающих натуралистов, исследовательская работа была так интересна, что мы без всякого ропота мирились со всеми трудностями и невзгодами. Отправляясь в далекий поход, чтобы облегчить свою ношу, мы не брали с собой ни палатки, ни смены одежды, ни достаточного запаса продуктов. «Ничего, как-нибудь обойдемся», — успокаивали мы себя и бодро отправлялись в дорогу.
— Не годится лишать себя всяких удобств, — сказал нам однажды начальник станции, у которого мы поселились.
— Конечно, ни к чему, — подхватил эти слова один из местных жителей; звали его Виссарионом. — Ни к чему себя мучить, таскать на себе тяжести и ноги зря бить, когда для этого за два целкаша ишака нанять можно. Он и вещи увезет все, а сядете на него оба — тоже не откажется. На моего ишака раз пудов эдак на двенадцать убитого кабана привьючили, а ему хоть бы что. Домой торопится, трусит так, что ноги мелькают.
— Правда, правда, — закивал головой начальник станции. — У Виссариона действительно осел замечательный — большой, сильный, лучше любой нашей лошади.
После этого разговора мне стало как-то не по себе — обидно за себя и приятеля. Посмотришь кругом — станционная молодежь умеет использовать свободное время. В воскресный день не только костюмы, но и лица праздничные. А мы? Разве у нас бывают свободные дни — праздники в поездках? Впряглись в работу с самой весны и будем тянуть ее до отъезда, а там учебный год. Если бы кто-нибудь требовал, заставлял, можно было возражать, отстаивать свои права на отдых, а то сами такой режим создали.
— Знаешь, Евгений, — вдруг обратился ко мне приятель, когда мы улеглись спать. — Я долго думал и решил, что нам необходимо изменить образ жизни. Посмотри, на что мы похожи. Физиономии обгорели, руки в ссадинах, рубахи в дырах — никуда не годится. Хоть один раз в неделю надо на людей быть похожими — одеться прилично и отдохнуть, как все отдыхают. А потом, что мы, вьючные животные, что ли?
Полсотни километров нужно сделать — пешком идем, будто, кроме ног, никакого транспорта на свете не существует. До реки дошли, мост снесло или лодки нет — вброд лезем. Нет брода, глубоко, тоже не беда — одежду и ружье в руки, поплыли на другую сторону. Очень культурно — нечего сказать. Озолоти Виссариона, скажи ему, чтобы он Сырдарью переплыл, где переплыл ее Сергей, — ни за что не согласится.
«Очень мне надо, — скажет, — чтоб меня за ногу сом схватил и ко дну уволок». И он прав — чего ради рисковать, зачем силы тратить, когда и без этого обойтись можно.
Долго еще мы беседовали на эту тему и, помимо прочего, пришли к следующим выводам. Студентам старейшего Московского университета необходимо хотя бы в праздничные дни одеваться прилично и во время выездов для исследования территории пользоваться известным комфортом. Два рубля в день за осла — плата пустячная, но зато, так сказать, деловой шик, а кроме того, какое удобство. С собой можно взять постель, полог, достаточное количество патронов и продуктов — одним словом, все, что нужно.
Вскоре подвернулся случай осуществить на деле наши благие намерения. Настала очередь ознакомиться с замечательным озером Келем-Чаган.
Озеро Келем-Чаган, что в переводе на русский язык — «расстели ковер», было расположено в пятнадцати километрах от станции Кара-Узяк; к озеру вела проторенная тропинка. В это интересное место мы были готовы выехать в любую минуту, но вот досада — подошло воскресенье. Нам не хотелось отступать от только что принятого решения относительно дня отдыха, и мы наметили выезд после праздника.
Во время полевой работы привыкаешь вставать спозаранку. До восхода солнца поднялся я и в это воскресное утро. В безукоризненно белом костюме вышел на станцию и, постояв на месте, бесцельно зашагал по путям к семафору. После ночи еще не проснулась природа. В голубых джингилях молчали птицы, в трещинах почвы монотонно звенел сверчок, под крышей будки стрелочника суетились и цыркали еще не заснувшие на день летучие мыши.
Удобно усевшись на край песчаной насыпи, я стал ждать восхода солнца. Вот причудливый огненный шар глянул на горизонте, спугнул сизую мглу джингилей, озолотил водную гладь мелководного озера Талдыкуль. Оно раскинулось совсем недалеко от линии, и меня вдруг потянуло туда, где в обмелевших заливах куртинами поднимался высокий желтый и зеленый тростник. Осторожно обогнув кусты, чтобы не запачкать праздничного костюма, я вышел к озеру и не спеша пошел вдоль берега. Над ним летали чайки, стайки маленьких куличков суетливо отбегали от меня в сторону и, пролетев над самой водой небольшое расстояние, вновь садились на отмель. «Какая благодать кругом, какой безмятежный покой, — думал я, обходя заросли, — и как много теряют люди, что спят в лучшее время жаркого туркестанского дня».
«Га-га-га-га», — резкий голос пары взлетевших гусей заставил меня вздрогнуть. И тотчас четыре гусенка, характерно пища, замелькали сквозь редкие тростники к озеру.
«Нельзя ни минуты медлить, на глубине не поймаешь», — мелькнула в голове мысль. Проваливаясь в полужидкую грязь и падая, я стремительно побежал вперед и минуту спустя уже держал в руках двух пуховичков серого гуся. Как видите, воскресный день и на этот раз не пропал даром. Весь в грязи, но в прекрасном настроении я вернулся на станцию.
— Ну зачем ты это ведро привязал, неужели котелка на двоих недостаточно? — придирался я к товарищу. — Ведь об него, как бы ты его ни привьючил, каждая встречная ветка царапать будет. Очень приятно пятнадцать километров шагать под такую музыку. А брезентовая палатка зачем? Дождя, что ли, ждешь? Неужели полога недостаточно?
Откровенно говоря, вся эта масса вещей, навьюченных на спокойно стоящего у крыльца осла, меня раздражала. Но мне не хотелось напрасно тратить времени, и мы двинулись в путь. Нас провожал хозяин осла. Под его командой осел вел себя безупречно. Дойдя до протоки, он послушно поднялся на железнодорожную насыпь и спокойно перешел по мосту на противоположную сторону Сурумбая.
— Желаю удачи, — махнул Виссарион нам рукой и, перекинувшись двумя фразами с охранником моста — молодым красноармейцем, пошел обратно. — Не оставляйте на ночь ишака на воле, когда на станцию возвратитесь, не забывайте, что волки скотину режут, — еще раз напомнил он нам свою просьбу.
При переходах до места работы мы редко использовали дорогу. Идешь где придется, пересекая тамарисковые заросли, пухлые солончаки, наблюдаешь за окружающей жизнью, иногда выстрелишь в попавшуюся интересную птицу. При такой ходьбе дорога не кажется далекой, а время идет незаметно. На этот раз нам пришлось отказаться от привычного перехода с охотой. Осел послушно шел вперед, когда с ним рядом шагал погонщик. А главное, как я и предвидел, ведро скрипело на все лады, предупреждая все живое о приближении человека.

Через три с половиной часа мы, однако, без особых приключений добрались до места и на берегу озера двое суток простояли лагерем. Растянутая брезентовая палатка, металлическая тренога с ведром над потухшим костром и пасущийся рядом осел — все это издали бросалось в глаза и могло вызвать любопытство случайно проходящего человека. Досадно, конечно, но пришлось сокращать экскурсии и часто возвращаться к лагерю. Невольно вспомнишь прошлые наши поездки. Какая свобода, никаких стеснений! Запрятав в густые заросли излишние вещи, не стесняясь во времени, мы уходили в любом направлении. И как же мало нужны оказались взятые вещи! Большая часть их без употребления лежала в лагере. В растянутой брезентовой палатке днем стояла невыносимая жара. Конечно, мы не стремились скрыться сюда от полуденных лучей солнца. Только наш неприхотливый осел мирился с духотой, часами прятался здесь от назойливого слепня и овода. Но все это пустяки. Проведенное время для нас не пропало напрасно. Ознакомившись с озером и собрав коллекцию птиц, однажды, когда горячее солнце стало понемногу склоняться к западу, мы навьючили на осла вещи и направились в обратный путь.
Четырех, ну самое большее пяти часов, по нашим расчетам, было вполне достаточно для обратного перехода. Но здесь-то и начались всевозможные непредвиденные задержки. Мелкий арык вдруг пересек нашу дорогу. Мутная вода едва прикрывала его дно. Для сильного животного арык не был препятствием, но наш осел если он и способен был думать, то, вероятно, думал иначе. Остановившись у грязной канавы и обнюхав воду, он вдруг отказался идти дальше. Наверное, около часа мы возились с упрямым животным: тянули его за узду, толкали сзади, пытались тащить на аркане, но — все безуспешно. Осел не желал двигаться с места. Наконец, связав ослу ноги и повалив его на землю, с невероятными усилиями мы переволокли его на противоположную сторону. Весь бок животного после этой операции оказался облеплен полужидкой глиной. Опасаясь неожиданных осложнений, мы поспешно навьючили на грязного осла свои вещи и пошли дальше. Железнодорожный мост через проток Сурумбай явился новым непреодолимым препятствием. Мы с приятелем и двое красноармейцев потратили массу сил, чтобы втащить осла на пологую насыпь. Около часа затем мы старались различными средствами заставить осла перейти на противоположную сторону. Но осел был упрям и силен; наши попытки не увенчались успехом. Показавшийся вдали поезд вынудил нас, не жалея сил и уже затраченного времени, стащить осла обратно вниз по насыпи и в сторону от железной дороги.
К счастью, в этот момент я увидел вдали всадника; покачиваясь вперед и назад в такт широкому шагу, он ехал на двугорбом верблюде.
— Э-эй, по-до-жди! — размахивая шапкой и крича что есть силы, пытался я перехватить путника. Он придержал своего верблюда и, ожидая меня, пустил его пастись по джингилевым зарослям. — Ты откуда? — спросил я парня.
— Из Александровского поселка, — ответил тот, показывая на густые тугайные заросли, совершенно скрывавшие на берегу Сырдарьи домики крошечного поселка.
Я объяснил ему, в чем дело, и попросил его с помощью верблюда перетащить нашего упрямого осла на противоположную сторону Сурумбая.
— Послушай, ведь, кажется, у вас там все охотники — значит, порох, дробь нужны?
— Конечно, нужны, — улыбался парень, свернув с дороги и направляя верблюда вслед за мной.

Упершись всеми четырьмя ногами в землю и вспахав ими полосу, упрямая скотина в таком положении была втащена в воду и минуту спустя оказалась уже на противоположной стороне протока.
— Ну, спасибо тебе, выручил, — благодарил я парня, отсыпая ему дробь и порох.
Солнце скрывалось за горизонтом, но пустяки, теперь совсем близко: до станции оставалось меньше километра. Однако навьюченный нами осел на этот раз, как будто мстя за насильственное купание, решительно отказался идти к станции. Что мы только не делали, на какие хитрости не пускались, чтобы заставить упрямца сдвинуться с места! Но осел Виссариона был очень большой, отличался недюжинной силой, а наши силы на этот мучительный день иссякли.
Потухла на горизонте заря, сгустились сумерки, в окнах станционных построек приветливо вспыхнули первые огоньки, слабый ветерок донес к нам от жилья запах тлеющего кизяка. Потом прошло, вероятно, много времени, с грохотом пронесся мимо пассажирский поезд, один за другим потухли огоньки на станции, только пристальным зеленым глазом глядел на путях светофор да в небе мерцали звезды. А мы, доведенные упрямством осла до отчаяния, на берегу Сурумбая не знали, что делать.
— Пускай сам хозяин уговаривает своего прекрасного ишака дубиной, если не хочет, чтобы его волки съели. — С этими словами я сорвал поклажу и, навалив, сколько возможно, себе на плечи, пошел к станции. Подобрав остатки имущества, моему примеру последовал и приятель. У самой станции нас нагнал осел. Ему, видимо, было скучно оставаться одному на пустынном берегу Сурумбая. Занеся вещи в комнаты, мы столкнулись с новым сопротивлением осла — он не желал переступить порог конюшни. Тогда мы скрутили его веревками и при помощи двух стрелочников сволокли упрямца в конюшню. Утром его не оказалось на месте. Вероятно, еще до света он отправился к своему хозяину.
Я не хочу сказать, что осел непригоден для подобных поездок. Напротив, осел неприхотлив, силен и вынослив. Он способен поднять тяжелую кладь и безропотно пройти с ней сотни километров. Кроме того, осел привязывается к своему хозяину и к членам его семьи и в отношении их редко допускает непослушание. Даже маленькие дети быстро выучиваются управлять этим спокойным и послушным животным. Но упрямство осла часто ярко проявляется в отношении посторонних ему людей, и особенно тех из них, которые не умеют с ним обращаться. Однако после памятного для меня случая я предпочту пройти пешком большое расстояние, нежели воспользоваться ненадежным, по моим понятиям, видом транспорта.
Глава вторая
ЗАГАДОЧНЫЕ ОБИТАТЕЛИ ПУСТОГО ДОМА
По дороге в Казахстан я мечтал о ранней южной весне. Какое разочарование меня ожидало! Правда, Сырдарья уже вскрылась, лед на озерах потемнел и вздулся, но беспрерывно дул леденящий северо-восточный ветер и с наступлением ночи становилось так холодно, что оттаявшие на солнечном пригреве края водоемов к утру затягивались ледяной коркой.
Волей-неволей мне пришлось отложить отлов птиц и зверьков (ради чего я сюда и приехал) до более теплых дней. Отчасти я был рад этому обстоятельству. Я знаю, что достаточно приобрести хотя бы четыре-пять животных, и уже руки будут связаны. Чтобы четвероногие и пернатые пленники были живы и здоровы, за ними нужен внимательный уход, а это занимает весь день.
А сейчас я мог располагать своим временем как хотел. Я поселился в пустом домике из двух комнат, одиноко стоявшем среди заброшенного фруктового сада на окраине поселка Джулек. Поставил железную печку, заготовил дрова и целые дни проводил с ружьем в окрестностях. С увлечением я охотился за фазанами в тугайных зарослях, а потом появились стаями пролетные гуси и утки.
Но скоро моя спокойная жизнь была нарушена. Я убедился, что кроме меня еще кто-то живет в доме, а кто именно — я никак не мог узнать. В нем водилось множество мышей и других грызунов. Они прогрызали мешочки с продуктами, попадали в ведро с чистой водой и — что самое досадное — портили мои птичьи шкурки. Чтобы спасти свою коллекцию от этих разбойников, я превратил одну из комнат в чулан. Поставил там большой стол и, возвращаясь с охоты, складывал на него убитых птиц.

Однако и это не помогло; нередко, встав утром, я обнаруживал, что невидимый враг каким-то чудом ухитрился взобраться на стол: у более крупных птиц было выщипано оперение, а мелкие или исчезали совершенно, или были так попорчены, что уже не годились для коллекции. Все это меня ужасно раздражало, и я объявил жестокую войну грызунам-вредителям: у каждой из ножек стола я поставил по четыре капканчика.
Но лишь изредка я извлекал из какого-нибудь капкана то мышь, то злополучную песчанку, а разбой и порча шкурок не прекращались. Тогда я устроил под потолком висячую полку и стал на нее складывать свою добычу. Но мой невидимый сожитель проникал и под потолок.
Наконец я купил прочный сундук и стал запирать туда на ночь отстрелянных мной птиц. Хищение сразу прекратилось, но начались другие странности.
Вечерами, когда, потушив лампу, я ложился в постель, из другой комнаты до меня стали доноситься странные звуки. Частые, громкие, будто кто-то колотил маленьким молоточком по деревянной дощечке. Эта необычайная музыка наполняла весь дом. Я вскакивал, зажигал лампу и шел с нею в пустую комнату. Тогда звуки прекращались. Но как внимательно я ни осматривал голые, покрытые трещинками глиняные стены комнаты, пол, окна, нигде не мог обнаружить присутствия живого существа.
Однако стоило мне снова лечь в постель и потушить свет, как звуки возобновлялись. Я снова вскакивал и принимался за свои безрезультатные поиски до тех пор, пока усталость не брала верх и я засыпал под таинственную барабанную дробь.
Я был уверен, что и эти звуки, по вечерам не дававшие мне покоя, и порча шкурок исходят все от одного, неизвестного мне животного. Оно мешало мне жить и работать.
Однажды я убил редкого, очень ценного для коллекции голубя и рано возвратился домой, бережно неся свою добычу. Положив птицу на стол, я минут на десять вышел из комнаты, а вернувшись, прямо-таки остолбенел от изумления и гнева. У голубя была оторвана голова, а его окровавленные перья разлетелись по полу. И по-прежнему в комнате, ярко освещенной солнцем, было пусто и тихо.
Случай с голубем переполнил чашу моего терпения. Я решил во что бы то ни стало выследить своего мучителя и избавиться от него.
Рано утром на следующий день, добыв пару воробьев, я бросил их на стол как приманку, а сам вышел из дому и уселся под окном. Греясь на солнышке, я время от времени осторожно посматривал в окно. Прошло около получаса. В доме стояла тишина, но вдруг до моего слуха донесся чуть слышный шорох. Затаив дыхание, я одним глазом прильнул к углу окна и заглянул внутрь дома.
Что же я увидел? Под самым потолком на вбитом в стену деревянном клине сидел домовой сыч — небольшая ночная птица из отряда сов. Очевидно, он заметил за окном мою тень и с минуту пристально следил за мной своими круглыми зелеными глазами. Убедившись, что за ним наблюдают, сычик камнем упал вниз и исчез в дыре, прогрызенной песчанками в полу, в углу комнаты.
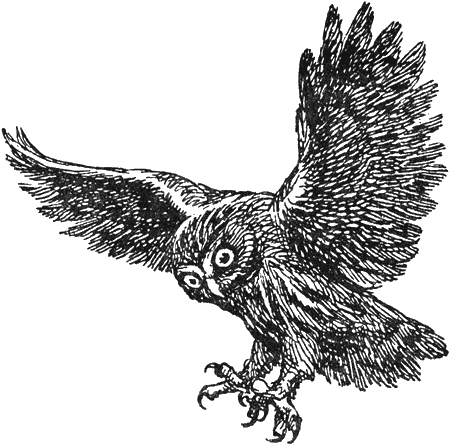
По-видимому, сычик уже давно жил в этом долгое время пустовавшем доме, ловил грызунов, а когда пищи не хватало, не брезговал и убитыми мной птицами.
Обнаружив разбойника-невидимку, я теперь знал, что предпринять. Над отверстием в полу я насторожил кирпич, подпер его палочкой и протянул от него наружу тонкий шнурок. Стоило дернуть за шнурок — и кирпич, падая, закрывал вход в норку.
На другой день таким способом я отрезал сычику отступление в подполье. Мой мучитель попался мне в руки, но, конечно, был помилован. Разве у меня поднялась бы рука на эту энергичную и полезную ночную птицу!
Так сычик стал моим первым пленником. Я поселил его в первой комнате, предоставив ему полную свободу в истреблении грызунов, и еще регулярно подкармливал маленького охотника застреленными воробьями.
Однако поимка сычика еще не раскрыла мне всех секретов временного обиталища. По-прежнему по вечерам комната наполнялась странными деревянными звуками, причем звуки стали сильнее и громче. Значит, в доме со мной жил еще какой-то невидимый сожитель, и мне нужно было разгадать и вторую загадку.
Как-то вечером, лишь только начался обычный концерт, я внес в пустую комнату лампу, поставил ее на стол, а сам прижался к стене и застыл в ожидании.
Минут двадцать я простоял неподвижно, звуки не возобновлялись. Тогда я небольшой палочкой постучал по столу, стараясь подражать своеобразным звукам неизвестного животного. Так я вызывал невидимку на ответ.
И он ответил. Спустя несколько секунд, вторя мне, послышались знакомые звуки. Они исходили от противоположной стены, покрытой глубокими трещинами. Я поднес к стене лампу и после внимательного осмотра обнаружил возле одной из трещин маленькую стенную ящерицу — серого геккона.
Гекконы — своеобразная группа ящериц. У многих гекконов на подошвах лапок имеются особые присоски, которые позволяют им лазать не только по древесным стволам, каменным и глиняным стенам строений, но и по более гладкой вертикальной поверхности. Они ведут ночной образ жизни, имеют крупные глаза с вертикальными зрачками. Многие гекконы охотно поселяются в строениях человека и прячутся в дневные часы в стенных трещинах.

Зимовавший в доме, согретый теплом моей печки геккон очнулся от зимнего оцепенения и, по-видимому решив, что настала весна, стал издавать свои весенние звуки. Окраска ящерицы настолько сливалась с окраской стенки, что заметить геккона было очень трудно.
В эту ночь я впервые уснул спокойно. Самое мучительное — неизвестность. А теперь я знал своих соседей и находил, что худо или хорошо, но жить с ними можно.
Многие люди питают суеверный страх перед домовым сычиком. Закричит в сумерки сычик на чьей-нибудь хате, и ее хозяин повесит нос и ждет несчастья.
На самом же деле безобидны, а во многих случаях и полезны для нас сычики и ящерицы, и серый геккон в частности. В большом числе они поедают насекомых, причиняющих много неприятностей человеку.
Глава третья
ОСТРОВ ИРИНБЕТ И ЕГО ОБИТАТЕЛИ
В двадцати километрах от станции Соло-Тюбе Ташкентской железной дороги среди сети глубоководных озер затерян маленький островок Иринбет. На этом клочке твердой почвы, окруженной обширными чистыми плесами и тростниковыми крепями, я работал в студенческие годы как начинающий натуралист. С этим уголком у меня связаны воспоминания об охоте на кабанов, о местных собаках.
В то время на острове Иринбет впервые появился крошечный поселок. Он состоял из небольшой землянки, широкого навеса, защищавшего от дождя и солнца, огромного ледника и четырех палаток. Обитали на острове два здоровенных парня — два Петра, посвятившие свою молодость охоте и рыбной ловле. Кроме людей, на острове жили двенадцать собак различных пород и ободранный, невероятно злой кот, ведущий полудомашнее, полудикое существование.
Несмотря на относительную близость аулов и наличие в двадцати километрах станции, остров Иринбет редко посещался казахами и русскими охотниками. Свора необузданных собак внушала страх всем соседям. Вследствие этого коренное население острова было значительно оторвано от мира и жило маленькими собственными интересами.
Увлекаясь кабаньей охотой, я частенько приезжал на станцию Соло-Тюбе и охотился в ее окрестностях. Многочисленные кабаны нередко травили здесь колхозные посевы.
Как сейчас вижу обычный ландшафт богатых водой частей Казахстана. Вдали высоко поднимаются сухие тростниковые крепи; арык, заросший джингилем и лохом, тянется среди равнины; здесь и там разбросаны то зеленые, то уже пожелтевшие участки посевов.
Вдвоем со стариком казахом мы сидим на его пшеничном поле, окруженном живой колючей изгородью, и беседуем в ожидании вечера.
— Как солнце спрячется, — ломая русский язык и помогая жестикуляцией, говорит мой собеседник, — сразу чушка пшеница придет.
Поле сильно потравлено дикими свиньями, и колхозник видит во мне — русском охотнике, — своего избавителя.
Ему больше всего хочется, чтобы потравивший поле крупный кабан со сломанным копытом, оставляющим уродливый след, был мной убит, как только зайдет солнце. Он мечтает, а потому и верит этому. И мне тоже хочется убить кабана, и потому я верю всему, что рассказывает мой собеседник.
— Кош, прощай, — говорит он, пожимая мою руку, когда солнце низко опускается к горизонту, и осторожно идет по направлению к аулу.
А я ложусь на согретую землю и начинаю мечтать о предстоящей охоте: вот заходит солнце, еще совсем светло, а нетерпеливый кабан уже вышел на поле и ест пшеницу. Мишень настолько велика, что мне — хорошему стрелку — промахнуться почти невозможно. Но, увы, это только мечты охотника — не так просто убить осторожного, чуткого зверя.
Уже не в воображении, а на самом деле заходит солнце, сгущаются сумерки, потом выплывает луна, а кабана нет и в помине. Стараясь защитить лицо и шею от комаров, я закрываюсь темным женским платком; под ним душно, потеет лицо, а целое облако назойливых насекомых все же лезет в глаза, гудит в воздухе.
И вдруг я слышу осторожную тяжелую поступь большого зверя. Несколько секунд спустя, хотя мне ничего не видно, по звуку я знаю, что он проламывает колючую изгородь и, просунув сквозь нее голову и передние ноги, чутко вслушивается и втягивает в себя воздух. «Ух», — слышится его мощное дыхание, и кабан, вместо того чтобы появиться на поле, пятится назад, тяжелой рысью бежит по тропе, потом перебирается через маленькое озерко и уходит дальше. До меня доносится явственный плеск воды и топот зверя. В ту же секунду в лунном небе громко кричит летящая цапля — никогда не забуду этой картины. И хотя момент для меня трагический, ведь охота как будто не удалась, мне некстати вспоминается поговорка: «Конь бежит — земля дрожит». Я лежу, вслушиваясь в топот убегающего кабана.
Однако охота не кончилась этим. Казах ошибся. Пшеницу посещал не один, а много кабанов. Одни приходили сюда со стороны маленького озерка, другие — от тростниковых зарослей. Всю эту ночь в страшном напряжении ползал я по полю, всматривался в неясные тени, то видел, то терял из виду кабана; охота закончилась только на позднем рассвете единственным, но удачным выстрелом.
Минут двадцать спустя после того, как благополучно убрался первый кабан, с противоположной стороны поля пришел второй. Он осторожно продрался сквозь колючую изгородь и, вероятно, потому, что едва заметный ветерок чуть тянул от нее ко мне, не обнаружил опасности и довольно смело вышел на поле. Вскоре я услышал сначала тихий шелест созревающего хлеба, потом громкое чавканье. Видимо, с большим удовольствием кабан, не срывая, разжевывал, а затем обсасывал колосья пшеницы. К моему огорчению, даже при ярком лунном освещении я долгое время не мог ничего увидеть. Тогда я подкрался возможно ближе и наконец ясно увидел крупного зверя. Благодаря принятым мной предосторожностям я ничем не обнаружил своего присутствия, и, несмотря на мою близость, кабан спокойно занимался своим делом.
Однако, когда добыча была совсем близко, почти в руках, возникло новое и неожиданное затруднение. Присмотревшись к тому месту, откуда исходили звуки, я видел кабана, его контуры. Но стоило мне начать целиться, как от напряжения глаза начинали слезиться, контуры становились неясными, расплывчатыми, и у меня возникало сомнение — кабан ли это? Тогда я опускал ружье и, представьте себе, опять ясно видел животное.
Это продолжалось около часа.
Вдруг я услышал новые звуки. Какой-то зверь без всякой церемонии проломил изгородь и, производя массу шума, хозяйничал на поле то в одном, то в другом месте. Я вслушивался в эти звуки, и мне казалось, что дикое животное не может шуметь так нахально. «Не теленок ли это?» — соображал я, всматриваясь в пшеницу. Но, увы, мне ничего не было видно. К моей радости, неизвестный посетитель, топчась по полю, вскоре приблизился к первому кабану. Громкий визг прорезал тишину ночи, и мимо меня с быстротой зайца промчался годовалый поросенок. Это его ударил взрослый кабан, которому он, вероятно, мешал своим шумным, бесцеремонным поведением на пшеничном посеве.
Затих топот убежавшего поросенка, и мои мучения возобновились. Кабан был совсем близко, но я никак не мог в него выстрелить: стоило мне поднять ружье и начать целиться, как я терял его из виду. Стрелять же пулей наудачу я не хотел. Тогда я взял себя в руки и, хотя комары не давали мне ни минуты покоя, решил ждать рассвета. К счастью, недолга июньская ночь, и у меня хватило терпения.
Отдыхая после бессонной ночи у лесного объездчика в Соло-Тюбе, куда подвезли убитого мной кабана, я познакомился с одним из постоянных жителей острова Иринбет Петром Усковым. Мы сидели за вечерним чаем, когда он зашел по своим делам и разговорился со мной об охоте.
— А вы к нам загляните, — сказал он, узнав, что я занимаюсь изучением местной фауны. — Наши озера битком набиты всевозможными птицами. Охотников там почти не бывает, птиц никто не трогает, а кстати, если захотите, и на кабанов поохотиться можно.
— Охотно заглянул бы, — ответил я, — но как это сделать? Дороги я не знаю, а добраться до вашего острова, как я слышал, не так уж просто.
— Один, конечно, не доберетесь — пойдемте завтра со мной, выйдем утречком и к обеду будем на острове.
— А как же с продуктами? — возразил я. — Ведь мне надо купить самое необходимое — хлеба, махорки.
— Ничего не надо, — решительно заявил Петр, — все есть на месте — на полгода хватит.
Мне так хотелось посетить эти глухие озера, что я не стал спорить и на следующий день вместе с Петром пошел на остров.
Сначала мы пересекли густые тамарисковые камыши и около полудня добрались до протоки. Сняв обувь и проникнув в чащу прибрежного тростника, Петр извлек оттуда легкую плоскодонку, и мы, удобно разместившись в ней, совершили дальнейший путь водой.
Узкая протока быстро несла лодку вперед. По сторонам сплошной стеной поднимались высокие желтые заросли тростника. По их стеблям, перекликаясь звонкими голосами, перепархивали маленькие длиннохвостые птички — усатые синицы, иногда, издавая резкий крик, взлетала в воздух серая цапля, плескалась крупная рыба.
— Наверное, мой друг навес протаптывает, — сказал Петр, встав и всматриваясь в даль, когда протока вынесла нас на широкий плес озера.

И действительно: далеко впереди я увидел фигуру человека, черневшую сквозь поредевшую растительность.
— Это он меня ждет, — продолжал Петр. — Скучно ведь одному сидеть на острове — вот он и залез на крышу, чтобы осмотреться кругом.
В тот же момент человек, видимо заметив нас, спрыгнул с крыши, и несколько минут спустя над островом заклубился дымок от костра.
— Обед разогревает, — со смешком заявил мой спутник. — Одному и кусок в рот не лезет.
Нас встретил высокий парень с пестрой сворой собак. Собаки одновременно выражали радость, завидев хозяина, и недоверчиво косились на меня, незнакомого человека.
Остров Иринбет оказался интереснейшим местом для зоолога. Сколько здесь было всевозможной птицы! В течение дня, не предпринимая далеких экскурсий, вы могли наблюдать за жизнью водяных, болотных и иных пернатых и добывать на выбор тех, какие были для вас необходимы. Серые гуси, утки, водяные курочки — лысухи постоянно плавали по чистым плесам. Иногда из тростников появлялся лебедь и, сопровождаемый маленькими светло-серыми пуховичками, опасливо осмотревшись, вновь скрывался в зарослях. В жаркие часы дня на мелкие участки озера слетались большие черные бакланы и занимались своей шумной охотой. Образовав широкий полукруг, сотни энергичных и сильных птиц одновременно ныряли, чтобы с крупной рыбой в клювах появиться вновь на поверхности. В отличие от большинства других водяных птиц, после долгого пребывания в воде их перо намокает. Вот бакланы закончили свою общественную охоту, наелись до отказа и стали сушить свое намокшее оперение. Каждый из них стремился забраться повыше на спутанный зимними ветрами тростник, на торчащие из воды жерди. Широко раскрыв крылья, птицы медленно помахивали ими в воздухе, подставляя мокрое перо под горячие лучи солнца. Своеобразная просушка закончилась, и бакланы один за другим, разбежавшись по водяной поверхности, с трудом взлетали в воздух и направлялись к своим гнездовьям.
Но особенно много на Иринбете было пернатых хищников. Непосредственно к острову примыкали рыбные садки, где мои молодые хозяева сохраняли отловленных ими сазанов. Эти садки так своеобразны, что мне хочется о них рассказать. Садок представляет собой обширный, относительно мелкий участок озера. Он обнесен прочной, сплетенной из стеблей тростника изгородью. Сюда пускается вся полноценная рыба, выловленная многочисленными вершами и мордами. На естественных кормах, приносимых течением протоки, она содержится в течение лета и извлекается отсюда только с наступлением первых заморозков. В садках Иринбета рыбы было несметное количество. Иной раз, пользуясь укрепленными над водой легкими мостками, я проникал в глубину садка и видел огромных сазанов, сплошь покрывавших дно огороженного водного участка. Само собой разумеется, что при таком скоплении рыбы небольшая часть ее все-таки погибала. Уснувшие сазаны всплывали на поверхность. Эта падаль и привлекала сюда крупных хищных птиц — орланов-долгохвостов, подорликов, чаек. Они выполняли роль санитаров, избавляя моих хозяев от заботы чистить садки.
С раннего утра и до позднего вечера орланы дежурят поблизости. Они неподвижно сидят на кучах сваленного камыша, на возвышениях почвы и зорко следят за водной гладью. Но вот на поверхности появляется рыба. Она еще не погибла и медленно плавает вверх брюхом. И тогда несколько крупных птиц, тяжело взмахивая крыльями, поднимаются в воздух. Среди них происходят ожесточенные воздушные драки. Они наносят удары когтями, верещат, пытаются отогнать друг друга от добычи. Наконец одна из птиц выхватывает из воды погибающего сазана и, едва справляясь с тяжестью, тащит его на сухое место. Ее преследуют остальные, пытаются отнять добычу. Но орлан, усевшись на землю, зажимает рыбу своими могучими лапами и, раскрыв широкие крылья, начинает отрывать кусок за куском от своей жертвы. Остальные ждут, когда счастливец насытится, в надежде воспользоваться хотя бы остатками пира.
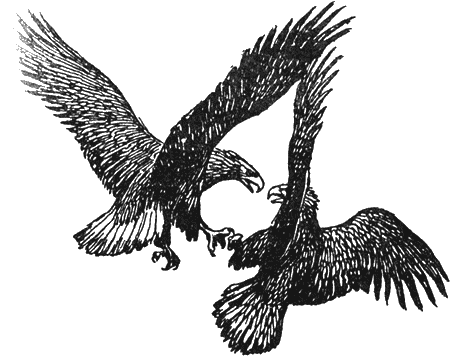
Не всегда борьба за обладание добычей кончается таким образом. Иной раз раздражение дерущихся птиц возрастает до крайности. Они вцепляются друг в друга когтями в воздухе и, потеряв способность держаться на крыльях, бесформенным комком падают на землю или в воду. Утерянная при драке добыча также летит вниз. Ею завладевает третья птица или подоспевшая одна из наших собак.
Подолгу оставаясь на острове и часами наблюдая за поведением пернатых, я невольно также был свидетелем жизни нашей собачьей своры. Надо сказать, что собаки, населявшие Иринбет, не были похожи друг на друга не только по своему внешнему виду, но и своим нравом. Многие из них представляли собой резко выраженные типы. Вот могучий желто-пегий пес Пиратка. Он заслужил всеобщее уважение у обитателей острова. Его не боятся другие собаки, отлично зная, что он не воспользуется своими преимуществами — силой и ловкостью, не ввяжется в драку, не обидит слабого.
С уважением к нему относятся и люди. Он в состоянии один остановить кабана-секача и во время охоты руководит всей сворой. Попробуйте на него замахнуться палкой. Пес ни на один шаг не отступит назад, не сморгнет глазом. И каждому станет ясно, что ударить собаку рискованно. Она не стерпит оскорбления и жестоко расправится со своим обидчиком.
Между красавцем Пираткой и другим псом, по кличке Черный, есть что-то общее. Черный также суров на вид, смел и честен. Но погладьте его, и вы поймете, что перед вами совсем другая, ласковая и добродушная собака. В отличие от Пиратки, его внешность самая неказистая. Его редкие зубы пожелтели, глаза тусклые, грубая шерсть на боках висит клочьями. Черному по меньшей мере лет пятнадцать. Однако, несмотря на старость, Черный — отличная охотничья собака. Он знает свое дело и во время охоты не уступит многим молодым псам своры.
И как же отличается от двух этих собак третья — по кличке Куцый! Он никогда не нападает на кабана открыто: схватит сзади и, как мяч, отлетит далеко в сторону, пытаясь укрыться от опасного зверя за своими товарищами, не любит рисковать своей жизнью. Я не хочу сказать этим, что Куцый — совсем плохая зверовая собака (таких собак здесь не держат), но он вор, пройдоха, задира и до смешного дорожит своей шкурой. Поднимите над ним руку, и он, взвизгнув, как бы от удара, отскочит в сторону. Зато при раздаче корма он всегда первый и завладевает лучшими кусками мяса. Хитрая, назойливая собака Куцый. Не обладая силой, он постоянно затевает драки, впутывая в них других собак своры, и выходит невредимым.
Когда наступает сезон охоты и собаки заняты делом, среди них ссоры наблюдаются сравнительно редко. И, напротив, длительное бездействие влияет на собак самым скверным образом и способствует возникновению драк, часто кончающихся ожесточенной, почти общей свалкой. Я попал ни Иринбет как раз в период праздного бездействия, и собачьи драки были частым явлением. Они возникали по самому разнообразному поводу, а иногда, как казалось, и без всякого повода. Собаки скучали и были постоянно раздражены вследствие наступившей жары и обилия слепней, не дававших им покоя.
Сегодня, например, остригли Мальчика. Это была не то русская овчарка черной масти, не то огромный пудель. И вот кудлатого пса остригли. Как будто на смех, ему оставили львиную гриву и кисть длинных волос на конце хвоста. Конечно, после этой операции собака чувствовала себя, так сказать, не в своей тарелке. Она вздрагивала от каждого прикосновения жалящих насекомых и не находила места, куда от них укрыться. А тут еще остальные собаки не то с сожалением, не то с иронией обнюхивали его обнаженную кожу. Как ни миролюбив был Мальчик, но сейчас его все раздражало. При приближении собак он злобно косился, глухо рычал и скалил зубы. Казалось, вот-вот вспыхнет ссора, драка. Но на этот раз все обошлось благополучно.
Мальчик забился под кучу камыша, другие собаки тоже попрятались, и все стихло.
Прошло около часа, вдруг мир и тишина были нарушены самым неожиданным образом. Больно укушенный клещом, Мальчик с визгом выскочил из своего убежища, в одно мгновение пересек широкий двор и со всего размаха влетел в стоявшую в стороне пустую печку. Оттуда вырвался столб мелкой золы, как будто беззвучно разорвалась бомба. Это послужило сигналом для других собак. Со всех сторон они кинулись к печке и злобно лаяли на скрывшегося Мальчика. В следующее мгновенье, с налитыми, кровью глазами, весь в золе, на сцене появился нарушитель покоя. С рычанием он сбил грудью Дружка и, стараясь вцепиться зубами в его горло, сам покатился на землю. На дерущихся кинулись прочие, и вскоре псы образовали живой клубок. Переворачивая все на своем пути, они с воплями и визгом катались по всему двору. Только Пиратка равнодушно стоял в стороне, как будто ничего не случилось, да старик Черный издали лаял на своих соплеменников. С большим трудом, обливая собак водой из ведер, нам удалось прекратить ожесточенную драку.

После обеда мы решили с Петром объехать выставленные вентеря и морды и вытрясти из них попавшуюся рыбу. Подойдя к лодке, я вторично за сегодняшний день обратил внимание на странное поведение двух наших собак: они сидели на берегу у самой воды, недоверчиво косились друг на друга и временами: скалили зубы. Ведь я их еще до обеда здесь видел.
— А, — с усмешкой ответил Петр, — это они солонину вымачивают. Соленое мясо есть не хочется, так вот они и ждут, когда куски в воде вымокнут.
Я не вполне поверил в объяснение Петра и приблизился к собакам. Видимо не доверяя мне, они немедленно извлекли из воды побелевшие куски мяса и побрели с ними в разные стороны. «Но ведь это не люди, а собаки, — думал я, — откуда у них такая сообразительность, кто научил их так делать?»
Несмотря на вздорные нравы отдельных собак острова Иринбет, на их непривлекательную внешность, вся свора в целом с каждым прожитым вместе днем нравилась мне все больше и больше. В полной мере ее рабочие качества я оценил несколькими днями позже.
— Что это за странный писк? — спросил я Петра, когда мы под вечер возвращались на лодке к дому. — Уже несколько раз слышу эти непонятные звуки.
— Тихо, — шепотом ответил Петр, прикладывая палец к губам. — Это табун свиней кормится. Молодой камыш они дергают — он и пищит. Не надо стадо спугивать. Уедем тихонько отсюда. Завтра устроим кабанью охоту, а то наша собачня от безделья совсем одурела.
Мы, стараясь не производить шума, отъехали от тростника и спустя полчаса пробитыми тропами достигли острова.
…Утро. Чуть брезжит рассвет. Он застает нас за сборами. Мы надеваем на ноги специальную обувь — поршни, выкроенные из сырой кабаньей кожи, осматриваем ружья, подбираем патроны. Собаки держатся тесной группой — ни драк среди них, ни раздражения, забыты раздоры. Каждый готов постоять друг за друга.
Сборы закончены. Мы вооружаемся длинными шестами, отчаливаем от берега и скользим по водной поверхности широкого плеса. Это служит сигналом для своры. Осторожно, без всплеска, в воду входят Пиратка, Черный, а за ними и остальные собаки.
Восток краснеет. Золотится спокойная гладь озера. Порой в воздухе свистят утиные крылья. Свора тесной гурьбой следует поодаль за ними. Видны только собачьи головы, так похожие в полумраке раннего утра на стаю плывущих уток. Вот и противоположный берег. Мы высаживаемся на твердую почву и, стараясь не производить лишнего шума, углубляемся в редкие камыши. Собаки разбредаются в разные стороны и постепенно исчезают из виду. К этому времени восток разгорается, с каждой минутой становится все светлей и светлей. Просыпается дневное пернатое население. Вот на высокую камышинку, четко вырисовывающуюся на посветлевшем небе, выпархивает темный силуэт маленькой птички. Под ее слабой тяжестью упругий стебель гнется, качается. Она издает короткое, но звонкое соловьиное щелканье и вновь ныряет вниз, в заросли. Освободившаяся от тяжести камышинка качается и постепенно принимает обычное положение. Эта голосистая птичка — широкохвостая камышовка. Не так часто удается видеть эту скрытную птицу днем.
В стороне, побеспокоенный собаками, вылетает фазан. Он тревожно вскрикивает, хлопает крыльями, поднимается по крутой линии над высокими камышами и затем, вытянув длинный хвост, спешит подальше убраться от беспокойного места. Вторя ему: «Кох, кох!» — отзываются другие фазаны в туманной дали раннего утра. Вот где-то завыла заблудившаяся молодая собака, затем виновато взвизгнула и замолчала. Это ее хватила за нарушение тишины и порядка более опытная и бывалая собака.
Не спеша, осторожно мы идем вперед к виднеющимся высоким желтым зарослям, чутко прислушиваемся к неясным шорохам и шелесту тростниковых стеблей. Сколько во всем этом нервного напряжения, своеобразной прелести, как много теряют в своей жизни те люди, кому не пришлось испытать подобных ощущений!
Но вот где-то далеко отрывисто взлаивает собака. Мы останавливаемся и ждем, что будет дальше. Лай не вполне надежный — в нем звучит неуверенность: не ошибка ли это? Но в этот момент собака взлаивает вторично — громче, азартнее. Еще мгновение, и присоединяется другой голос, затем третий. Собаки лают в одном и том же месте. Мимо нас стремительно проносится пестрый Шарик. В стороне мелькает наш знакомец Куцый. Все спешат к месту, где с азартом и ожесточением лают собаки. А лай усиливается, нарастает, к нему присоединяются все новые и новые голоса, то злобные и настойчивые, то с нотками страха. Порой одна из собак взвизгивает, лай обрывается, чтобы в следующую секунду закипеть с новой силой. По этим звукам нам становится ясно, что собаки остановили кабана-секача, и мы срываемся с места и, не чувствуя под собой ног, спешим им на помощь. Вот уже собаки совсем близко: то на одном месте, то бурно перемещаясь на новый участок, варом кипит ожесточенная свора.
Перед нами небольшая полянка, едва заросшая редкими низкими камышами и изрытая кабаньими копками. По сторонам сплошной стеной поднимается высокий желтый тростник. Резко выделяясь на общем фоне, в центре полянки стоит крупный кабан-секач. Его щетина на хребте поднялась дыбом, маленькие глазки налились кровью, челюсть скошена в сторону. Он смело отбивается от многочисленных врагов, то круто поворачиваясь на одном месте, то бросаясь вперед и пытаясь ударить собаку клыком. Но собаки пока не спешат, активному натиску еще не настало время. Сейчас, окружив зверя со всех сторон и раздражая его отдельными укусами и лаем, свора держит кабана на месте, заставляет его кидаться из стороны в сторону, выматывает из него силы.
Появление человека изменяет положение вещей. Кабан стремительно кидается в заросли, его по пятам преследует вся свора. Под напором живой лавины с треском валится стена тростника, бьются в воздухе отдельные опущенные верхушки стеблей. Не отставая, собаки с ожесточением ломятся вперед сквозь сплошную чащу и, пробившись наконец на ближайшую полянку, вновь окружают и держат на одном месте раздраженного зверя. Доведенный до бешенства, кабан с яростью кидается на своих врагов, но собаки как горох рассыпаются в стороны. В тот же момент находящиеся позади собаки хватают кабана за задние ноги, заставляя его повернуться в противоположном направлении.
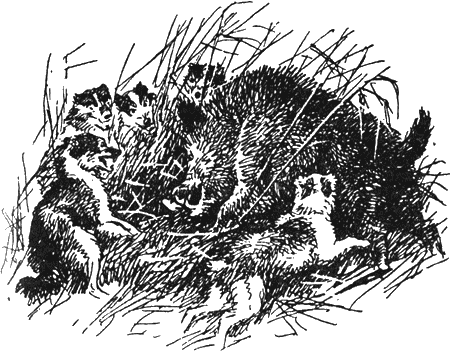
Почти одновременно гремят два выстрела. Подбодренная этим, вся стая в неудержимом порыве бросается вперед, всаживает свои клыки в тело врага, виснет на его ушах и наконец валит на землю. Это самый опасный момент. Сила смертельно раненного животного еще велика. Дорого продавая свою жизнь, он успевает нанести страшные удары своими клыками.
Охота закончена. Настает время подсчитать потери. На рваные поверхностные раны у собак мало обращают внимания. Их залижут сами собаки — все заживет на выносливой собачьей шкуре.
Но вот одна из молодых собак, качаясь из стороны в сторону, делает несколько шагов и, обессилев, ложится на бок. Высунув язык и раскрыв пасть, она дышит быстро-быстро. На груди у нее маленькая, но, вероятно, глубокая ранка. Из нее, едва просачиваясь сквозь густую шерсть, течет тоненькая струйка крови. Проходит короткий промежуток времени, и собака становится неподвижной. Оскаленные зубы, стеклянные глаза заставляют сторониться других членов своры.
Так, то в бездействии, то в опасной охоте, протекает жизнь собак острова Иринбет. Время от времени смерть вырывает из собачьей стаи тех ее членов, которые не обладают силой, быстрой сообразительностью и ловкостью. Эти качества многим собакам обеспечивают долгое существование. Вот и становится понятным, почему все собаки относятся с уважением к нашему знакомцу Черному: ведь не случайно при его отчаянной смелости он сумел дожить до глубокой старости.
— Ветер будет, — сказал как-то вечером мой хозяин, всматриваясь в багровый закат солнца, над которым узкой темной полоской нависли тучи.
На Сырдарье погода портится в летнее время очень редко, и на слова Петра никто не обратил серьезного внимания. Горизонт погас, и кратковременные сумерки сменились ночью. Под редкими порывами ветра предупреждающе зашуршали сухой листвой тростниковые заросли. Где-то далеко поблескивала молния. «Будет гроза, освежающий дождь», — мечтал я, засыпая в своей палатке.
Глубокой ночью все мы проснулись одновременно и, как по команде, выбрались наружу — да в палатках и невозможно было оставаться. С невероятной силой завывал ветер. Под его натиском с треском ломались камышовые заросли. Проливной дождь лил в лицо. Поминутно темноту прорезали молнии, сопровождаемые грохотом.
Но не это поразило нас.
К обычным звукам сильной ночной грозы примешивались иные могучие звуки. Они были настолько сильны и неожиданны, что могли поразить даже привычного человека. На острове творилось что-то непонятное. Из конца в конец его перекатывалась какая-то клокочущая, воющая живая лавина. Она переворачивала все на своем пути. Озверелый разноголосый лай собак, рычание, визг, топот, треск ломающегося тростника, звон какой-то падающей жестяной посуды — все это смешивалось со свистом ветра, громовыми ударами, шумом воды и превращалось в сплошной дикий хаос. В чем дело, что случилось? На всякий случай в темноте я кинулся к навесу — там висело мое ружье. Но не успел я сделать и десятка шагов, как был сбит с ног собаками. Вскочив, я снова побежал дальше. В этот момент, прорезав темноту, грянул один, второй выстрел, затем еще два. Это стреляли, чтобы подбодрить собак. В ответ на выстрелы лай, визг, отчаянная грызня усилились — собаки с ожесточением рвали неизвестного врага. Еще несколько секунд — и вся клокочущая лавина переместилась в камыши, которые трещали под натиском животных.
— Ату его, ату! — кричал Петр, стреляя в воздух еще и еще.
На смену бурной ночи пришло чудное утро — ни облачка на голубом небе, ни ветерка. Конечно, в эту ночь мы не ложились спать и в промокшей одежде с нетерпением ждали солнца. Но во что превратился наш лагерь, где всегда поддерживался образцовый порядок! Сорванные и истоптанные палатки валялись в грязи, развешенные для просушки вентеря и сети порваны и разметаны по всему острову, камышовая крыша ледника провалена во многих местах, посуда валялась где попало. Что же случилось ночью, что произошло? Да, в общем, ничего страшного, и сейчас, когда природа безмятежно улыбалась, ночное происшествие поблекло и воспоминание о нем не вызывало ничего, кроме смеха. В ночную грозу целый табун диких кабанов случайно проник на остров и подвергся ожесточенному нападению со стороны наших собак. Все кончилось более или менее благополучно. Собаки зализывали полученные раны, люди приводили в порядок хозяйство острова.

Только полудикий иринбетский кот до полудня не решался спуститься с трубы на землю и с недоверием смотрел оттуда своими неподвижными зелеными глазами.
Глава четвертая
ДИКОЕ ПЯТНЫШКО
Дикое Пятнышко — имя котенка дикой длиннохвостой кошки. Он жил у меня во время одной из моих летних поездок в Среднюю Азию. Рассказывая об этом котенке, я хочу показать, насколько чутки и осторожны дикие кошки даже в самом раннем возрасте. Котенок попал мне в руки при не совсем обычных обстоятельствах.
Несколько позднее я познакомлю читателей с летними паводками в дельте Волги, расскажу, какие бедствия они приносят многим животным. Еще более страшны резкие подъемы воды на многоводной реке Средней Азии Сырдарье. Два раза в году, в самом начале апреля и в июне, Сырдарья теряет свой обычный облик и грозит всему живому своими мутными водами. Весенний паводок связан с более поздним освобождением реки от ледяного покрова в низовьях, второй — летний — с таянием снегов в высоких горах Тянь-Шаня.
Быстро прибывает вода в июне, наполняет высохшие котловины озер, далеко в глубь страны проникает по глубоким арыкам. И такое обводнение веселит сердце, радует все живое. Ведь в Средней Азии вода — это сама жизнь. Только крепко и умело нужно ее держать в руках, не допускать никакой оплошности. А иначе — беда. Как закусивший удила необъезженный жеребец, ринется вода вперед и натворит бедствий. Но как ни следит человек за беспокойной рекой, как ни пытается удержать ее в повиновении, иной раз прорвет вода заградительную земляную плотину — бугут — и вырвется на свободу. Стремительно хлынет она в сторону и затопит в самое короткое время обширную низменную территорию. И тогда в бесчисленном количестве погибнут фазаньи и утиные гнезда, покинут норки и заберутся на кусты грызуны, бегством пытаются спастись более крупные животные.
Страшное это время для многих птиц и четвероногих обитателей речной долины.
В то памятное июньское утро я поднялся с постели незадолго до восхода солнца и после легкого завтрака, захватив приготовленный с вечера рюкзак и перекинув за плечи ружье, направился к югу по железнодорожной насыпи. Мне нужно было обследовать глухой уголок тугайных зарослей, расположенных в шести километрах от станции Кара-Узяк.
Несколько дней тому назад, возвращаясь с озера Джаманкуль, где я провел целый день, и пробираясь сквозь тугайную поросль с железнодорожной линии, я неожиданно увидел маленькую птичку. Присутствие ее здесь меня положительно озадачило. До этого времени я встречал на Сырдарье буланых вьюрков только в зимнее и ранневесеннее время. В марте, вечерами, птички собирались крупными стаями и, усевшись на еще голые ветви деревьев лоха, распевали свои бесконечные скрипучие песенки. Но буланый вьюрок в июне, в разгар гнездового периода, не вязался с моим представлением о нем. Кроме того, я отлично знал, что эти птички в изобилии гнездятся в Ашхабаде, в Ташкенте, в населенных пунктах Ферганской долины, но на нижней Сырдарье, в тугаях среди пустыни — мне казалось это невероятным.

Я решил выяснить, гнездились ли здесь вьюрки или это были холостые птицы, случайно оставшиеся в тугаях на лето после зимовки. Добросовестно потоптавшись по тугаям, я наконец увидел вьюрка-самца. Сначала он распевал на сухой вершине лоха, потом поймал какое-то насекомое и исчез, улетев с ним в густые колючие заросли.
Взрослые вьюрки обычно питаются семенами растений и молодыми побегами, но птенцов вскармливают насекомыми. Поведение буланого вьюрка доказывало близость птенчиков.
Найти маленькое гнездо птички, искусно запрятанное где-то среди непролазного колючего лоха, — задача нелегкая. Выслеживая, куда перелетает вьюрок с пищей во рту, я, видимо, приближался к гнезду все ближе и ближе, но потратил на это массу времени. Высоко уже поднялось солнце, жгло мою кожу, а я то спешно перебегал короткое расстояние, то сидел, терпеливо ожидая, когда вьюрок вновь появится в поле моего зрения.
Не правда ли, тоска смертная? Но не забывайте, что я орнитолог; выяснение и этой мелочи в распространении буланого вьюрка было для меня интересно.
Увлекшись вьюрком, я сразу ничего не заметил. А кругом меня творилось что-то неладное. Сначала мимо меня быстро пробежал заяц-толай. Он вскоре вернулся, беспокойно шевеля ушами, посидел на открытом месте и убежал вновь уже в другом направлении. Где-то сзади взлетел фазан и, порывисто взмахивая крыльями, пролетел над самой моей головой. Вдруг мутная струйка воды, извиваясь, достигла моих ног и затопила глубокую трещину в почве. Оттуда немедленно выскочил крупный мохнатый паук и полез вверх по стволу дерева. А струйка побежала дальше, потом повернула влево и исчезла за ближайшими кустами. Две минуты спустя я обнаружил, что нахожусь на совсем маленьком островке. Вокруг меня была мелкая вода. Она двигалась, поднимала сухие травинки, древесную кору, издавала неясное журчание.
С некоторым удивлением, но без всякой тревоги я пошел по воде к краю тугайных зарослей, чтобы взглянуть, что творится кругом на открытой площади. Удивление мое возросло. Весь тугай был затоплен водой, она струилась сквозь густую поросль, ее уровень быстро поднимался. В следующую секунду, окинув взглядом обширную низкую площадь, поросшую тамарисковыми зарослями, я все понял и замер на месте: где-то прорвало плотину!
Кругом было полное безветрие, но впереди раскачивались верхушки кустарников, и оттуда доносился какой-то неясный шум. Над кустами с криком носились черные вороны и болотные луни. Они то и дело бросались вниз и схватывали с кустов какие-то живые комочки с длинными хвостами. Это, конечно, были грызуны-песчанки. Они выскочили из своих затопленных норок и, спасаясь от воды, влезли на ветви кустиков.

Я не стал смотреть на гибель песчанок, забыл также о буланом вьюрке и, не хуже кабана ломая колючие заросли, стал продираться сквозь тугай туда, где, по моим расчетам, должна была, самое большее в полукилометре, проходить железнодорожная насыпь.
Когда я наконец весь в ссадинах и в изорванной одежде выбрался из тугаев, вода поднялась уже выше моих колен и мешала быстрому движению. К счастью, железнодорожная насыпь была недалеко. Две минуты спустя я уже по пояс в воде двигался к сухой почве, радуясь, что расстояние быстро сокращается, насыпь все ближе и ближе, и вдруг остановился.
Влево от меня над водой возвышался небольшой, поросший травой барханчик. Оттуда доносилось истерическое мяуканье котенка. Еще раз я окинул отделявшую меня от насыпи воду, потом перевел взгляд на барханчик и круто изменил направление.
До сих пор не могу понять — защищался котенок или, напуганный водой, он видел во мне единственное спасение: едва я схватил его и попытался сунуть за пазуху, он всеми четырьмя лапами крепко вцепился в мою куртку.
Когда я подходил к насыпи, вода достигла моей груди. Забыв о существовании вдоль линии глубокой канавы, я окунулся с головой и, испытав таким образом все удовольствия, выбрался наконец на твердую почву.
— Какая прелесть! Смотрите, он весь помещается на моей ладони, а глазищи какие, а усы, — восхищались котенком, когда его шкурка просохла и я показал его семье начальника станции. — А какой цвет замечательный — он весь в пятнышках. Ведь таких пятнышек не бывает у домашних кошек. Они какие-то необыкновенные, глубокие, ну, как тут выразиться — словом, дикие пятнышки.
Невыносимая июньская жара загнала нас с приятелем в не совсем обычное место. «Ночуйте под резервуаром, — как-то сказал нам начальник станции, — там прохладно». Вот идея — как это раньше мы до этого не додумались!
Представьте же себе высокую водонапорную башню, сложенную из красного кирпича. Вы, наверное, не раз видели такие башни на железнодорожных станциях. Башня состоит из трех этажей, соединенных между собой железной винтовой лестницей. Наверху, под самой крышей, помещается огромный резервуар с водой. Вокруг него идет светлый коридор, освещенный большими окнами. Прямо под бассейном расположено другое, полутемное, помещение с двумя маленькими слуховыми окнами. Спуститесь отсюда вниз в первый этаж, и вы попадете в машинное отделение. В среднем полутемном помещении и устроились мы с приятелем. Ночью здесь было спасение от духоты, днем — от ослепительно яркого света, от горячего солнца.
— Когда же наконец приемщик с вагоном приедет? — возмущался я. — Ведь всю эту ораву скоро кормить нечем будет, июль на носу, а им и дела нет!
В том году, используя летние каникулы, мы, студенты, жаждущие пожить среди природы, забрались в глухой уголок Средней Азии и собрали крупную партию живых животных. Они предназначались для Аскании-Нова и зоопарка Москвы.
Сколько труда вложено, а в Москве и Аскании-Нова совсем не торопятся. Не могут понять, наверное, что для корма птиц не хватает рыбы — ведь один рыбак на всю станцию, а издалека не привезешь в такую жару. А тут еще подросшие каравайки и колпики не давали нам ни минуты покоя.
Просторный загон, снабженный мелким бассейном и обнесенный высокой камышовой изгородью, стал непригоден для содержания наших питомцев, как только они научились летать. Кто же мог подумать, что нам придется так долго сидеть в Средней Азии! Мы затянули сверху загон рыболовной сетью. Но она была старая и настолько изодранная, что наши питомцы легко вылетали наружу. Правда, ни одна птица не улетела совсем, но, вылетая ранним утром из помещения, они доставляли массу хлопот и не давали нам нормально выспаться.
Два местных поезда ежедневно останавливались на нашей маленькой станции. Как они отличались один от другого! Около полудня приходил поезд с юга. Из раскаленных вагонов с шумом высыпали на платформу пассажиры. Они спешили к водопроводному крану, обливались водой, покупали жареных сазанов. Два звонка, шумная посадка, свист и шипение паровоза, и вновь все стихало.
Чуть брезжил ранний летний рассвет, когда к станции подходил поезд с севера. Но какая поразительная тишина. Не слышно суеты, голоса человека. Пассажиры и жители станции, наслаждаясь прохладой, спят крепким утренним сном. Вот два звонка, свист паровоза, поезд двигается с места, и стихает шум уходящих вагонов. Проводив поезд, мимо нашей башни не спеша проходит дежурный по станции. В тишине утра под его подошвами громко скрипит песок.
— Евгений Павлович, Сергей Павлович, — на всю станцию кричит дежурный, — колпики улетели!
Как встрепанные, по этому сигналу вскакивали мы с постелей и спешили наружу. И, за редким исключением, это повторялось изо дня в день в течение почти целого месяца. Если бы знал читатель, как раздражал меня в то время крик дежурного и с каким удовольствием мы иной раз вспоминаем его теперь, болтая с товарищем о нашем прошлом.
В одно раннее утро не то по привычке я сам проснулся, не то меня разбудил шум подходящего поезда. Повернуться на другой бок и продолжать прерванный утренний сон было единственным моим желанием. «Но, наверное, опять колпики улетели, — мелькнуло с моем сознании. — Уж лучше я подожду отхода поезда».
— Товарищ дежурный! Тут у вас на станции живут москвичи? — сквозь непреодолимую дремоту услышал я как будто знакомый голос. «Кто-то приехал к нам», — подумал я, но без привычного оклика дежурного так и не смог оторвать от подушки голову.
— Сергей Павлович, Евгений Павлович, — уже после ухода поезда услышал я голос дежурного и вскочил на ноги. — Вам записка на этот раз, — закончил он свою фразу.
Я поспешно оделся, сбежал вниз и открыл наружную дверь.
«Передаю вам котенка. А. Желоховцев», — прочел я на клочке бумаги.
— А котенок? — вопросительно взглянул я на дежурного.
— Царапается, сами берите, — подставил тот карман своей форменной куртки.
— Ну вот и хорошо, — пять минут спустя беседовали мы с приятелем. — Тебе одного и мне одного. Но посмотри, как похожи котята, как близнецы. Вот уж какого ни возьми — никому обидно не будет.
Подарок Анатолия Николаевича, работавшего на саранче московского энтомолога, пришелся нам весьма кстати. Каждый из нас мечтал увезти котенка в Москву, но как нам было поделить одного зверька?
Мы поместили котят в самый верхний этаж, где они могли бегать вокруг резервуара по освещенному дневным светом или луной широкому коридору.

Чтобы котята не одичали, мы посещали их при всяком удобном случае, несколько раз в течение длинного летнего дня.
Однажды мне пришлось одному остаться с животными. Мой приятель ранним утром уехал к рыбакам, жившим на берегу крупного озера, и обещал возвратиться домой, как только рыбаки наловят для наших питомцев достаточное количество рыбы. С утра я обошел всех наших животных, размещенных в загонах и примитивных вольерах, разбросанных поблизости от станционных построек.
Накормив рыбой крикливых бакланов, затем караваек, колпиков и пеликанов, я выпустил из сарая целую стаю птенцов серого гуся и наконец, закончив кормежку, возвратился в водонапорную башню. Мне оставалось накормить только наших котят; им я принес молока и мяса. К своему большому удивлению, я не нашел котят на обычном месте.
В отведенном для них помещении мы поставили небольшой ящик, выстланный вялой травой и метелками тростника. Пугливые зверьки охотно проводили в нем время. Но сейчас в ящике котят не было. Поставив на окно молоко и мясо, я с тревогой быстро обошел вокруг резервуара, но и там было пусто. Не веря своим глазам, еще несколько раз я повторил обход кругом резервуара и, наконец осознав, что котят нет здесь, что они куда-то ушли, приступил к осмотру окон, пола, стен. Однако все было по-старому. Я руками ощупал оконные стекла — они оказались на месте. Нужно ли осматривать пол, стены? Они были крепки, так что через них нельзя проникнуть и совсем маленькому животному — не только котенку. Неужели котята взобрались по гладкой стене и попали в резервуар с водой?
Совершенно невероятно! Но я все же поспешно спустился вниз в машинное отделение, принес оттуда длинную деревянную лестницу и, подставив ее к резервуару, взобрался до его верхнего края. На дне его сквозь прозрачную воду я увидел выпавшего из гнезда и утонувшего воробьенка, на поверхности, раскрыв крылья, плавала мертвая летучая мышь, но котят и здесь не было.
«Наверное, без меня в башню приходил водокачник, — мелькнуло у меня в голове. — Ведь у него есть ключ от входной двери». И я отправился к водокачке, стоявшей на берегу Кара-Узяка, в полукилометре от станции. Но водокачник, по его словам, уже три дня не был на станции и понятия не имел, куда могли запропаститься наши котята.
В связи с исчезновением котят весь день пошел у меня кувырком, пропал даром. Я с нетерпением ожидал возвращения с озера моего приятеля. Наконец он вернулся.
— Сергей, ты утром куда-нибудь котят пересаживал? — спросил я его вместо приветствия.
— Нет, конечно, — ответил тот. — Чего ради я буду их пересаживать?
— Ну, значит, все — с утра котята исчезли. Наверное, кто-нибудь открыл дверь от верхнего этажа, и они удрали. — И я подробно рассказал обо всех своих поисках и догадках.
Если удрали, то, значит, надо искать внизу, в машинном отделении. Там есть где спрятаться. Ложась спать в этот вечер, мы решили утром обыскать все помещения башни.
Настало утро. Поднявшись в помещение, где до побега у нас жили котята, мы в первую очередь осмотрели ящик. Как и вчера, он оказался пустым. Отсюда, огибая резервуар, мы разошлись в разные стороны. Как же было велико мое удивление и радость, когда, сойдясь с приятелем на противоположной стороне круглого коридора, мы одновременно увидели наших питомцев. Оба котенка были целы и невредимы.
Все объяснилось чрезвычайно просто. Когда я один шел по круглому коридору, чуткие котята уходили от меня по кругу, скрываясь за резервуаром. Поэтому мы никак не могли встретиться. Один из этих котят жил в моей квартире в Москве на правах домашней кошки.
Глава пятая
ИТ-АЛА-КАЗ
На юге нашей страны обитает своеобразная птица, называемая красной уткой. В отличие от других, настоящих уток, она держится в степных и пустынных местностях, где вода встречается редко. Небольшого соленого озерка или высохшего русла реки с редкими ямами, наполненными горько-соленой водой, бывает достаточно для ее благополучного существования. Движешься, бывало, маленьким караваном по пустыне и вдруг видишь впереди пару таких уток. С характерным криком они поднимутся с сухого места и, низко пролетев над вами, усядутся на куполообразную крышу древнего глиняного здания — казахского памятника. И у каждого человека, впервые увидевшего эту птицу в природе, возникает обычный вопрос: где же гнездится красная утка, когда на всем протяжении до самого горизонта нет ни густых кустарников, ни высокой травы, ни камыша?

Красная утка, оказывается, не нуждается в такой обстановке. Свои гнезда она устраивает в глубоких трещинах, образовавшихся в стенках памятников, в дымоходах зимних казахских жилищ, в ямах и очень часто в покинутых норах лисиц и степных кошек. Нередки и такие случаи, когда для устройства гнезда утка использует один из отнорков обитаемой лисьей норы. Как уживается утка в таком близком соседстве со своим заклятым врагом, хищной лисицей, даже для зоологов еще не вполне ясно.
Во время нашего путешествия по пустыне Кызылкум после долгих безуспешных поисков я наконец нашел гнездо красной утки. На этот раз оно помещалось в старой казахской могиле, которая представляла собой яму, прикрытую сверху толстыми ветвями и хворостом, и над которой возвышался небольшой холмик. В таких своеобразных могилах вскоре образуются провалы. В них часто проникают змеи, а также пернатые и четвероногие обитатели казахстанских степей. В старых казахских могилах мне приходилось находить степных кошек, барсуков, лисиц, а из птиц — домового сычика и крупную сову — филина. Но особенно часто устраивает свои гнезда в могилах красная утка.
Когда я заметил, как в провале одной из могил кладбища скрылась самка утки, мне стало ясно, что она там гнездится. Осветив могилу внутри факелом, наскоро сделанным из сухой травы, я увидел сидящую на гнезде птицу. Рядом с черепом давно умершего человека она насиживала свои яйца. Потревоженная ярким пламенем, она издала громкое шипение, напоминающее шипение крупной змеи. Не эти ли шипящие звуки, столь похожие на угрожающее шипение змей, в темноте пугают лисиц и диких кошек и позволяют уткам благополучно выводить свое потомство?
Наш проводник — казах Махаш — во время совместного путешествия считал своей обязанностью знакомить меня с казахскими названиями животных и растений, которые попадались нам по пути в пустыне.
— Ак-баур-бульдурук пить пошел, — говорил он как бы между прочим, указывая на стайку пустынных птиц — белобрюхих рябков, с громкими гортанными криками летевших над степью. — Таспатара (черепашье просо), — называл он, протягивая мне кустик сорванного растения. — Таспакан (черепаха) больно кушать любит. — На этот раз Махаш также не забыл взятых им на себя добровольных обязанностей. Рукояткой нагайки он указал мне на утку и сказал ее название.
«Но что за странное название птицы? — промелькнуло у меня в голове. — „Ит-ала-каз“ — ведь это в буквальном переводе на русский язык значит „собака — пестрый гусь“. С чем может быть связано такое название?» Однако Махаш был занят верблюдами, которые еще не успели освоиться с нашей тяжелой поклажей, состоящей из бочек с водой и вьючных ящиков, наполненных снаряжением, столь необходимым при путешествии по пескам пустыни. Я сдержал любопытство и отложил расспросы о поразившем меня названии красной утки до более удобного случая.
Вечером этого дня мы остановились на ночлег в широкой котловине, поросшей саксауловым лесом. Это своеобразное дерево с корявым, твердым, но ломким стволом пускает свои длинные корни глубоко в почву, извлекая оттуда скудную влагу. Благодаря длинным корням саксаул может жить в пустыне, где не в состоянии существовать многие другие деревья.
Своеобразная и дикая природа окружала нас. Высокие песчаные холмы выделялись на горизонте, а близ самой нашей стоянки на ровной глинистой почве, потрескавшейся от солнца, разросся крупный саксауловый лес. Изогнутые деревца с блестящими стволами поднимались поодаль один от другого. Их редкие причудливые ветви, едва прикрытые белесой зеленью, почти не давали тени.
Когда солнце опустилось совсем низко, освещая только вершины высоко взметенных песков, а котловина погрузилась в вечерний сумрак, мы, покончив с ужином, предались отдыху. Растянувшись на широкой кошме у костра, мы наслаждались прохладой, вслушиваясь, как одна за другой затихали поздние песни жаворонков, а им на смену рождались все новые и новые звуки. Над степью поднимался монотонный гомон бесчисленных ночных насекомых, где-то кричала ночная птица. Как бывают дороги такие минуты после целого дня движения под палящими лучами солнца! Спать еще не хотелось, и, воспользовавшись удобным случаем, я попросил Махаша объяснить мне, почему он так странно назвал мне сегодня красную утку. После короткого молчания Махаш рассказал нам легенду, которая издавна существовала у казахского народа об этой птице.
По словам Махаша, это произошло так давно, что никто точно не знает, когда именно. Махаш слышал этот рассказ от отца в своем детстве, а отцу рассказал его дед. В то далекое время так же широко простирались необъятные казахстанские степи, рос саксаул, ранней весной зеленели травы да по степи бродили стада баранов, табуны лошадей. Порой с монотонным звоном колокольцев пустыню пересекали караваны верблюдов. На своих высоких горбах они несли товары в Бухару и Хиву.
Тогда по степным просторам кочевали казахи, их юрты, то просторные и нарядные, то прикрытые потемневшей от дыма кошмой, стояли у степных колодцев. Жили в них богатые и бедные люди. Уже в то время среди скотоводов-кочевников существовало поверье, что редко-редко, быть может один раз за несколько сотен лет, в одном из яиц красной утки зарождается не утенок, как в прочих яйцах, а казахская борзая собака — тазы. Найти такое гнездо считалось большим счастьем, а это счастье, по мнению кочевников, давалось далеко не каждому человеку. И вот жил тогда со своей семьей один бедный казах. Зимой и летом с раннего утра до поздней ночи он пас в степи баранов, то изнемогая под горячими лучами солнца, то ежась от холодного осеннего ветра. Однообразно протекала его жизнь. Но однажды летом волк ворвался в его стадо и утащил одного из лучших баранов. Оставив своего сына сторожить отару, пастух оседлал лошадь и поехал выследить волчье логово. Его безуспешные поиски продолжались весь день до вечера. Зашло солнце, и тогда он, стреножив свою лошадь и пустив ее пастись, лег у подножия песчаного бугра, укрылся халатом и крепко уснул.

Ранним утром, когда еще степь была окутана в предрассветные сумерки и по песку бесшумно скакали земляные зайцы, его разбудил голос какой-то птицы. Открыв глаза, он увидел двух красных уток. Они низко летали над ним и громкими криками выражали свое беспокойство. Рядом с тем местом, где он провел ночь, помещалась разрушенная нора лисицы, а в той норе — гнездо утки. Близкое присутствие человека и беспокоило красных уток. Пастух заглянул в темное отверстие норы, да так и отшатнулся назад. Там, в гнезде, среди только что вылупившихся из яиц утят, покрытых пухом, лежал совсем маленький светло-желтый щенок. Осторожно он вынул из гнезда утки собаку, завернул ее в платок и, наскоро оседлав лошадь, поскакал со своей чудесной находкой к родному аулу. Семья пастуха окружила щенка заботой и любовью, делилась с ним последним куском мяса, поила теплым молоком, согревала теплом очага в своей юрте. В неге и холе быстро росла собака и вскоре из неуклюжего толстого щенка превратилась в прекрасную быстроногую тазы.
И вот с этого времени в юрту пастуха рекой потекло счастье. Что бы он ни делал, за что бы ни брался, всюду его ждала удача. В свободное время пастух все чаще выезжал на охоту в степь со своей собакой и наслаждался быстротой и неутомимостью своей помощницы. Быстрее ветра носилась собака по степным просторам, и от нее не могли уйти ни быстроногая антилопа — джейран, ни песчаный заяц, ни хитрая лисица. Даже дрофа-красотка, обладающая быстрым бегом и крыльями, не успевала подняться в воздух, а попадала в пасть быстроногой собаки. Из лисьих шкур жена пастуха шила шапки, обменивая их на баранов и красивую одежду, а мясо пойманных антилоп и зайцев обменивала у соседей на молоко, сыр и масло. И стало им жить сытно и весело, с каждым днем все лучше и лучше, а с благополучием появилось много друзей.

В праздники к пастуху нередко съезжались гости, чтобы потешить себя веселой охотой, показать другим свою удаль и умение справляться с полудикой лошадью. Одни из них приводили лучших борзых собак — тазы, другие привозили на кожаной перчатке крупных орлов — беркутов, полосатых ястребов. Своих ловчих птиц они натравливали на степную дичь. И тогда над степью разносилось гиканье лихих наездников, столбом поднималась пыль из-под копыт степных скакунов, порой слышался предсмертный крик затравленного зверя. Но наш пастух, обладатель великолепной борзой собаки, не участвовал в этих веселых забавах. Он лишь выполнял роль гостеприимного хозяина-хлебосола и веселого собеседника, но ни разу не похвастался своей собакой, ее быстрым бегом и ловкостью на охоте. Он был глубоко уверен, что бахвальство и излишняя гордость не приносят счастья.
И так шли годы. Пастух продолжал жить в довольстве и благополучии, которое длилось бы до конца его дней. Но не выдержал он и однажды в охотничий праздник вывел свою красавицу собаку и принял участие в веселой забаве. Быстрее ветра носилась его тазы по степным просторам за зверем, далеко позади оставляя лучших собак знаменитых охотников. Все восхищались ею, предлагали за нее небывалые цены, завидовали ее обладателю. Гордостью наполнилось сердце пастуха, а голова его кружилась от счастья. Но это продолжалось недолго.
Кончился день, прошла ночь, а новый день принес семье пастуха несчастье: заболела собака. Она отказывалась от пищи и неподвижно лежала на кошме в юрте хозяина. Прошло еще несколько дней, а быстроногая тазы лежала на том же месте, не пила, не ела и похудела настолько, что от нее остались одни кости и кожа. В одну темную осеннюю ночь, когда над степью свистел и завывал ветер, она с трудом поднялась с кошмы, лизнула языком лицо своего хозяина и вышла наружу. С того момента она исчезла из жизни пастуха-охотника. Он горевал, но ничем не мог помочь своему горю.
Пришла суровая, снежная зима и принесла новые беды. Много домашних животных погибло от зимней бескормицы — джута, и их трупы лежали в степи, напоминая о недавнем бедствии. Совсем разорился и наш пастух, вновь став таким же бедным, как в далекие прежние годы. Но тогда он был еще молод и мог надеяться на лучшее, а сейчас все для него осталось в прошлом.
Когда Махаш закончил свой рассказ, была уже темная ночь. Костер догорал, пахло горькой полынью, да порой степной ветер едва покачивал высокие стебли пожелтевших весенних трав.
Я забрался в палатку, лег на кошму, но долго не мог уснуть. Меня занимала мысль, что у каждого народа есть свои поверья. Вследствие их одни животные, как, например, сычик, будучи полезными, подвергаются гонению со стороны человека, другие, напротив, находятся под его покровительством. Белый аист строит гнезда на крышах жилых построек, его охраняют. Этим он будто бы приносит счастье хозяину. Но ведь его польза значительно меньше пользы домового сычика, уничтожающего огромное количество грызунов-вредителей. В Казахстане высоко ценят желчь лебедя. Из нее изготовляют «целебные средства», будто бы помогающие от всех болезней. Однако казах-охотник не решится застрелить лебедя. По его понятиям, это может навлечь несчастье. По тем же причинам не трогают здесь и красную утку, и, пользуясь этим, она благополучно живет близ аулов и мало боится человека.
Глава шестая
ЗООЛОГИЧЕСКИЕ ПРОМАХИ
В этот вечер я один остался в лагере. Мой приятель Сергей, закинув за спину большой рюкзак и вооружившись лопаткой, отправился расставлять капканы на грызунов, а проводник Махаш сел на верблюда и поехал в ближайшие саксаульники, чтобы привезти дров на ночь. Не спеша я поставил палатку, приготовил все для ужина и ночлега, а когда хозяйственные дела были закончены, растянулся на прогретом солнцем песке и предался отдыху. Хорошо бывает вечером в пустыне! За день так устаешь от горячего солнца, от ослепительного света, что как-то особенно ценишь эти минуты. Огненный шар на ваших глазах скрывается за горизонтом, и земля погружается в ранние сумерки с их своеобразной жизнью, едва уловимыми шорохами, запахом. Но на этот раз мне не пришлось воспользоваться минутой отдыха.
Только я улегся, как под меня шмыгнуло какое-то маленькое животное. Сумерки и быстрое движение не дали мне возможности рассмотреть, что это такое. Вдруг это ядовитая змея — щитомордник? Я моментально вскочил на ноги. Животное, нарушившее мой отдых, оказалось своеобразной ящерицей, какой я еще никогда не видел. Сравнительно небольших размеров, толстая и короткая, на высоких слабых ножках, она поразила меня формой своего тела, несоразмерно большими головой и глазами и яркой окраской. Я отлична знаю, что у нас не водятся ядовитые ящерицы, но та, с которой я столкнулся, была так мало похожа на обычных ящериц, что я не решался схватить ее голыми руками. Наскоро обмотав платком руку и схватив странное четвероногое, я посадил его в маленький мешочек.

«Что бы это могло быть?» — ломал я голову. Я плохо знал змей и ящериц — это не моя специальность, но все же я должен был слышать о столь странном животном. Желание отдохнуть как рукой сняло. Я с большим нетерпением ожидал возвращения моего приятеля, чтобы поделиться с ним своим недоумением.
— Знаешь, Сергей, я поймал какую-то странную ящерицу, — встретил я такими словами приятеля, как только он появился в лагере. — Наверное, это новый, еще не описанный вид.
Он с сомнением покачал головой:
— В наше время новый, неописанный вид найти крайне трудно — все уже давно описано.
— Да ты не забывай, Сергей, что мы находимся не в средней полосе, истоптанной вдоль и поперек учеными. Здесь, в глубине пустыни, самые неожиданные вещи найти можно.
Но приятель с сомнением относился к моим уверениям, и это меня раздражало.
— Так, значит, я поймал самую обычную ящерицу и она мне только показалась особенной? Обычную ящерицу ты, конечно, знаешь и объяснишь мне, что это такое. — С этими словами я достал мешочек, осторожно извлек из него пойманное животное и при свете костра торжествующе показал ему только одну голову.
Я не напрасно ожидал эффекта. Глаза Сергея удивленно расширились. Он уже с большим интересом и внимательно рассмотрел голову, а затем и всю ящерицу.
— Какое странное существо, — проронил он. — Пожалуй, это будет не только новый вид, но и род новый. Ее сейчас же нужно в спирт посадить.
Я решительно запротестовал против этого.
— Сергей, я хочу привезти ящерицу в живом виде в Москву — ведь и по живому экземпляру можно сделать описание. Оно только выиграет, если его дополнить хотя бы самыми краткими сведениями по биологии.
— А если она убежит или издохнет, что ты тогда будешь делать? — резонно спросил он.
— Не убежит и не издохнет, я за это отвечаю и гарантирую, что ящерица будет привезена в Москву в таком состоянии, в каком ты ее видишь сейчас.
На этом наш спор кончился. Нам было ясно, что мы не переспорим друг друга и каждый из нас останется при своем мнении.
С появлением мешочка с неизвестной ящерицей у меня появилась новая постоянная забота. Я не мог его засунуть во вьючные ящики, где ящерица могла быть легко раздавлена вещами или задохнуться. Ведь ящики сильно нагревались на солнце. Не решался я поручить мешочек и нашему проводнику — вдруг он его потеряет. «Нет, — решил я, — уж лучше я буду носить его при себе и постоянно следить за состоянием ящерицы».
С утра я привязывал мешочек к петлице своей куртки и экскурсировал с ним до позднего вечера. Когда же наступала ночь, мешочек подвешивался в палатке над моей головой. Одним словом, в моей жизни появилась настоящая писаная торба, с которой я носился в течение всего маршрута по пустыне, до возвращения в город Казалинск. Но вскоре ящерица отошла на второй план.
Нас крайне заинтересовали своеобразные степные зверьки — тушканчики. В отличие от других грызунов, по своему внешнему облику они похожи на маленьких кенгуру. Их передние ноги совсем короткие, задние, напротив, несоразмерно велики, длинный хвост украшен на конце так называемым знаменем — своеобразной плоской кисточкой. Как и кенгуру, тушканчики при быстром беге пользуются только задними ногами. Они делают большие прыжки и поддерживают равновесие, размахивая в воздухе своим длинным, опушенным на конце хвостом. В казахстанских степях в некоторые годы тушканчиков великое множество. Они представлены здесь различными видами, каждый из которых поселяется только в характерной для него местности. Вот эти зверьки и поглотили в то время наше внимание. Пересекая на верблюдах то пески, то солончаки и глинистые степи, мы сталкивались со все новыми и новыми видами, и наша коллекция тушканчиков с каждым днем возрастала.

Бывало, ранним утром, как только откроешь глаза, спешишь на ближайшие песчаные холмы — они высоко поднимаются над ровной степью.
Хорошо здесь в тихое утро, прохладно. Косые лучи восходящего солнца не жгут вас, как в дневную пору. За ночь на песке животные оставили бесчисленные следы своей ночной деятельности, и мы, как настоящие следопыты, разбираемся в их лабиринте, читаем по ним то, что здесь произошло ночью.
Вот на склоне бархана, резко выделяясь на общем фоне, виднеется кучка сырого песка. Это трехпалый тушканчик выкопал себе дневное убежище. Из глубины почвы он выбросил сырой песок и забил им входное отверстие. Теперь в его норку не проникнут враги.
Когда солнце поднимется выше и горячими лучами высушит сырой песок, найти норку тушканчика можно будет только случайно. Но сейчас сырой песок безошибочно указывает местопребывание зверька, и мы приступает к раскопке. Мы спешим. Нам дорога каждая минута, хочется раскопать норок как можно больше, а солнце поднимается все выше, его лучи становятся жгучими. Под влиянием тепла и слабого утреннего ветра постепенно исчезают следы. Усталые, но довольные, мы возвращаемся в лагерь, где нас ждет завтрак.
Жаркий день проходит в беспрерывных хлопотах, связанных с переходом на верблюдах в другие места. Но вечер — самое интересное и добычливое время в отношении сбора тушканчиков, и каждый из нас ждет его с большим нетерпением.
Вот наступают и долгожданные сумерки. Вооружившись двустволками и наполнив карманы патронами, мы вновь отправляемся за тушканчиками. Неподвижно оставаясь на одном месте, мы чутко прислушиваемся к шорохам, зорко всматриваемся в серую степную почву. Вот в вечерней тиши зашелестели листья высохшего растения, на мгновение мелькнул в полумраке белый кончик хвоста тушканчика и тотчас исчез. Сколько терпения, напряжения и ловкости требуется от человека, чтобы добыть несколько проворных ночных зверьков. И эта охота обычно затягивается до полной темноты, когда уж и белая кисть хвоста не выдает его обладателя.
Но на этом еще не кончается наша работа. При ярком свете костра мы тщательно осматриваем свою добычу, измеряем зверьков, снимаем с них шкурки и делимся своими впечатлениями. И так изо дня в день в течение двух-трех недель подряд в интересной работе незаметно течет время.

Но вот проходит намеченный срок, наши вьючные ящики заполняются собранными коллекциями, пора выбираться из пустыни к железнодорожной линии. Останавливаясь на самое короткое время для отдыха, теперь мы молчаливо двигаемся на верблюдах с раннего утра до позднего вечера. И только во второй половине дня, когда невыносимая жара несколько спадет, мы оживаем, у нас появляется желание перекинуться фразами.
— Кстати, Сергей, как мы назовем нашу ящерицу? — задаю я вопрос приятелю.
— Конечно, именем нашего общего учителя, — отвечает он.
— А ведь, наверное, Сергей, пески скоро кончатся, ты чувствуешь, водой пахнет? — вновь задаю я вопрос.
И действительно, слабый ветерок приносит нам запахи, столь несвойственные сухой пустыне. За десятки километров мы ощущаем присутствие большого озера, запах прелого тростника и влагу.
Вот мы и в Казалинске. После кратковременной передышки первое, что я сделал, это достал книжку, в которой были даны описания змей и ящериц. И как же велико было мое разочарование, когда я увидел рисунок той самой ящерицы, которую в течение последнего месяца постоянно носил при себе в мешочке. «Сцинковый геккон», — прочел под рисунком и далее нашел краткое описание биологии животного. Из него я вычитал, что эта ящерица обитает в слабо закрепленных и барханных песках и реже на глинистых участках пустыни. Она ведет настоящий ночной образ жизни, скрываясь при наступлении дня в вырытых ею самой норках. Питается этот геккон, как и большинство ящериц, насекомыми и их личинками. Трением чешуй хвоста геккон издает слабые шуршащие звуки.
— Вот тебе и новый вид, — смеясь, сказал мне приятель. — Я же тебе говорил, что все виды у нас давно описаны — найти что-нибудь совсем новое почти невозможно.
Конечно, в тот момент я не мог ничего возражать и, закусив губу, предпочел отделаться молчанием.
Но есть прекрасная пословица: «Хорошо смеется тот, кто смеется последним». Впоследствии я с большим удовольствием воспользовался этим правом. Дело в том, что в течение полутора месяцев мы возили в наших вьючных ящиках двух совершенно неизвестных и не описанных до того тушканчиков. Ни я, ни мой приятель даже не предполагали об их зоологической ценности.
Глава седьмая
САКСАУЛОЧКА
Птица пустыни — сердце мое.
Вижу в глазах твоих — солнце твое.
Птица, о которой я сейчас расскажу, у нас называется саксаульная сойка. Кум-саускан — зовут ее казахи, что в буквальном переводе на русский язык означает «песчаная сорока». И действительно, пестрым оперением, бойким нравом и своими повадками саксаульная сойка напоминает нашу сороку. Но есть у нее и другое меткое название, связанное с ее быстрым бегом. Джурга-тургай — часто называют ее те же казахи, и означает это «воробей-иноходец». Интересная, веселая это птица, только немногие знакомы с ней, так как живет она в глубине песчаных пустынь Средней Азии и не так уж часто попадается на глаза человеку.
В коллекциях наших центральных музеев шкурки саксаульных соек не представляют слишком большой редкости. Ведь столкнувшись с малоизвестной, бросающейся в глаза птицей, не только зоолог, но и любитель природы старается добыть и сохранить шкурку этой диковины. И, напротив, живая саксаульная сойка — величайшая редкость. Какой зоопарк, какой любитель птиц может похвалиться тем, что в его вольерах когда-нибудь обитал воробей-иноходец?
Если бы знал читатель, как мне хотелось посмотреть саксаульную сойку на воле, собрать ее шкурки, достать хоть один живой экземпляр, чтобы ближе познакомиться с ее нравом! Прошло много времени, пока мое желание исполнилось.
В одну из весен я рано приехал на Сырдарью и, как обычно, поселившись в поселке Джулек, предпринимал отсюда поездки в различных направлениях. Только в пустыню Кызылкум мне никак не удавалось проникнуть.
Громадные пески, загадочные и страшные своим безводьем и однообразием, начинались за полосой тугайных зарослей на левобережье реки и на сотни километров уходили на юго-запад. В Кызылкумах, не так уж далеко от Джулека, и обитали саксаульные сойки. Но прошла первая половина мая, дни стали нестерпимо жаркие, а я со дня на день откладывал эту поездку.
— А знаете, — сказал мне однажды один из моих джулекских знакомых, — вам сейчас очень легко в Кызылкумы пробраться — попутчик есть. Оказывается, у колодца Бил-Кудук в этом году стоят скотоводы. Сигизбай мне сказал, что сегодня оттуда бала какой-то на ишаке за сахаром приехал. Кажется, он завтра назад поедет, так что не упускайте случая.
Я подошел к джулекскому базарчику и беглым взглядом окинул приезжих.
— Вон, вон бала, — указал мне продавец из мясной лавки на группу людей, топтавшихся около коновязи. Я подошел ближе. «Кто же из них бил-кудукский?» — с некоторым удивлением осмотрел я казахов. Ведь в моем представлении бала должен быть маленьким мальчуганом, в крайнем случае подростком, а здесь я видел взрослых людей.
— Где тут бала из Бил-Кудука? — спросил я здоровенного парня, стоящего около маленького ослика.
— Моя, моя бала, — ткнул он себя в грудь пальцем и улыбнулся во весь рот.
«Вот так бала, — подумал я, — ну да не в этом дело». Пять минут спустя здоровенный бала — Дусен по имени — пил у меня чай и охотно отвечал на мои бесчисленные вопросы о Бил-Кудуке, о песках, о населяющих их птицах.
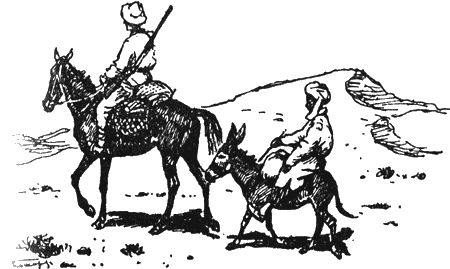
Я на лошади, Дусен на маленьком ослике на следующий день выехали из Джулека и, переправившись на пароме через Сырдарью, стали углубляться в пустыню. Не скажу, чтоб переезд до колодца Бил-Кудук, расположенного в шестидесяти восьми километрах от Джулека, доставил мне большое удовольствие. Напротив, я всегда вспоминаю его с неприятным чувством. На горьком опыте я постиг, что путешественнику, едущему в далекий путь, нельзя садиться на лошадь, если его спутник едет на ослике. Осел Дусена, несмотря на значительный вес хозяина, с такой быстротой семенил ногами по песчаным тропинкам, что моя лошадь не могла поспеть за ним, двигаясь шагом. Когда же я заставлял ее бежать нормальной рысью, она быстро оставляла осла далеко позади. Видимо, из солидарности со своим длинноухим собратом она не хотела ни отставать, ни обгонять осла и предпочитала бежать с ним рядом. Однако при этих условиях замедленная рысца лошади превращалась в такую невыносимую тряску, что езда становилась настоящим мучением.
— Джаман ад (плохая лошадь), — сказал я, едва слезая на следующий день у колодца Бил-Кудук.
Дусен с завистью посмотрел на моего замечательного рысака.
— Ад джаксы — джуль джаман, алес (лошадь хорошая — дорога плохая, далеко), — сказал он.
Колодец Бил-Кудук расположен у самой границы огромных голых песков — урмэ. И если между Джулеком и Бил-Кудуком тянутся крупные бугристые и грядные пески, поросшие редкой растительностью почти до самых вершин, то на вершинах песков урмэ растительность совсем отсутствует. Поднимитесь возможно выше и взгляните на пески урмэ издали. Под ослепительно яркими лучами солнца вашим глазам представится бурное песчаное море с гигантскими песчаными волнами. И кажется, высоко взметенным пескам нет конца-краю, а среди них нет никакой жизни. Но это только так кажется издали. В глубоких котловинах, скрытых среди песков, жизнь идет своим чередом и порядком. Растет старый саксаул, широко раскинув в стороны корявые ветви, как молодой пирамидальный тополек, поднимается стройное деревце песчаной акации. По нагретому песку бегают мелкие ящерицы, песчаные круглоголовки, чирикает саксаульный воробей, звонко поют пустынная славка и саксаульная сойка, беспрерывно свистят своеобразные зверьки — песчанки.
Но какая жара здесь в летнее время! Как только вы спускаетесь в котловину, вас обдает горячим воздухом, как из раскаленной печи. И все же вас потянет сюда, и вы не останетесь на мертвых песчаных холмах, где каждый порыв ветра бросает вам в лицо удушливый мелкий песок. Здесь же, в глубокой котловине, знойное затишье, уют и жизнь, а под тонким поверхностным слоем почвы — сырой, почти мокрый песок. В такой-то своеобразной обстановке в этих частях пустыни Кызылкум и обитает в изобилии замечательная птица пустыни — саксаульная сойка.
Экскурсировать одному по незнакомым пескам пустыни по меньшей мере небезопасно. Каждую секунду вы рискуете запутаться среди страшного однообразия глубоких котловин и высоко взметенных барханов, и выбраться отсюда к маленькому, затерянному среди пустыни аулу не так просто, как нам часто кажется.
В связи с этим я договорился с Дусеном, чтобы он сопровождал меня во время моих экскурсий, пока не познакомлюсь с новой для меня местностью. Конечно, я с большим удовольствием нанял бы опытного проводника — старика казаха, но здесь Дусен был единственным достаточно свободным человеком.
— Знаешь, Дусен, — обратился я к своему помощнику, когда мы однажды отправились с ним на охоту. — Птиц для шкурок я себе сам настреляю, и твоя помощь мне не нужна в этом деле. Но если ты мне поможешь поймать хотя бы одну живую саксаульную сойку, ты мне окажешь этим большую услугу. Одним словом, как только живая сойка попадет в мои руки, я сделаю тебе интересный подарок. — Я имел в виду захваченную с собой банку с конфетами-леденцами и пачку прекрасного чая. Я хорошо знал, что все сладкое для Дусена, как и для большинства подростков, — большое лакомство.
Конечно, эти фразы были сказаны на понятном, ломаном казахском языке и произвели на Дусена соответствующее впечатление.
— Согласен помочь мне на таких условиях? — спросил я своего спутника. Дусен радостно закивал головой в знак согласия. — Только помни, Дусен, — пояснил я, — тресен тургай керек (живую птицу нужно), понял?
— Белем (понял), — кивнул головой парень.
Саксаульная сойка не боится человека только там, где ее не трогают. Но как только ее начинают преследовать или хотя бы обращают на нее внимание, сообразительная птица сразу становится недоверчивой и осторожной.

«Чир-чир-чире», — услышал я мелодичную, звонкую трель, как только мы спустились в одну из ближайших котловин. В тот же момент я увидел и птицу. Она быстро поднялась над деревьями саксаула, затем высоко закинула назад крылья и каким-то особенно красивым полетом спланировала на землю. В ответ на призывный крик в нескольких шагах откликнулись другие птицы; их звучные голоса так и напоминали звон серебряных колокольчиков. При виде обилия соек я решил не спешить с охотой. Настрелять их я всегда успею, сейчас же я хотел познакомиться с птицами в их родной обстановке. Я пошел к кусту, за которым скрылась одна из соек.
Когда до сойки осталось не более двух метров, она ловко выскользнула на песок, сделала три-четыре крупных прыжка, помогая при этом взмахами крыльев, а затем, высоко подняв голову и выпятив грудь вперед, с замечательной быстротой «укатилась» за ближайший куст саксаула. Повторив свой прием несколько раз и каждый раз меняя направление, птица наконец воспользовалась своими крыльями и далеко отлетела от беспокойного места. Закинув ружье за плечи, около часа следовал я за перебегающими саксаульными сойками, а сзади меня, недоумевающий и недовольный, плелся Дусен. Ему было совершенно непонятно мое странное поведение. Когда же наконец я застрелил одну из саксаульных соек и она забилась на песке, Дусен схватил ее и, повторяя «тресен, тресен (живая, живая)», поспешно сунул бьющуюся птицу мне в руки.
— Нет, — протянул я, — мне нужна такая живая птица, которую я смог бы живой увезти в Джулек, а потом в Москву, а эта, как видишь, уже перестала двигаться.
Мои слова повергли Дусена в полное уныние. Видимо, вся канитель с сойками ему порядочно надоела, и он мечтал уже вернуться к своей обычной, спокойной жизни. Заряд дроби моего второго выстрела случайно выбил все маховые перья крыла другой саксаульной сойки. Птица была невредима, но полностью утратила способность полета. Положив на землю ружье и сбросив с себя все лишние вещи, я кинулся ловить саксаульную сойку-подранка. Однако она с такой быстротой перебегала открытые участки песка и так умело использовала каждый куст саксаула, что мои попытки оставались тщетными. Я понял, что поймать этого иноходца одному человеку почти невозможно. Правда, со мной был Дусен. Но вместо того, чтобы помочь мне в ловле саксаульной сойки, он пытался догнать меня. Оказывается, ему было необходимо теперь же выяснить — живая ли эта, по моим понятиям, птица.
— Я, я — тресен (да, да — живая), — закивал я головой, когда наконец понял, что от меня нужно Дусену, и тогда мы уже вдвоем бросились ловить птицу.

Но как же ее было трудно поймать! Полчаса спустя мы были совершенно измучены преследованием. Пытаясь схватить птицу среди ветвей саксаула мы падали на землю, покрылись ссадинами и песком, мой высохший язык в буквальном смысле прилипал к гортани. Ведь в раскаленной атмосфере котловины и так было трудно дышать, мы же как угорелые носились за сойкой. Правда, и перепуганная сойка, видимо, сильно устала. Она все реже решалась перебегать открытые участки песка и предпочитала вертеться среди густых ветвей саксаула.
Вот утомленная птица прячется под наклонившийся ствол дерева и неподвижно сидит с широко открытым ртом. Пользуясь этим, я подползаю к ней из-за дерева. Вот она совсем близко, и я судорожно схватываю рукой… увы, пустое место. Еще минут десять напряженной гонки, и вдруг — о неожиданная удача, о радость! — на наших глазах саксаульная сойка забегает под нависшую ветвь саксаула и прячется в полуразрушенную норку грызуна-песчанки. Я с одной стороны, Дусен — с другой замерли на месте и напряженно ждем, когда вся птица скроется с поверхности, чтобы, прикрыв нору рукой, отрезать ей выход наружу… Кажется, пора, и я бросаюсь вперед. Но, к несчастью, мой спутник делает то же самое. Сильный удар головы Дусена по моему глазу отбрасывает меня в сторону. С трудом поднимаюсь на ноги и зажимаю рукой ушибленное место… «Шы… шы…» — кажется мне, дышит мой подбитый глаз, заплывая опухолью.
— Ой-бай, ой-бай, — сокрушается надо мной Дусен, суя мне в руки медную пряжку от своего пояса.
— Да не надо мне ничего! Сойка где? Сойку смотри! — кричу я своему спутнику.
— Какой сойку? — недоумевает Дусен.
— Да сойку, сойку — ну, кум-саускан — понял, что ли? Где кум-саускан?
— А, кум-саускан — белем, белем (понял, понял), — радуется Дусен. — Кум-саускан нету. Кум-саускан кеткен (убежала), — заканчивает он.
— Куда убежала? — кричу я не своим голосом.
— Бельмей кайда кеткен (не знаю, куда убежала) — нету кум-саускан, — оправдывается Дусен.
Одним словом, расторопная соечка как нельзя лучше воспользовалась нашим замешательством и благополучно удрала от двуногих неудачников.
«Нет, — решил я после этого случая, — не надо мне таких помощников. Сам я лучше справлюсь со своей задачей».
Утренний полумрак царил в песках, когда на следующий день я проснулся и выбрался из полога. В трех юртах, стоящих поодаль, все еще спали крепким сном; спал и мой помощник Дусен. Прохлада и тишина стояли кругом. Лишь изредка позвякивал медный колокольчик на шее лежащего у юрт верблюда, а из соседних песков доносился крик пустынного сычика. Я не спеша поднялся на ближайший песчаный холм, прошел с полкилометра вдоль его гребня и спустился в одну из больших котловин, поросшую крупным саксауловым лесом. Я решил найти гнездо саксаульных соек и взять птенцов. За короткое время мне удалось отыскать три гнездышка, два других — среди спутанных зимними ветрами ветвей песчаной акации.
Все гнезда были похожи на гнезда нашей сороки, отличаясь от них лишь меньшими размерами. Но мне положительно не везло. Только в одном гнезде я нашел птенчиков, притом таких маленьких и беспомощных, что нечего было и думать довезти их живыми не только до Москвы, но и до поселка Джулек. Неужели мне придется отказаться от добычи живой саксаульной сойки и ехать в Москву с пустыми руками! Попаду ли я еще раз в Кызылкумы и представится ли мне еще такой удобный случай? Нет, многого я не желаю, но одну живую сойку мне необходимо достать теперь же. И я стал тщательно осматривать деревья в надежде найти еще гнездо с более крупными птенцами.
Взрослые сойки несколько раз попадались мне, пока я исследовал котловину; в одном месте я встретил даже целый выводок, птенцы которого уже умели летать.
Сегодня я не гонялся, как вчера, за ними с ружьем, и они вели себя много доверчивее. Видимо, появление человека интересовало птиц, и, когда я оставлял следы на песке, они тщательно осматривали этот участок.
«Не попытаться ли поймать сойку волосяной петлей?» — мелькнула у меня в голове мысль. Волосяные петли во время своих поездок я всегда носил с собой. Усевшись на песок, из-под подкладки своей фуражки я извлек пару петель, затем раскопал песок до сырого слоя и здесь установил ловушки.
Сырое пятно песка было заметно издали и, конечно, должно привлечь внимание любопытных птиц. Несколько мелких кусочков хлеба, брошенных мной около петель, являлись приманкой.
Много времени прошло с момента установки ловушки. Солнце поднималось все выше и выше и жгло землю. Под его горячими лучами давно высох сырой песок раскопанного участка, а желанная добыча не шла в руки. Я уже хотел отказаться от своей затеи, как громкая знакомая трель птицы дала знать, что моя затея не пропала даром. Несколько секунд спустя я уже держал в руках великолепную живую саксаульную сойку.
— Тамыр, тамыр (товарищ), — услышал я человеческий голос и в тот же момент увидел Дусена. Размахивая руками, он рысью ехал ко мне на верблюде. Его послали искать русского, который мог заблудиться в песках.
Соскочив на песок и опустившись на колени, он из кожаного мешка — бурдюка налил огромную деревянную чашку кислого молока — айрана и передал ее мне.
И пока я с жадностью тянул из чашки напиток, Дусен по-детски радовался, что доставил мне удовольствие.
Настало время возвращаться в Джулек. «Не лучше ли будет использовать для переезда ночное время, — думал я, — все-таки легче покажется дорога». И вот я решил выехать с вечера и без остановки ехать, пока солнце не поднимется высоко.
В двадцати восьми километрах от Бил-Кудука лежало урочище Алабье; до него и обещал проводить меня Дусен. Далее я уже не боялся сбиться с пути, так как до самого переезда через Сырдарью отсюда шла проторенная тропинка. Но обстоятельства помешали осуществить мои намерения.
Восточное гостеприимство не позволяло моим радушным хозяевам отпустить гостя в дальний путь без прощального угощения чаем. Оно затянулось надолго.
— Пора выезжать, нельзя время тратить — ведь до Джулека бесконечно далеко, — пытался я убедить хозяина.
Но Дусен только улыбался, показывая свои ровные белые зубы, и подливал мне совсем крошечную порцию едва подбеленного молоком крепкого чая.
— Ай киреды, кибит барасен (месяц взойдет, домой пойдем), — убеждал он меня, вновь наливая чай в мою кисайку.
— Нет, дорогой Дусен, — возразил я самым решительным образом. — Довольно и того, что мы дождались, когда солнце зашло, а когда месяц взойдет, ждать не будем — сейчас поедем.
Однако пока Дусен отыскивал своего осла, потом куда-то запропастившуюся подпругу, пока подвязывал бурдюк с айраном и наконец уселся в седло — действительно взошел месяц.
Огромный и золотой, он поднялся над горизонтом и фантастическим полусветом залил причудливые пески Кызылкумов.
Хорошо ехать в лунную ночь верхом по пустыне! Бодро идет вперед ваша лошадь, не жжет, не ослепляет яркое солнце. И кажется, целые сутки можно не слезать с седла. Зато как трудно ехать по раскаленной пустыне в дневную жару. Блестит песок, над ним струится горячий воздух, ослепляют яркие лучи солнца, и от беспрерывного напряжения мышц лица вы вскоре чувствуете сильное утомление.
Вот почему мне и хотелось использовать для переезда большую часть прохладного времени суток. Но мне это не удалось осуществить, и когда я в Алабье простился с Дусеном, пустыня уже была окутана предрассветными сумерками.
Около полудня я слез с седла и расположился под развесистым саксаулом, ветви которого могли хоть отчасти укрыть от жгучих лучей солнца. «Часика два-три отдохну, — думал я, — и дальше поеду». Однако об отдыхе нечего было и думать. Множество крупных клещей обитало в этой части пустыни. С моим появлением они оживленно забегали по песку, в буквальном смысле слова преследуя меня по пятам. Чем дольше я оставался на одном месте, тем больше клещей собиралось около меня; избавиться от них, предотвратить их смелый и настойчивый натиск было почти невозможно. Вновь я взобрался на лошадь и под горячим солнцем шагом пустился в далекий путь.
В Джулеке своей пленнице я отвел большую светлую недостроенную комнату. Целый день я затратил, чтобы превратить ее в уголок пустыни. В центре комнаты я вкопал большой развесистый саксаул, по сторонам от него разместил несколько кустиков песчаной осоки. Самым же основным материалом для декорации явился песок; на его доставку и ушла большая часть времени.
Им я засыпал основание ствола саксаула и неравномерным толстым слоем покрыл весь пол. Когда все было закончено, я из полутемной клетки выпустил в новое помещение свою «саксаулочку». «Чир-чир-чире», — услышал я звонкую трель, как только выпорхнувшая из клетки птица коснулась усыпанного песком пола. Видимо, мои труды и старания не пропали напрасно. Созданные условия если и не могли полностью заменить птичке свободу, то во всяком случае несколько напоминали ей родину и скрашивали неволю.
Прильнув глазом к замочной скважине, часами иной раз я наблюдал за моей саксаулочкой. Вот она оживленно бегает по комнате и, раскапывая клювом песок, отыскивает в нем что-нибудь съедобное. Но вот птичка замерла на месте и, наклонив голову набок, пристальным глазом смотрит куда-то вверх. Еще мгновение и, стремительно взлетев в воздух, она схватывает со стены или потолка то длинноногого паука, то крупную муху. «Чир-чир-чире, чир-чир-чире», — звенит тогда на весь дом ее звонкий торжествующий голосок. Чудная птичка-саксаулочка. Умная, доверчивая и в то же время очень осторожная — своим поведением она завоевала всеобщую симпатию. Никогда не забуду, как вела себя саксаульная сойка в самом начале жизни в неволе.
На четвертый день после того, как моя питомица была устроена, я вошел в комнату, держа в руках маленькую живую ящерицу. Заметив это, птичка порывисто взлетела в воздух и вырвала из моих рук свою любимую пищу. Это было сделано с такой быстротой, ловкостью и так неожиданно, что я, несомненно, лишился бы ящерицы, если бы даже не собирался отдать ее саксаулочке.
Меня поразил смелый поступок дикой птички, тем более что при других обстоятельствах она вела себя крайне осторожно.
Когда я, например, приводил в порядок ее помещение и ходил по комнате, саксаулочка не билась в окно, не пугалась, как другие птицы, но всегда держалась таким образом, что между мной и ею на всякий случай находился защитный куст саксаула.
Такая излишняя предосторожность нашей пленницы в дальнейшем не позволила сделать с нее ни одного хорошего снимка. Мелких ящериц и жуков саксаулочка явно предпочитала другой пище и, когда наедалась досыта, умело прятала остатки в песок и среди валежника. Когда же я находил и вскрывал ее кладовые, она суетливо перетаскивала запасы в другое, более надежное место.
В комнате, где жила саксаулочка, временами появлялись и другие животные. Как-то на одно из окон я поставил большую стеклянную банку с завязанным марлей верхом. В этой банке сидело несколько змей. В углу комнаты в клетке я посадил недавно приобретенного хищного зверька — хорька-перевязку.
Однажды, проснувшись утром, я услышал знакомый звучный голос моей саксаулочки. Но на этот раз голосок птички звучал так долго и так настойчиво, что я поспешно вскочил на ноги и отворил дверь в соседнюю комнату, где жила моя питомица. Для меня было несомненно, что там происходило что-то неладное.
Что же я увидел? Издавая громкую трель, по песку с места на место возбужденно перебегала саксаулочка. Птичка то приседала, чтобы заглянуть под куст саксаула, то взлетала на его вершину и заглядывала в куст сверху.
Несомненно, под ним было что-то живое. На всякий случай я захватил ружейный шомпол и осторожно заглянул под вкопанный куст. Там, свернувшись в клубок и несколько приподняв голову, лежала крупная ядовитая змея. «Откуда?» — соображал я и невольно перевел взгляд на окно. Банки со змеями на окне не было.
Наполовину разбитая и пустая, она валялась на полу под окном. Кто же это мог ее сбросить на пол — не сойка же? И мой взгляд упал на клетку с хорьком-перевязкой. В металлической сетке ее темнело большое отверстие. Где же остальные змеи, где же натворивший бед хорек-перевязка? И змеи, и хорек благополучно ушли в подпол, воспользовавшись норками мышей и других грызунов, во множестве обитавших в этом доме.
Но ни хорьку-перевязке, ни одной из сбежавших змей не удалось уйти из-под дома. Я закрыл все отдушины подпола, и запертые беглецы, привлеченные светом, время от времени появлялись в комнате. В конце концов все они вновь попали мне в руки. Ведь в лице саксаулочки у меня был умный и чуткий союзник. При появлении непрошеного гостя в комнате она оповещала меня об этом громким настойчивым криком.
Чудная, веселая и умная птичка была моя саксаулочка. Кажется, никогда бы я не расстался с ней, если бы и в Москве ее удалось устроить так, как в Джулеке. Но это было для меня почти невозможно. Не мог же я засыпать свою московскую квартиру песком, а держать в клетке подвижную, веселую птичку мне не хотелось. Скрепя сердце я отдал ее Московскому зоопарку.
Прошло около года. За это время я побывал на нашем Севере, натерпелся там от холода и сырости и порядочно соскучился о среднеазиатском солнце. Неужели мне не удастся еще раз побывать в среднеазиатских пустынях? Меня непреодолимо потянуло в Кызылкумы. И невольно я вспомнил грандиозную картину барханных песков, жаркие котловины с причудливым саксаулом, знойное синее небо. Во всем этом, даже в мучительной жажде, какую не раз я испытывал в пустынях, сейчас я находил какую-то чарующую прелесть. Я скучал по пустыне, но ведь пустыня отнюдь не моя родина. «Как же должна скучать о родных песках, о горячем среднеазиатском солнце оторванная от всего этого моя саксаулочка! Но ведь саксаулочка только птичка — свойственны ли ей ощущения, присущие человеку?» Этот вопрос часто мучил меня с детства, и я неоднократно задавал его другим людям. «Птица не может скучать о свободе и тем более сознательно скучать», — отвечали мне.
Как бы и сейчас я хотел убедить себя в справедливости такого взгляда! Но за свою жизнь я так много времени провел среди животных — справедливый внутренний голос говорил мне совсем иное. Бессознательное стремление к родной обстановке, к свободе иногда проявляется у птиц с могучей силой — птица бьется в клетке, гибнет только потому, что она теряет свободу. Мне захотелось как можно скорей увидеть свою саксаулочку.
Был воскресный солнечный день. Шумная толпа взрослых и детворы двигалась по дорожкам парка, стояла у прудов, на которых плавали лебеди, утки, пеликаны. Вместе со всеми я медленно продвигался все дальше в глубину парка, в том направлении, где помещались мелкие птицы.
— Смотрите, смотрите, нос-то какой здоровенный, — показывали ребята на сидевшего на берегу пруда пеликана.
У вольер с мелкими попугайчиками детвора, толкаясь и крича, неудержимо ринулась вперед и прильнула к решетке. Сотни зеленых, желтых, голубых попугайчиков и других птичек с шумом перелетали с места на место, наполняя воздух разноголосым гомоном. Скрипучее щебетание, беспричинное перепархивание с места на место, случайные ссоры — все это показывало, что выведенные в неволе птички вполне довольствуются своей судьбой и давно утратили стремление к свободе. «Вот таких птичек и в клетке держать не жалко», — подумал я и в этот момент увидел свою саксаулочку. Нахохлившись и распушив свое пышное цветное оперение, птичка неподвижно сидела на полу у решетки вольеры, смотрела в сторону. Видимо, она давно привыкла и к шумной пернатой компании, и к возгласам посетителей и на все это перестала обращать внимание. Но, с другой стороны, не обращал никто внимания и на мою саксаулочку. Скромно окрашенная и необычно молчаливая, она оставалась незаметной среди массы ярких, крикливых, непоседливых попугайчиков. «А что это за птица?» — единственный раз спросил какой-то посетитель у своего соседа. Но тот, кому был задан этот вопрос, конечно, не знал саксаульной сойки и медлил с ответом. Движением толпы оба посетителя были оттеснены от вольеры и, потеряв сойку из виду, видимо, забыли о ее существовании.

И вот тут-то мне стало обидно и стыдно за свой необдуманный поступок. Если бы я привез птенчика, он бы, конечно, чувствовал себя в зоопарке совсем иначе. Но я лишил взрослую птицу ее родной обстановки, отнял у нее самое дорогое — и ради чего это сделал? «Зачем я не выпустил саксаулочку в родные пески, уезжая на Север?» — пришло мне в голову позднее раскаяние.
«Обязательно увезу птичку весной в Среднюю Азию и выпущу ее в пустыню», — думал я, возвращаясь из зоопарка домой. И при одной мысли об этом мне стало весело. Но мне не удалось осуществить своего намерения. Зимой моя саксаулочка погибла.
Много времени прошло с тех пор, и сейчас я с сожалением вспоминаю о погибшей птичке.
Я сохранил ее шкурку; она напоминает мне, что несправедливо лишать свободы взрослое животное, если не можешь создать ему сносных условий в неволе.

В ГОРАХ КИРГИЗИИ
Глава первая
СИНЯЯ ПТИЦА, ИЛИ ЛИЛОВЫЙ ДРОЗД
Хорошо бывает в лесу ранней весной. Снег уже стаял, но земля не просохла, местами чуть поднялась перезимовавшая зеленая травка, а осина и береза еще не успели покрыться новыми листьями. Только вечнозеленые сосна да ель поднимают свои темные остроконечные вершины над прозрачным лиственным мелколесьем. Войдите перед вечером в лес, встаньте на лесной опушке, пробудьте до захода солнца, и вы обязательно услышите пение замечательных наших певцов — дроздов. В это время они поют особенно часто. В наших лесах их несколько видов, и каждый из них поет по-своему. Громко свистит дрозд черный, еще лучше поет сравнительно маленький певчий дрозд. Неподвижно сидит он на самой вершине ели и распевает свою чудную долгую песню, немногим уступающую пению соловья. Как оживляет весеннее пение дроздов нашу северную природу!
Среди сравнительно некрупных птиц — дроздов, населяющих нашу страну, есть и такие, которые достигают размеров галки, как, например, лиловый дрозд. Его часто называют синей птицей. Он водится в Индии и в Гималаях. Оттуда через Афганистан лиловый дрозд проникает в горы нашей Средней Азии. Окраска оперения лилового дрозда издали кажется почти черной; если удастся увидеть его вблизи, то сразу станет понятным, почему его называют синей птицей. Оперение птицы темно-синее или лиловое с блестящими серебристыми блестками.

Хотя это и не водяная птица, но селится она всегда возле воды, точнее — возле горных ручьев, потоков и водопадов. Там, где русло горной реки круто обрывается вниз, где вода с шумом падает с высоты, там наверняка найдешь лилового дрозда. Свои гнезда лиловые дрозды прикрепляют к камням крутого обрыва и особенно охотно устраивают их в трещинах камней, нависших близ самого водопада.
С ревом падает на камни вода, пенится, рассыпается брызгами. Воздух вокруг насыщен холодной водяной пылью, река грохочет, а лиловый дрозд под этот аккомпанемент водопада распевает свою звонкую песню. Рев потока не может заглушить его голос, похожий на флейту.
Попал я как-то весной в горы Киргизии, увидел этих птиц, послушал их звучное пение и твердо решил добыть хоть парочку горных певцов для Московского зоопарка. Часто мы увлекаемся погоней за животными, которые не водятся в наших краях, как диковины выписываем их из-за границы, а того не учитываем, что у нас в стране есть свои изумительные диковины — сказочные синие птицы. Более шестидесяти лет существует Московский зоопарк, много в нем побывало интересных животных, но лиловый дрозд еще ни разу не попадал в его вольеры.
Задумав добыть лиловых дроздов, я при каждом походе в горы старался отыскать их гнезда и особенно примечал те, к которым, как мне казалось, было легче добраться. Облюбовал я одно гнездо, выждал, когда из яиц вылупятся птенцы, и отправился на разведку. Постучал я палкой о скалу, на которой находилось гнездо, и птенчики, заслышав стук, по-видимому, решили, что мать прилетела с кормом. Высунули они головы из гнезда и давай кричать, требовать пищи. Голоса у них звонкие, как серебряные колокольчики.
Полез я тогда по уступам скалы вверх к гнезду, и хотя невысоко оно помещалось и казалось доступным, но никак не мог я до него добраться. Метра два, не больше, отделяло меня от гнезда, но крутизна тут была такая, что сорвешься — живым не останешься, костей не соберешь.
Больше часа провозился я возле гнезда, все надеялся найти безопасный путь, но, увы, без толку. Пришлось мне вернуться домой с пустыми руками.
Стал я тогда думать: «Как мне быть? Раз решил привезти лиловых дроздов, как бы трудно ни было — надо свое слово сдержать». И вот что я придумал: «Дай-ка попробую ловить птенцов удочкой, как ловят рыбу, только без крючка, конечно». Достал я удилище, привязал к нему короткую леску, прикрепил грузило близ конца лески, а на самом конце сделал волосяную петлю.
Приготовив свою снасть, я в тот же день отправился в горы к знакомому гнезду.
Вот и нависшая скала, где грохочет бурный ручей, вот и гнездо с крикливыми дроздятами. Забрался я на ту скалу, уселся поудобнее, приготовил удочку. Все пять птенцов в гнезде видны мне как на ладони, но пока они лежат спокойно, петлей их не выловишь. Осторожно подвел я конец удилища к гнезду и поскреб им о камень. Заслышав этот звук, птенцы, как по команде, вытянули шеи и, широко раскрыв рты, подняли крик. Этим моментом я и воспользовался. Быстро накинув петлю на шею одного из птенцов, легонько затянул ее и поднял злополучного дрозденка на воздух. Хоть бедный птенец и проболтался в петле несколько секунд, но ничего с ним не случилось — остался целехонек.
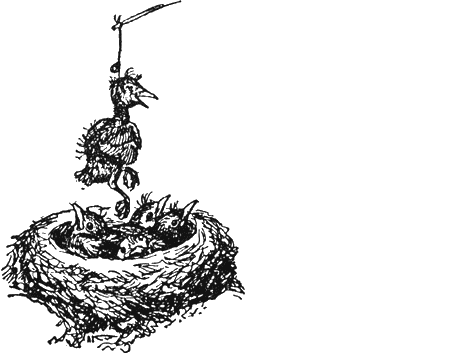
Таким же манером, немного переждав, выудил я второго птенца. На большую добычу я и не льстился. Положив обоих дроздят в карман, чтобы не озябли, я скорее направился домой.
Дома я устроил для своих питомцев гнездо из лукошка. Насыпал туда песку, положил сена и поставил лукошко на теплую печь, прикрыв его сверху полотенцем. Маленькие голые птенцы больше всего боятся холода. Если они озябнут, сразу перестанут есть, потеряют силы, тогда трудно их выходить. Снимая с гнезда полотенце, я всегда давал им корм. Птенцы в первый же день привыкли к этому и стали, как только их откроешь, сами требовать пищи, жадно раскрывая большие рты.
В первые дни дроздята были ужасно уродливы, но все же заинтересовали ребят моей хозяйки. Стали ребятишки ловить на лугу кузнечиков, собирать дождевых червей после дождя и все это тащили моим питомцам. Корм этот птенцам и приятный и самый полезный. Как на дрожжах росли дроздята, с каждым днем крепли. Скоро они уже стали взбираться на край лукошка и встречали каждого входившего в комнату человека мелодичным серебристым писком.
Прошло две недели. Мои дроздята стали большие, длиннохвостые — совсем как взрослые лиловые дрозды, только рты у них еще в углах были желтыми. Жалко было мне запирать дроздят в клетку, и, мирясь с неудобствами, я предоставил им полную свободу в комнате. Они ловко ловили мух на окнах, прыгали по столу, подъедали крошки, а на ночь всегда усаживались на высокую русскую печку.
Одно меня смущало: в доме у нас появился маленький сибирский котенок. Как ни мал он был, но держать кошку в одной комнате с птенцами небезопасно. Очень рано у кошек проявляются наклонности хищника.
Однако пока все шло благополучно. Уход за дроздятами к этому времени стал много легче. Их уже не надо было кормить из рук — они научились находить пищу сами. Уходя из дому, я ставил на пол посреди комнаты блюдце с мелкими кусочками сырого мяса. Что не съедали дроздята, то подбирал котенок.
Быстро подрастая, котенок стал заметно интересоваться птицами, и, возвращаясь домой, я не раз с тревогой думал: «Живы ли мои дроздята?» Пора было прекратить это опасное сожительство, но я все медлил.
Однажды, вернувшись, я не нашел котенка в комнате. Обыскал все уголки, где котенок любил дремать днем, звал его по имени — все напрасно. Я недоумевал: куда мог исчезнуть котенок из запертой комнаты? И вдруг из-за шкафа послышалось слабое и жалобное мяуканье.
— Так вот ты где! Что ты там делаешь?
Щель между стеной и шкафом была настолько узка, что я не смог всунуть руку, чтобы извлечь оттуда котенка: он же на мой зов отвечал только мяуканьем, но не двигался с места. Решив, что котенок, застряв в щели, не может сам выбраться, я отодвинул тяжелый шкаф. Взяв котенка на руки, я погладил его, дал ему кусочек сырого мяса, но моего четвероногого шалуна и лакомку будто подменили. Есть-то он, правда, ел из моих рук, но все время щурился и беспокойно озирался по сторонам. А когда я посадил его к блюдечку, где еще оставались кусочки нарезанного мяса, котенок со страхом попятился назад. Что могло с ним случиться в мое отсутствие? Чем он так напуган?

И тут же все разъяснилось само собой. С печки легко соскользнул дрозденок и прямо с разлета сильно ударил котенка всем своим телом и клювом в мордочку. Тот отскочил назад, выгнул спину, готовый к защите. Однако новый сильный удар другой птицы сбил котенка с занятой им позиции. Ошеломленный маленький хищник бросился наутек. Оба лиловых дрозда с громким писком щипали свою жертву клювами, били его в спину, пока перепуганный котенок не скрылся в свое надежное убежище — узкую щель между шкафом и стенкой.
Теперь, уходя из дому, я уже не боялся за жизнь своих питомцев. Нападение дроздов надолго сохранилось в памяти котенка. Хотя он сильно подрос и был раза в три больше преследующих его птиц, но по-прежнему боялся встречи с дроздятами и старался не оставаться в комнате, когда в ней не было людей, на которых он смотрел как на своих защитников.
Осенью я привез лиловых дроздов в столицу и подарил зоопарку. Один лиловый дрозд прожил в Москве восемь лет. Он улетел, вылетев из рук сотрудника при пересадке из зимнего помещения в летнюю вольеру. Лиловый дрозд хорошо поет и в неволе. К сожалению, его голос слишком громок, чтобы его песню слушать в комнате.
Глава вторая
ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО
— Сделай мне удовольствие, Андрей, — просил я, — пойдем за уларами, а кстати, и на козлов поохотимся. Если бы я знал ваши горы, как знаешь ты, я пошел бы один. Но обидно забраться на такую высь и не увидеть птиц.
— Увидишь! Как поднимешься до сплошного снега, там и уларов найдешь. Они сами себя свистом выдадут.
Этот разговор происходил в селении Сосновка, расположенном у подножия Киргизского хребта. Моим собеседником был пастух Андрей Уразовский.
Горный пастух не похож на пастухов среднерусской равнины. Он пасет свою отару высоко в горах на субальпийских лугах. Он не ходит пешком за стадом, а ездит верхом на быстроногой киргизской лошадке. За поясом у него нож, за плечами ружье. Охота для горного пастуха — любимое дело, только охотиться летом времени нет. Зато зимой, когда перестанут гонять стадо, он каждую неделю ходит в горы за козлами, а попутно бьет и уларов.
Улары, как вы уже знаете из моих рассказов о горной Армении, — крупные горные птицы. Они населяют альпийскую зону, редко спускаясь ниже верхней границы хвойного леса. Киргизию населяет гималайский, или темнобрюхий, улар.
Охота за уларами трудная. Не у всякого хватит выносливости забраться на такую высоту в горы. К тому же птица эта хотя до крайности глупая, но очень пугливая и осторожная. Редко кому из наших охотников посчастливится не только убить, но даже увидеть улара.
Трудность охоты за уларами меня только подзадоривала, и я очень обрадовался, когда как-то вечером Андрей сказал мне, что завтра он может пойти со мной на охоту. С вечера мы зарядили патроны, положили в мешок немного провизии, осмотрели, в порядке ли наш охотничий наряд: полушубки, шерстяные носки, специальные горные подковки. И на следующий день, встав на заре, мы направились в горы.
Дойдя до начала ущелья на берегу реки Кара-Балты, мы сделали привал, чтобы позавтракать. Андрей отрезал по большому куску свиного сала и по маленькому куску хлеба, так что ели мы не хлеб с салом, а сало с хлебом. Перед горной охотой нужно поесть сытно, но немного, не отягощая желудка, иначе на первом же километре подъема выдохнешься.
Внизу, у селения, совсем рассвело, а в ущелье царил холодный сырой полумрак.
Поеживаясь от холода, мы разглядывали в бинокли ближайшие увалы: не увидим ли где козлов-козерогов. Эти животные спускаются в ущелье только ранним утром, пока нет мух. Пригреет солнце, появятся мухи, и козлы немедленно уйдут выше в горы.
Вскоре Андрей заметил на сочном лугу целый табунчик пасущихся козерогов. Самки безмятежно щипали траву, а старый самец, украшенный рогами, стоял на вершине небольшой скалы и наблюдал за окрестностями. Если сторожевой козел заметит человека, то свистнет, и сейчас же все стадо собьется в кучу и пойдет к неприступным вершинам.

При виде козлов Андрея охватил охотничий азарт. Очень удобно захватить добычу так близко от селения. Убьешь — дотащить домой ничего не стоит, а кроме того, и место для подхода удобное.
Мы с Андреем сговорились так: один из нас зайдет по балке выше стада и отрежет отступление козлам в горы; другой попытается подкрасться снизу и выстрелить по зверю на большом расстоянии на всякий случай — авось попадет в цель. Андрей поставил условием, что какого бы другого зверя мы ни подняли — ни в кого не стрелять, только в козлов. Андрей пошел вперед, а я стал понемногу отставать. Мне надо было спугнуть табун снизу и нагнать его на Андрея. Не прошел я и полкилометра, слышу выстрел — громкое эхо прокатилось по горной долине. «Неужели, — думаю, — Андрей на другое стадо козлов наскочил?»
Спешу к нему. Андрей стоит смущенный, перезаряжает ружье. Выскочила у него из-под самых ног косуля, не сдержался он, выстрелил, забыв про уговор, да к тому же еще и промахнулся.
Козлы, конечно, после такого предупреждения нас ждать не стали. Поскакали через перешеек, где Андрей предполагал в засаде спрятаться, — только мы и слышали, как посыпались вниз камни и щебень. Махнули мы на них рукой и стали подниматься туда, где белели и искрились на солнце вечные снега.
Часа два лезли вверх и наконец добрались до скал в верхнем поясе гор. Неприступной стеной возвышалась темная, мрачная скала, покрытая снегом сверху, как шапкой. Обходя ее, мы слышали шорох сыплющегося сверху щебня.
Стали мы рассматривать в бинокль темные расселины и уступы и вскоре обнаружили не только козлов и уларов, но и киргиза-охотника с собакой на привязи. Тут мы с Андреем разделились. Я пошел влево к охотнику, а Андрей стал с другой стороны подходить к скале.
Поднявшись по склону на верхнюю часть утеса, я забрался в небольшое ущелье и стал наблюдать за пробиравшимся по узкой горной тропинке киргизом-охотником. Его поведение было мне совершенно непонятно. Собака, привязанная на длинном ремне к поясу охотника, шла впереди, а киргиз за ней, не снимая ружья с плеч, но, видимо, все время чутко прислушиваясь.

Прошли еще немного, вдруг зазвенел по скале щебень, посыпался вниз. Киргиз быстро лег на тропинку, ухватившись руками за выступы. В тот же момент его собака рванулась вперед — вот-вот своего хозяина с уступа стащит. Но киргиз подозвал собаку, осторожно поднялся и снова пошел дальше. Через некоторое время повторилась та же история.
Я недоумевал: какой смысл с таким псом охотиться, ведь не для того же охотник его берет, чтобы каждую минуту смерть за плечами чувствовать. Того и гляди, собака сдернет хозяина с узкой тропки и оба погибнут.
Тем временем киргиз забрался на середину скалы, снял ружье и, прижав собаку к земле, стал стрелять. Раза четыре выпалил, видимо, промахнулся, но пятой пулей все же свалил козла и стал спускаться вниз, куда скатился убитый зверь. Посмотрел я в бинокль на то место, куда пули ложились, — вижу, там стоят еще три козла — не шелохнутся. Не успел охотник со своей собакой скрыться за камнями, как вновь зазвенел щебень, более десятка козлов пошли по уступам вверх и вскоре скрылись за перевалом.

Только теперь я понял, зачем киргиз таскал за собой собаку. От человека козлы убегают, а завидев собаку, забьются в укромное место и стоят неподвижно.
Я был так увлечен охотой, что ничего не замечал вокруг. Когда же козлы ушли, я стал различать какие-то странные звуки: «уль-уль, уль-уль», — как будто кто-то ударяет по пустой бутылке металлическим предметом. Звуки слышались с небольшой скалы, нависшей над самой моей головой.
Пока я крутился на одном месте, пытаясь заглянуть на скалу, с другой стороны ущелья совсем близко раздалось «уль-уль». Я поспешно повернул голову в эту сторону и увидел, что прямо на меня летит улар. Он уселся на ту же скалу, откуда до меня раньше всего донеслись голоса уларов.
Еще секунда, и со всех сторон начали между собой переговариваться улары: «уль-уль, уль-уль», а потом засвистели, как свистит степной кулик — кроншнеп: «уйлить, уйлить, уйлить». Разносится этот свист по всему ущелью, но самих птиц не видно благодаря окраске их оперения, похожей на цвет камня.

Но вот, слышу, посыпался щебень. Гляжу, прямо ко мне по карнизу идет крупный красивый улар. Вскинул я ружье, но птица в ту же секунду перелетела на нависшую надо мой скалу и исчезла из виду. Однако огорчаться мне не пришлось: на том же карнизе появился новый улар. Он только собрался перелететь через ущелье.
Я не стал ждать, выстрелил. Грохот раздался такой, будто обрушились скалы. Все улары сорвались с карнизов и, согнув короткие крылья, устремились по косой линии вниз. За ними полетел и тот, по которому я стрелял. Видно было, что птица сильно ранена, летела она неуверенно, отставая от других. Пролетев немного, улар поднялся вверх, замер на секунду в воздухе и, сложив крылья, упал на каменистую россыпь.
Хорошо заметив место, куда упала птица, я стал спускаться вниз. По крутому склону спускаться еще труднее, чем подниматься. Каждый камушек надо ощупать, прежде чем решиться поставить ногу. Наверное, более получаса прошло, пока я добрался до каменистой россыпи, куда свалился убитый улар. Я сбросил заплечный мешок, ружье, патронташ, чтобы ничто не мешало, и принялся за поиски. Обошел кругом замеченное место, всматриваясь в навороченные камни, тщательно осмотрел каждый метр россыпи — все без толку. Около часу проискал, а найти не могу — улар мой точно сквозь землю провалился.
Взяло меня сомнение: там ли я ищу, может быть, это другая россыпь?
Опять пришлось подниматься на гору, чтобы сверху проверить местность. Нет, россыпь та самая — вон корень арчи, который я еще раньше хорошо заметил из своей засады. Вооружившись биноклем, я стал просматривать россыпь. Через сильные стекла каждый камень обыскал и наконец нашел. Сначала не сразу узнал я улара, показалось, что сухая веточка торчит из-за камней, но присмотрелся — это не веточка, а птичья нога. И тут же вижу: шевелится от ветерка сломанное перо на крыле птицы.
Птица лежала среди крупных камней и сама казалась камнем — только торчавшая нога и выдавала ее присутствие.
Пока я укладывал свою добычу в заплечный мешок, на склоне горы появился Андрей. Он торопился спускаться, солнце уже было низко, и особенно тревожило Андрея двигавшееся на нас с севера небольшое, но темное облако. Оно быстро росло, меняло свои очертания и цвет.
Признаюсь, мне это облако не внушало никаких опасений, но Андрей был другого мнения и настойчиво торопил меня.
Уйти от тучи мы так и не успели. Она закрыла солнце, и сразу в горах стало мрачно, сыро и холодно. Ветер стал дуть порывами. Все небо затянуло облаками. Одни из них, высокие, двигались плавно и медленно, а другие быстро и низко неслись над нашими головами и с каким-то шорохом, наталкиваясь на утес, начинали ползти вверх по горным ущельям.
Упали первые капли дождя, затем хлынул ливень, а за ним пошел снег. Наши полушубки намокли, покрылись тонкой ледяной коркой, она ломалась при каждом движении. Идти стало еще трудней. Кругом белел сплошной пеленой снег, земля под ним размокла, ноги скользили.
В полной темноте час спустя мы наконец добрались до арчового леса. Сбросили свои намокшие и обледеневшие вещи и поспешно принялись заготовлять на ночь топливо. Тащили крупные стволы арчового валежника, раскачивали и валили на землю сухостой. Вскоре огромный костер, разгоняя темноту ночи, запылал посреди лужайки.
Сладко спится на воздухе, но особенно хорошо отдыхать в горах после утомительной и трудной охоты. Кажется, не дышишь, а пьешь свежий ароматный воздух, и с каждым глотком в усталое тело вливаются новые силы.
Я рано проснулся на следующее утро. В небе еще мерцали звезды. Тихо было кругом. Только далеко в ущелье кричал филин да снизу доносился глухой рокот горного потока.
Ночную тьму сменили предрассветные сумерки, звезды как будто поднялись выше и побледнели, посветлело небо, и на нем четко выступили белые снеговые вершины. Первыми проснулись черные красноносые галки — клушицы. Целая стая клушиц, звучно перекликаясь, снялась с мрачного утеса, на котором ночевала, и вновь расселась по уступам. На зубчатом горизонте ярким пламенем вспыхнула снеговая вершина, за ней другая, третья… Не освещенные солнцем склоны уже не казались белыми, как прежде. Они поголубели от упавших на них теней. Ниже по черным расселинам клубился туман.
Холодно было выбираться из-под полушубка, но все же я встал и начал осматриваться кругом. Наш лагерь помещался на маленькой площадке горного выступа, края которого круто обрывались к Кара-Балте. Кое-где подымались деревья арчи.
Я разбудил Андрея:
— Посмотри-ка, куда мы залезли, знакомо тебе это место?
Андрей неохотно встал и с удивлением осмотрелся. Потом подошел к краю обрыва, заглянул вниз и резко отшатнулся, даже в лице изменился, как мне показалось.
— Что там? — спросил я и вскочил на ноги.
— Осторожно! — крикнул мне Андрей.
Я заглянул за край обрыва и так же, как Андрей, попятился назад. Мурашки забегали у меня по спине. Внизу под нами лежала пропасть. Глубоко-глубоко на дне ее пенилась Кара-Балта. Между темными скалами парили крупные птицы.
— Как это нас занесло сюда! — дрогнувшим голосом сказал Андрей. — Ведь вчера в темноте стоило только сделать еще лишний шаг и… — Андрей махнул рукой. — Знаешь, где мы с тобой ночевали? Это место называется «орлиное гнездо».
Глава третья
ЧО
Как-то зимой я получил письмо из Киргизии. Мне писал старый приятель — охотник Андрей. После обычного приветствия всей моей семье он сообщил интересную новость.
«Недавно, — писал он, — в наших горах убили интересного зверя, я никогда такого не видел. Величиной этот зверь немного меньше волка, рыжий, как лиса, и хвост у него, как у лисы, длинный и пушистый. Морда узкая, длинная, уши толстые и круглые, по-киргизски называют чо. Как называют такого зверя по-ученому?»
Этого краткого описания для меня было достаточно. Рыжая окраска, толстые и круглые уши — эти признаки давали возможность предполагать в убитом звере красного волка.
Десять минут спустя я уже был на почте и дал телеграмму следующего содержания: «Срочно купи красного волка, сохрани шкуру и череп, оплатим пятьсот».
Ответ Андрея привел меня в уныние: «Зверя сдали на заготпункт, череп брошен в горах, искал, не нашел».
Какая досада — упустить такую редкость, притом найденную в Средней Азии, где его обитание не вполне доказано и вызывает постоянные споры среди ученых! Но жизнь идет своим чередом, а время делает свое дело. Острая досада переходит в сожаление, сожаление — в воспоминание.
Прошла зима, потекло с крыш, оживленно зачирикали воробьи. Как и всегда в это время года, меня потянуло из многолюдного города на свободу, к природе. Пять суток пути в скором поезде, и я вновь в прохладной Сосновке, где нет изнуряющей жары, где ночи прохладны, как на севере. Первые увалы уже покрылись яркой молодой зеленью, а выше, где крутые склоны поросли темным арчевником, пятнами белел снег, в ущельях клубились туманы. Я вновь экскурсировал, собирал птиц и млекопитающих, записывал свои наблюдения в дневник. Но в первое время мои экскурсии ограничивались окрестностями селения, и я только с завистью поглядывал на вершины, казавшиеся мне недоступными.
Прошло несколько дней, я достаточно свыкся с разреженным горным воздухом, все выше поднимался в горы и наконец предпринял поход в Битью. Это ущелье уже издавна привлекало меня обилием животных, необыкновенной красотой и суровостью.
Мы с Андреем вышли из Сосновки ранним утром, поселок еще спал, сумерки окутали нас, впереди шумела и пенилась Кара-Балта, от нее тянуло холодом. Двадцать километров — это не расстояние для людей, привыкших к дальним переходам по равнинам, но двадцать километров в горах — это не шутка. Нельзя спешить, необходимо бережно расходовать свои силы. И хотя нас тянет скорей вперед, мы медленно идем по ущелью, поднимаясь все выше и выше. Узкая тропинка извивается змеей то у самой Кара-Балты, то взбегает по крутому склону, чтобы вновь спуститься к потоку. Мы минуем легкие мостики, преодолеваем обвалы, загромоздившие нашу дорогу, и с каждым пройденным часом приближаемся к цели. Но чем выше поднимаемся мы, тем уже становится ущелье. Местами оно переходит в узкий коридор, на дне которого ревет вода, катятся по руслу и рокочут тяжелые камни, а по сторонам — отвесные утесы, там, в голубой выси, прикрытые арчевым лесом. Выше арчевника широко раскинулись альпийские луга, над которыми вновь встают великаны утесы — белые зубчатые вершины их упираются в самое небо.
Труден и опасен был путь по Кара-Балте в то время. Горные обвалы иной раз совершенно загромождали дорогу, не позволяя двигаться дальше. Но и тогда по Кара-Балте шли скотоводы. Они стремились к перевалу, за которым широко раскинулась высокогорная долина Сусамыр — «дом отдыха для киргизской лошади». Худых, с разбитыми спинами, едва передвигавших ноги лошадок медленно гнали по ущелью. Местами, там, где путь становился для утомленных животных слишком тяжел, их втаскивали на арканах по крутой дороге. Проходило время — и прохлада, здоровая пища, отсутствие оводов и мух делали свое дело. К осени табун красивых и бодрых лошадок спускался по ущелью.
Ныне из Чуйской долины вдоль по Кара-Балте проложена дорога. Упорный труд человека сделал Сусамырскую долину вполне доступной. А в то время… Я никогда не забуду один сыпец. Громадный и крутой, на сотню метров он делал дорогу крайне опасной.
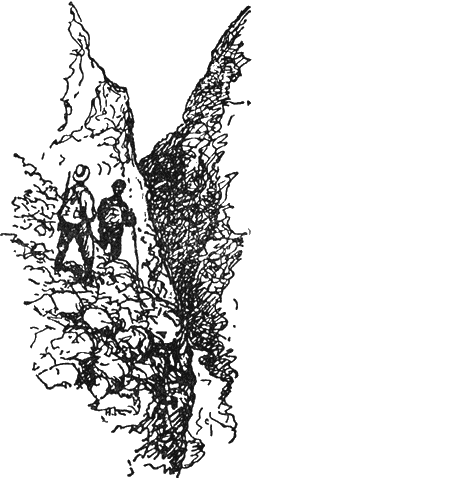
Когда я приближался к нему, у меня всегда появлялось желание вернуться обратно. Едва вступал на него человек, как он, глухо рокоча камнями, начинал двигаться вниз все быстрей и быстрей, пока не обрывался к потоку. Никаких промедлений, спешно бежать вперед, а иначе вместе с камнями вас унесет к отвесной стене и дальше, в Кара-Балту. Но вот сыпец позади, еще один предательский мостик, узкий, гнилой и скользкий от сырости и плесени. Стесненный обломками скал, под ним пенится и ревет поток. Три быстрых напряженных шага, вас обдает водяной пылью, и вы вне опасности. Риск позади. Слева от нас начинается боковое ущелье Битья. Перед входом в него мы отдыхаем. Рядом катится вода, в стороне ворчит побеспокоенный нами сыпец, над потоком свистит и поет синяя птица.
В Битье, в километре от ее выхода в ущелье Кара-Балты, жил киргиз-охотник Мурат. Я с ним еще не был знаком, но его хорошо знали жители Сосновки. Зимой он туда постоянно привозил мясо. Его прокопченная дымом юрта стояла на зеленой лужайке в глубине ущелья. Мы не застали хозяина дома — он с утра ушел за козлами. Нас встретил шестилетний черноглазый мальчик — сын Мурата. Уже с первого момента нашего знакомства он расположил меня к себе живым и веселым характером.
Сбросив с себя заплечные мешки и ружья, мы устроились близ юрты на воздухе. У основания огромного камня, величиной с двухэтажный дом, запылал костер. Нам нужно было сварить ужин, состоящий из пшена и убитых по пути кекликов. Когда все приготовления были закончены, каждый из нас занялся своим делом. Я снимал шкурки с добытых птиц и заносил наблюдения в дорожную книжку. Андрей чинил свою обувь, а кругом свистели сурки — их было множество, на сизых скалах перекликались альпийские галки.

Наш юный хозяин, оторванный от сверстников и вообще от людей, видимо, крайне тяжело переживал свое одиночество и был очень рад нашему приходу. Он всем интересовался: нашими ружьями, патронами, инструментами, расспрашивал о назначении того или другого предмета. Но в то же время его маленькая фигурка носилась от костра к юрте, от юрты к большому камню. Он вмиг натаскал дров, умело разложил костер, ощипал кекликов и разделал их мясо, а сейчас следил за огнем и болтал без умолку своим мягким говорком. С ним невозможно было скучать. За несколько минут он сообщил нам массу всевозможных новостей.
— Ты знаешь, отец для тебя яйцо достал!
И, не ожидая моего вопроса, он вмиг вскарабкался на огромный камень, сунул свою маленькую ручонку в глубокую трещину и показал мне сверху яйцо черного грифа. Через секунду он вновь был у костра, рассказывая, что два дня назад из соседнего ущелья к ним заходил охотник Казакпай и что сегодня отец ушел за козлами до рассвета, так как они уже два дня сидят без мяса. Когда же все новости были исчерпаны, он рассказал нам простенькое киргизское предание об одном горном охотнике и его сыне. Им я хочу поделиться с читателями.
В глубокой горной долине жил когда-то киргиз-охотник со своей семьей. Однажды ранним утром он собрался за козлами в соседние горы.
— Возьми меня на охоту, — упрашивал отца пятилетний сынишка.
— Дома сиди, иди к матери, — ответил сурово отец. — Ты еще мал, куда тебе по горам лазать.
И, перекинув за плечи свою длинную винтовку, отец стал подниматься по крутой тропинке. Ответ отца обидел мальчика, и он горько заплакал.
Ведь он большой, почему же его не берут на охоту?
Наш рассказчик запел песенку, которая ярко выражала всю обиду ребенка.
Скрылся отец за скалами, и сын, не послушав увещеваний отца, побежал по его следам. Он еще не умел, как взрослый, разбираться в следах, вскоре сбился с правильного пути и, обессилев, сел отдохнуть, прилег под камень и, укрывшись своей курточкой из меха дикого козла-козерога, крепко заснул.
Далее опять следовал короткий припев.
Ему снилось, что он в своей юрте, где так хорошо пахнет молоком и дымом, что мать гладит его по головке и напевает колыбельную песенку.
Перед вечером отец возвращается с охоты. Он несет за плечами убитого козла. Но что это впереди? Острые глаза охотника заметили бурую шкурку среди камней. Осторожно опустив на землю добычу, охотник подкрался ближе, прицелился и спустил курок. Что-то забилось впереди и затихло. Но что он наделал? Под шкуркой козла, свернувшись в комочек, простреленный пулей, лежал его любимый сынишка.
Рассказ заканчивался песней. Она выражала горе отца над убитым сыном.
Солнце скрылось за зубчатыми хребтами, и сразу в ущелье стало холодно, неуютно и сумрачно. Мы закончили свои дела и перебрались в юрту. Веселый огонек очага наполнил ее каким-то особенным запахом, теплом и светом. Близко пододвинувшись к костру, мы его живительным теплом согревали озябшие руки. Спать не хотелось, и, пользуясь свободным временем, мы болтали о Москве, о горах, о населяющих их животных. Снаружи быстро сгущались сумерки, вскоре перешедшие в черную ночь. Но где же хозяин? Неужели он еще бродит в потемках по опасным горным тропинкам?

В этот момент полог юрты откинулся в сторону, и в свете костра появился Мурат. Небрежно сбросив на землю совсем маленького живого козленка и повесив винтовку, он кинул нам короткое приветствие. Совсем молодой, плечистый, с коротко остриженными черными волосами и коричневым от загара лицом, он казался олицетворением здоровья и силы. Прямо на его голые плечи была небрежно наброшена куртка из выделанной козлиной шкуры, за поясом торчали широкая рукоятка ножа и железные подковки с длинными шипами. Их охотники обычно используют при ходьбе по крутым склонам. Живописный костюм, бьющее ключом здоровье и правильные черты лица невольно заставляли обратить внимание на этого человека. Но мрачный, неприветливый взгляд, крутая складка на переносице под сросшимися бровями производили не совсем приятное впечатление. Как видно, тяжело живется с ним его славному сынишке. И действительно, мальчуган сразу притих, забился в темное место, стараясь не попадаться на глаза отцу. Приход хозяина создал у всех какое-то тяжелое настроение. Сбросив с плеч куртку и сняв обувь, Мурат подсел к нам и мрачно смотрел на огонь. Все долго молчали.
— Как охота? — наконец проронил Андрей.
— Охота — на обед хватит, — раздраженно кивнул головой Мурат на козленка.
Опять наступило тягостное молчание.
— Козленка никто не тронет, — сквозь зубы процедил я и, поднявшись со своего места, поставил у костра большой котел с нашим ужином. — На десять человек хватит!
На мгновение глаза Мурата вспыхнули недобрым пламенем, но закон восточного гостеприимства и долг хозяина заставили его сдержаться. Молча мы принялись за еду, и казалось, каждый из нас был поглощен этим занятием.
Но куски положительно застревали в горле, и только Мурат с ожесточением уничтожал пищу — кости хрустели под его крепкими челюстями. Но с каждым проглоченным горячим куском что-то менялось в его лице. Вот уже не горят его глаза, разглаживается складка на переносице, и лицо становится другим, не отталкивающим, как прежде. Вот на лбу его выступил пот, он как будто пьянеет от горячей пищи и неожиданно для всех начинает улыбаться, показывая белые зубы. На лице его довольство, в глазах огонек веселья.
Не дожидаясь нашей просьбы, он с иронией рассказывает о постигших его сегодня охотничьих неудачах. Козлы совсем близко, еще два-три шага, и вдруг из-под ног летит предательский камень. Табун шарахается в сторону, и все пропало. Опять целые часы подхода — умелого, осторожного, как у хищного зверя. Добыча почти в руках, и опять неудача. Ружье осекается один, другой, третий раз, и все труды и лишения дня пропадают напрасно. Мы внимательно слушаем, стараемся не упустить ни одного слова и вместе с Муратом переживаем досаду. Перемена настроения киргиза-охотника сказывается на окружающих и особенно на его сыне. Гроза благополучно миновала, мальчик появляется среди нас и участвует в разговоре.
Мурат хорошо знал родные горы, до тонкости изучил повадки населяющих их животных и теперь с большой готовностью поделился со мной этими сведениями. Он рассказал, как ранней весной близко к его стоянке подходил барс, как несколько ночей он рявкал на соседних скалах. Потом хозяин рассказывал о горных птицах — уларах, подражая их весеннему крику, и, видя, что его слушают с большим вниманием, вдруг с изумительной точностью стал свистеть красным сурком. И как же бесподобно это ему удавалось! Так и казалось, что вот на обломке скалы, скатившемся на зеленую лужайку, стоит на задних лапах крупный, толстый и смешной зверек. Он кричит изо всех сил, захлебываясь, так, что вздрагивает его жирное тело, а голос слышно на много километров. В такт свисту закидывается назад его голова, подергивается хвост. Ему вторит ближайший сосед по норе, затем десятки других и вскоре все горы. «Но — болды (довольно), кудук кеткен (в колодец ушел)», — заканчивает рассказчик. И как это похоже на сурка. Он накричался вволю, взбудоражил сурков-соседей, козлов-козерогов, уларов — все живое, все предупреждены о близкой опасности, о приближении человека. И теперь он ушел в безопасную нору. Ну-ка, попробуй охотник после этого подойти к своей добыче!
— А знаешь, — обратился ко мне Андрей, — ведь это Мурат убил красного волка.
Я вспомнил тот досадный случай и попросил рассказать, как это произошло. Вот что я узнал со слов Мурата.
Поздней осенью охотники гор устроили большую охоту на козлов-козерогов. Человек пятнадцать окружили один из хребтов, где держалась группа животных, и стали гонять их с места на место. То здесь, то там гремели выстрелы, добыча обещала быть обильной. И вот острые глаза киргиза заметили четырех своеобразных хищников — они искали выхода из окружения. Это были красные волки — чо по-киргизски. Звери подошли к Мурату на верный выстрел, и тот ждал удобного момента. Вот одно животное останавливается и, не подозревая, что рядом опасность, смотрит в противоположную сторону, чутко вслушивается в нарастающий шорох в далеком ущелье. Мурат целится долго и наконец спускает курок винтовки. Грохочет выстрел, пуля пронзает шею злополучного зверя, и он падает на землю. Остальные бросаются врассыпную, но, несколько отбежав от опасного места, вновь собираются в тесную группку и исчезают за скалами. Слушая рассказ Мурата, мы засиделись до поздней ночи.

Спустя три дня мы с Андреем тем же путем возвратились в Сосновку. Опять скользкий мостик и ворчливый сыпец заставили пережить нас неприятные минуты. Мы шли не одни. За нами бежал маленький козленок, которой я приобрел у Мурата и назвал Майкой.
С тех пор прошло около года. Однажды в Зоологическом музее Московского университета мне показали шкуру интересного зверя. Ярко-желтая окраска меха, длинный пушистый хвост, строение ушей и общие размеры позволяли предполагать, что шкурка принадлежит красному волку. Однако при шкурке не было черепа, и его отсутствие мешало точному определению. Кто мог поручиться, что это не домашняя собака, размеры, окраска и другие внешние признаки которых столь изменчивы? Не было при шкурке и этикетки, указывающей, где и когда было добыто животное. Это совершенно обесценивало экземпляр с зоологической точки зрения. Сравнительно недавно она была обнаружена на Московском холодильнике среди большой партии шкур сурков и лисиц, присланных из города Фрунзе — столицы Киргизии.
«Странный зверь, — подумал сортировщик, осматривая шкурку от головы до хвоста. — Не то маленький волк, не то огромная лисица, а может быть, просто домашняя собака».
Но шкурка не могла сообщить своего происхождения, и любознательность сортировщика оставалась неудовлетворенной. На всякий случай о своем недоумении он сообщил по телефону в один из московских музеев. «Интересный, загадочный зверь, — думал директор музея. — Почти наверное красный волк, но все же не исключена возможность, что это беспородная собака. Жаль, очень жаль, что нет черепа». Также на всякий случай директор приобрел шкуру и позднее передал ее в музей университета. И здесь она вызвала недоумение. «По всем признакам шкура принадлежит красному волку, — высказывались научные сотрудники, — но нет черепа, нет этикетки — а вдруг это собака?»
Киргизия и сомнительная шкурка красного волка — я насторожился. Какое странное совпадение при большой редкости зверя. Ведь мне было хорошо известно о добыче одного красного волка в Кара-Балтинском ущелье Киргизии.
— Знаете, — вмешался я, — если этот зверь убит пулей и она пробила ему шею, то я, не сходя с места, могу снабдить его самой точной этикеткой и определить без черепа.
Мы, волнуясь, вывернули шкуру мездрой наружу. В области шеи она была насквозь пробита пулей. Всякие сомнения рассеялись. Это был красный волк, убитый на Киргизском хребте горным охотником Муратом.
Но я так мало сказал о распространении красного волка о его образе жизни. К сожалению, об этом мы недостаточно знаем. Известно, что это животное обитает в горах Центральной Азии и Восточного Китая, проникая к нам в Семиречье, в Южную Сибирь и в области рек Уссури и Амура. Вероятно, звери ведут стайный образ жизни, сообща нападают на крупных копытных животных. В Московском зоологическом музее красный волк представлен только двумя экземплярами и рассматривается как большая редкость.
Из шкуры красного волка, убитого Муратом, сделано чучело. Его можно посмотреть в верхнем зале Зоологического музея, и если вы будете его смотреть, вспомните историю, о которой я только что рассказал.
Глава четвертая
ЧУБЧИК
С Чубчиком я познакомился в горах Ферганы. Была поздняя осень. Роскошные ореховые и яблоневые леса уже поредели и пестрели разноцветными заплатками осенней листвы. Временами моросил дождь, даже шел снег, но кратковременное ненастье снова сменяли золотые осенние дни.
Я приехал сюда ненадолго, однако обстоятельства сложились таким образом, что мой отъезд пришлось отложить на неопределенное время.
Уже давно в нашей стране с целью обогащения фауны проводится широкая акклиматизация диких пушных животных. Сначала к нам были завезены из Армении связанные с водой грызуны — ондатры и нутрия, обладающие весьма ценным мехом. Выпущенные на свободу в тростниковые заросли наших крупных водоемов, они освоились с новыми условиями, и местами их акклиматизация дала блестящие результаты. Многие тысячи ценных шкурок ондатры ныне удается заготовлять, например, в Казахстане, в устье реки Или, на землях, ранее почти не используемых человеком.
Помимо них для акклиматизации были использованы и другие животные, обитающие у нас, но имеющие ограниченную область распространения. Среди них не последнее место занимал уссурийский енот, или, как его правильнее называть, енотовидная собака.
Это животное достигает размеров лисицы. По внешнему виду оно напоминает американского зверька енота, но, в отличие от него, ведет наземный образ жизни, поселяется в норах и относится к семейству собак.
Коренная родина енотовидной собаки — болотистые пространства и широколиственные леса Японии, Китая, Кореи и Маньчжурии. Отсюда она проникает к северу до среднего течения Амура и в Уссурийский край.
Большие партии этих зверей, обладающих исключительно теплым мехом, в свое время были выловлены в Уссурийском крае и выпущены в разных местах страны. Сотня енотовидных собак для акклиматизации попала в горные ореховые леса Ферганы.
Прожив несколько лет в новых условиях, енотовидные собаки сначала сильно размножились, но затем неожиданно исчезли. Тревожные вести об этом дошли до Москвы. С целью проверить слухи о неудавшейся акклиматизации енотовидных собак я и приехал в этот благодатный уголок Средней Азии.
Осмотр нор, где прежде жили енотовидные собаки, показал, что норы обитаемы, но кто из зверей в них живет — сейчас нельзя было определить точно. Я отправил в Москву телеграмму с просьбой срочно прислать на место охотников со специальными норными собаками. С помощью этих собак можно было безошибочно установить, какие именно звери обитают в норах.
Дожидаясь приезда охотников, я бродил по лесам, лакомился фруктами и орехами, охотился за горными курочками — кекликами. И только вечером возвращался на пасеку, где я поселился на это время.
Ждать долго не пришлось. Как-то раз, подходя к дому, я услышал хриплый собачий лай. В разных концах усадьбы были привязаны к деревьям собаки. Около собак, злобно рвавшихся друг к другу, суетились люди. Тут-то я впервые и увидел Чубчика.

Это была смешная маленькая собачонка — величиной чуть побольше кошки. Если бы не живые черные глаза, подкупавшие своей смышленостью, вряд ли я обратил бы внимание на такую непривлекательную собаку. Представьте себе желто-пегого пса с удлиненной головой, с коротким обрубком вместо хвоста и грубой шерстью, почти щетиной, торчащей во все стороны. Одно ухо висело книзу, другое задорно стояло торчком.
Но, несмотря на свое внешнее уродство, Чубчик был замечательной собакой. Как бы извиняясь, природа наградила его большой понятливостью и по-львиному смелым сердцем.
Так называемые иглошерстные фоксы — порода собак, к которой принадлежал Чубчик, специально выведены человеком для норной охоты. Несмотря на маленький рост, эти собаки обладают могучим телосложением и сильными челюстями. От них требуется выгнать из норы, задержать или задушить и вытащить наружу барсука или лисицу. Иглошерстные фоксы с азартом лезут в любую нору, смело вступают в бой с ее обитателями, не обращая внимания на раны, полученные во время схватки, и громким лаем дают знать охотнику о местонахождении зверя под землей.
Кровавые, беспощадные драки, кончающиеся гибелью одного из противников, — это их стихия. Они грызутся насмерть и с другими собаками, причем, как правило, маленький фокс может справиться с большой собакой.
Чубчик был ярким представителем неукротимой породы иглошерстных фоксов. Я полюбил его за беспредельную смелость. Привлекало меня в этом псе также и то, что обычная для иглошерстных фоксов свирепость совмещалась у него с добродушием и мягкостью нрава в отношении людей.
При помощи фоксов в первые же дни удалось точно установить, что енотовидные собаки больше не живут в здешних местах. Все норы оказались населенными барсуками. На них и решили поохотиться прибывшие с собаками охотники.
Неприятная, жестокая эта охота. Неохотно вспоминаю о ней, но все же расскажу о тех эпизодах, героем которых был Чубчик.
Представьте себе крутой горный склон, поросший яблонями, алычой и барбарисом. Внизу с глухим рокотом струится горный поток Ходжа-Ата; он то пенится, извиваясь среди темных скал, обдает брызгами берег, то притихает, выбегая из теснин на широкий простор. Но мы не замечаем суровой красоты горной природы. Все наше внимание поглощено работой собак в норах барсуков.
Уже больше часа из-под земли доносится приглушенный собачий лай. Это работает в норе Левко. Он крупнее всех остальных фоксов, зол до крайности, но не обладает хорошими рабочими качествами: не умеет загнать зверя в тупик. Лай слышится то с одной, то с другой стороны — значит, зверь то и дело перемещается в своем подземном жилище. Где копать, где вскрывать нору — непонятно, и охотники бездействуют, проклиная глупого пса.
Все с нетерпением ждут, когда пустобрех наконец вылезет наружу. На смену ему уже приготовлен маленький Чубчик. С Чубчика сняли ошейник, держат его на руках, и пес дрожит всем телом от нетерпения. Его глаза устремлены на темное отверстие входа, голова медленно склоняется то вправо, то влево. Он чутко ловит заглушенные звуки и, видимо сообразив своим собачьим умом, что Левко работает из рук вон плохо, начинает скулить и рваться.
Наконец из норы, утомленный бесцельным облаиванием барсука, появляется Левко. Не успели охотники взять пустобреха на привязь, как Чубчик выскользнул из рук и устремился к норе. И тут произошло то, чего мы никак не ожидали. Левко вцепился зубами в горло Чубчика, и обе собаки, свившись в клубок, покатились под гору. Охотники кинулись за ними, зная, что такая драка может окончиться смертью.
Мы нашли собак у подножия холма. Левко беспощадно душил Чубчика. Не было возможности разжать страшные челюсти фокса. Чубчик слабо хрипел, мышцы его ослабели, в закатившихся глазах угасала жизнь.
В этот критический момент у меня мелькнула счастливая мысль: схватив обеих собак, я бегом кинулся к потоку и погрузил голову ненавистного Левко в воду. Пес пускал пузыри, захлебывался, извивался, но, видимо, сам был не в состоянии разжать челюсти. Однако скоро Левко потерял сознание, и тогда с помощью кинжала мы смогли наконец развести сжатые челюсти.
Обе собаки без признаков жизни лежали на земле.
Всей душой возмущенный происшедшим, я не интересовался судьбой Левко. Все мои усилия были направлены к тому, чтобы вернуть к жизни Чубчика. И вот наконец он открыл глаза, а спустя полчаса, еле передвигая ноги и качаясь из стороны в сторону, брел за мной к пасеке. Пес оказался живучим как кошка, и, не присмотри я за ним, он бы улизнул в лес, туда, где продолжалась охота, где привязанные собаки злобно лаяли на воскресшего «утопленника» Левко.
После этой истории я взял Чубчика под свое покровительство, хотя это псу и не нравилось: он не любил бездействовать. Я отстаивал перед охотниками свою точку зрения, считая, что такую собаку, как Чубчик, надо сохранить для охоты на лису. Лисица не может усидеть в норе при натиске хорошей собаки, выскакивает наружу, где и попадает в руки охотника. Напротив, барсук бешено защищается, предпочитая погибнуть, но не выйдет из своего подземного жилища. Много собак гибнет при охоте на барсуков.
Однажды я остался на пасеке один. Все ушли на охоту в горы. Сижу я за столом под открытым небом, попиваю чай с душистым медом. Чубчик тут же спит у моих ног и во сне взлаивает. Наверное, во сне с барсуком дерется. Вдруг я вижу: зашевелилась одна из тыкв, положенных на завалинке дома. Покачается она в разные стороны и опять встает на старое место. Что за диво? Почему тыква словно живая вертится?
Подошел я осторожно к завалинке и вижу, что в тыкве сидит большая туркестанская крыса. Прогрызла она в тыкве дыру, залезла внутрь и лакомится сочной мякотью.
«Ну, — думаю, — пакость такая, теперь не уйдешь. Заряда не пожалею, а тебя живой не выпущу». Надо сказать, что крысы сильно подпортили собранную мной коллекцию птиц и млекопитающих, и я на них был зол.
Заткнул я прогрызенное отверстие тряпкой, положил тыкву на лужайку возле дома, а сам пошел в комнату за ружьем. Иду я обратно, вкладываю на ходу в ружье патрон, смотрю — возле тыквы крутится Чубчик. Ему хотя крысу и не видно, но чует пес, что в тыкве сидит зверь.
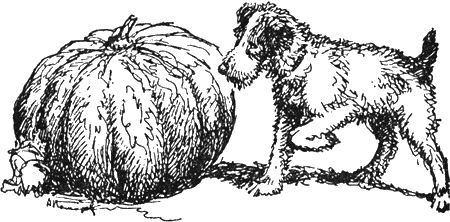
И я решил, что стрелять не буду, пусть Чубчик сам с крысой расправится, а то пес соскучился без охоты. Выдернул я из дыры тряпку, отошел назад, чтобы не мешать Чубчику, и стал наблюдать, что будет. Выскочила крыса наружу и, как завидела собаку, поднялась на задние лапы и зубы оскалила. Только Чубчик на нее кинулся — крыса вцепилась зубами ему прямо в нос. Пес трясет головой, старается освободиться и не может.

Тут я не выдержал — вмешался. И получилось так, что оказал я Чубчику медвежью услугу. Взял я палку да сбоку поддал крысу. Она отлетела от Чубчика шагов на пять. Пес тут же бросился на врага и мигом задушил грызуна.
Взглянул я на победителя и ахнул: половины носа у пса как не бывало — осталась у крысы в зубах. Засуетился я, расстроился — жалко собаку, а Чубчик помахивает обрубком хвоста, смотрит мне в глаза и будто хочет сказать, что охота на крыс ему все-таки очень понравилась. Покрутился он около меня, раза два слизнул языком кровь и отправился домой досыпать.
Ну и Чубчик! Ну и урод! Наверное, другая собака, лишившись половины носа, целый час бы визжала, а Чубчик и внимания не обратил.
На той неделе случилось несчастье. Во время охоты на барсука погибла самая лучшая рабочая собака Ледка. Загнав барсука в отнорок, она, пока охотники раскапывали нору, не выпускала зверя из тупика. Но в самый последний момент барсук решил прорваться, залез под собаку, да так прижал ее к верхнему своду, что у Ледки грудная клетка захрустела. Барсук задушил собаку, но и сам застрял. Так и откопали барсука с мертвой Ледкой на спине.
Потеряв Ледку, охотники снова стали таскать на охоту Чубчика. Я больше не хотел принимать в этом участия, предпочитая бродить с ружьем по горам.
Но как-то раз прихожу домой, а мой хозяин-пасечник и говорит:
— Знаете, а ведь Чубчик пропал.
— Как пропал?
— Да не знаю точно. Говорят, обвал получился и собаку в норе завалило. Пробовали раскапывать — ничего не вышло. Корни да камни мешали. Ну и бросили. А жалко собаку.
Как я это услышал, места себе не меху найти. За что ни возьмусь — все из рук валится. Жду вечера, когда вернутся охотники. Но охотники нового ничего не рассказали. Говорят, собаку откопать невозможно. Оставили они это гиблое дело и в течение целого дня охотились на других барсуков.
Однако на следующий день по моему настоянию охотники показали мне нору, в которой завалило Чубчика. Лег я на землю, приложил к ней ухо и слышу под землей редкий глухой лай. Бедный пес! Бросили его на гибель, а он, верный своему долгу, все еще лает, старается не упустить барсука. Ну и Чубчик!
«Нет, — думаю, — не допущу, чтобы такой пес голодной смертью погиб!»
Пришел я домой и спрашиваю пасечника, где сейчас в лесу работают киргизы из лесничества. Мне было известно их искусство копать землю. Пасечник рассказал мне, где их надо искать, и я тотчас отправился в лес. Однако на поиски ушло немало времени, и только к вечеру я пришел домой в сопровождении двух здоровенных парней.
Раннее утро следующего дня застало нас за напряженной работой. Размахнется рабочий широким кетменем, всадит его до отказа в землю и отбросит целую кучу земли. А мы топорами вырубаем корни, выворачиваем камни, освобождаем путь кетменем. И в минуты передышки прислушиваемся к лаю. Он уже едва слышен — слабый такой. Видимо, собака совсем обессилела без воздуха, воды, пищи.
Часа четыре продолжалась раскопка, но все же мы добились своего — извлекли из-под земли Чубчика. Сколько радости было! Но Чубчик даже как будто был разобижен, что его оторвали от барсука. Немного отдышавшись на воздухе и попив воды (есть ему было некогда), пес опять полез в нору. С раздражением я схватил его за шиворот, посадил в мешок и понес домой. Охотники хотели и барсука вытащить из норы, но я не дал. Чубчик уцелел, пусть и барсук живет на доброе здоровье: он тоже сражался храбро.
Через несколько дней охотники тронулись в Москву, но не прямо, а с заездом на маленькую станцию близ Сырдарьи, где предполагали поохотиться за фазанами.
Там опять с Чубчиком случилось несчастье. Я узнал об этом позже из рассказов вернувшихся охотников.
Во время фазаньей охоты собаки подняли кабана. Как ни мал был Чубчик, но сердце имел львиное и не испугался страшного зверя. Вцепился пес зубами в окорок кабану, да так крепко, что повис на нем. Кабан кинулся в камыши и утащил с собой Чубчика. Долго искали охотники собаку, не нашли и уехали в Москву без Чубчика.

Как кабан отделался от фокса, никому не известно, только спустя неделю Чубчик забежал в отдаленный поселок, а оттуда его доставили на станцию. Вскоре в Москву пришла телеграмма: «Найден Чубчик, выезжайте».
Ну и Чубчик, ну и урод! Побольше бы таких уродов на свет родилось!
Глава пятая
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Много воды утекло с тех пор, как я в последний раз посетил Киргизию.
Высоки киргизские горы, неприступны скалы, круты серые осыпи… «Не по возрасту стала мне эта страна», — решил я и даже мечтать о ней перестал. И вдруг весной 1951 года обстоятельства сложились таким образом, что мне опять привелось побывать в горах Киргизии. В самом начале мая мой спутник Анатолий Николаевич Желоховцев и я сошли с поезда на вокзале Фрунзе[Сейчас Бишкек.] с твердым решением как можно скорее покинуть столицу Киргизии и проникнуть в горы.
Стояло тихое раннее утро.
В зелени садов и парков чутко дремал город, да на горизонте сквозь дымку маячил хребет Ала-Тау. Как знакомо, как близко сердцу все это!
— Сегодня перебросить вас не сумеем, — развел руками один из наших знакомых, когда мы пытались достать автомашину, чтобы немедля перебраться на лесной кордон в горы. — Но завтра это, безусловно, сделаем, — успокоил он нас.
Таким образом, неожиданно у нас оказалось много свободного времени. Целый день в ожидании этого «завтра» мы бродили по тенистым аллеям города, побывали в парках, посетили знакомых. Как все изменилось здесь за последний десяток лет! Разросся, украсился город. Там, где в глубине садов когда-то скрывались глинобитные домики, поднялись каменные здания, улицы соединились с сетью шоссейных дорог, прорезающих страну во всех направлениях.
— Как мне ближе пройти к вокзалу? — спросил я как-то киргизскую девочку. Признаюсь, старая привычка пользоваться жестикуляцией при объяснении с киргизским населением отразилась на моей речи. Но я тут же убедился, что в этом не было никакой нужды.

— Если вы очень спешите, — сказала она, — то я вам советую сесть на шестой автобус. Он останавливается на противоположном углу и самое большее минут через десять доставит вас на вокзальную площадь.
— Нет, нет, мне положительно некуда торопиться, — поспешил я убедить свою собеседницу. — У меня избыток свободного времени, но, гуляя, мне все же хотелось бы идти по направлению к вокзалу, а не в противоположную сторону.
— Ах, вот как! Ну, тогда слушайте…
И девочка обстоятельно и толково рассказала, как мне лучше пройти к вокзалу.
И перед моими глазами встали картины старой Киргизии.
Когда наша экспедиция появлялась в селениях, ребята прятались по закоулкам и следили оттуда с любопытством и страхом за каждым движением незнакомых людей.
Не видно было и женщин, только мужчины выходили навстречу.
Сколько раз мне приходилось видеть, как по дороге к базару на лошади едет муж, а жена идет пешком сзади и несет на спине вещи или ребенка.
Все это в далеком прошлом.
А вот передо мной новая Киргизия. Громадный город утопает в зелени, его улицы покрыты асфальтом. Несоизмеримо вырос, стал культурным народ Киргизии.
Наступила темная южная ночь.
Где-то звенели струны гитары, да в садах в центре огромного города, соревнуясь друг с другом, свистели и щелкали соловьи.
«Как жалко, что не поют соловьи в центре нашей столицы», — думалось мне.
Но вот и горы Киргизии, глубокое и прохладное ущелье Туюк, вот и кордон лесничества. Небольшой русский домик стоит поодаль от прочих построек на дне ущелья при слиянии трех горных речушек. Шумя и пенясь, вырываются они из узких боковых щелей и, слившись в общий поток, стремительно несут свои воды вниз по долине. По сторонам в сотне метров круто поднимаются безлесые холмы, поросшие сочной высокой травой, а выше их сменяют арча да остроконечные темные ели. Глухо рокочут на дне потока тяжелые камни, порой туман заползает в ущелье, а в самом верху на фоне голубого неба блестят и искрятся под лучами солнца зубчатые снеговые вершины.
Утро давно настало, но в глубокой долине еще долго царят холод и сумрак. Что-то суровое, но оздоровляющее и незабываемое в этой картине.
Прошло с неделю, как мы поселились в ущелье Туюк, но ни я, ни мой спутник не решались еще подниматься высоко в горы. Разреженный воздух и у кордона давал себя чувствовать. Мы поздно вставали утрами, не спеша пили горячий чай, и когда наконец лучи солнца заглядывали в глубину ущелья, отправлялись на экскурсию в ближайшие окрестности лесного кордона. При этих небольших прогулках Анатолий Николаевич собирал насекомых, а я особенно интересовался птицами. К сожалению, их было не особенно много, и мне хотелось как можно скорей подняться в альпийскую зону, где состав птичьего населения был для меня более интересен. И чем больше мы свыкались с горным воздухом, тем чаще поглядывали на вершины гор, где среди альпийских лугов поднимались сизые скалы, прикрытые сверху шапкой вечного снега.
Давно намеченный подъем в горы мы осуществили во второй половине мая. Стоял утренний полумрак, когда мы покинули наше жилище и вьючной дорогой направились к ущелью. Вот она поднимается вверх по крутому склону левого берега, достигает вершины небольшого увала, затем ныряет в лощину и приводит нас к мостику. Настил его полуразрушен, оброс мхом и плесенью, но еще прочно держится на двух толстых стволах арчи, перекинутых с камня на камень. Под мостом пенится и ревет поток, наполняя воздух холодной водяной пылью. Такие уголки — излюбленные места гнездования белобрюхих и черных оляпок. Вся жизнь этих необычных птичек протекает на береговых камнях быстрых горных речушек. Избегая ярких лучей солнца, они охотно скрываются под мостами, со звонким криком вылетая оттуда при появлении человека.
С непривычки мы осторожно вступаем на мост, перебираемся на ту сторону и идем берегом до тех пор, пока нависшие над водой скалы не загораживают нашу дорогу. И тогда по такому же мостику вновь приходится перебираться на левый берег речушки и, следуя дальше, с каждой минутой подниматься все выше и выше в горы.
В горах нет однообразия, и вам не бывает скучно. На каждом повороте речки картина меняется. «А что за теми скалами?» — всматриваетесь вы в нависшие над водой камни и незаметно проходите к ним около сотни метров. Водопад и флейтовый свист синей птицы вновь привлекают ваше внимание, побуждая отложить передышку и идти дальше.
Так, в осмотре все новых замечательных уголков природы, в наблюдении за птицами незаметно проходит час за часом, и за это время вы достигаете сначала верхней границы леса, а затем альпийской зоны и снега. И здесь хрюканьем и свистом вас встречают колонии серых сурков. «Хру-уить, хру-уить, хру-уить, хру-уить…» — раздается со всех сторон громкий крик толстых зверьков. Поднявшись на задние лапы, они кричат что есть силы, готовые, однако, каждую секунду скрыться в свою глубокую нору.

Солнце давно перевалило за поддень и стало спускаться к западу. Мы решили повернуть обратно. Надо было успеть до наступления темноты добраться до лесного кордона. Когда мы спустились со скал и достигли субальпийских пастбищ, нам повстречался уже пожилой киргиз-охотник. Узкой тропинкой, пробитой на крутом склоне, он медленно поднимался на лошади в гору; следом за ним шла худая собака.
— Ты куда? — после приветствия спросил я охотника.
— Капканы смотреть, — ответил он, проезжая мимо. — Четыре капкана смотреть будем и назад придем, тебя нагоним, — повернувшись в седле, пояснил он.

Из этих слов я понял, что он торопится осмотреть выставленные капканы и, закончив с этим делом, нагонит нас, чтобы побеседовать на свободе со своим братом охотником. Пройдя еще километра полтора, мы решили передохнуть и уселись на склоне. Здесь нас и нагнал киргиз.
— Вы Фрунзе на охота пришел? — остановившись против нас на тропинке и не слезая с лошади, спросил он.
— Нет, не из Фрунзе, из Москвы мы, — ответил я.
— Из Москвы? — удивился охотник. — Москва хороший, только далеко, ой как далеко, долго ехать надо. Хороший Москва, а гора нет, илек (косуля) нет, теке (козерог) нет — далеко, а охота наша гора пришел, — усмехнулся он.
В знак согласия я только кивнул головой.
— Моя кибит тоже далеко, колхоз меня гора пускай, барса лови, — продолжал он. — Я тоже охотник, охота гора пришел.
Из дальнейших слов охотника я узнал, что он каждый год в этих горах ловит капканами барсов и живыми сдает их заготовительной организации в городе Фрунзе. Сейчас он проверял последние четыре капкана, оставленные на лесных тропинках среди горного ельника.
Обитатель скал барс — и вдруг в ельниках — это меня заинтересовало, и я стал забрасывать вопросами охотника.
— Да ты слезай с лошади, рядом садись, я хочу расспросить тебя о том, как ты барсов ловишь, как охотишься.
— Спасибо, лошадь сидим хорошо, — улыбаясь и показывая белые зубы, отказался он. И, продолжая оставаться в седле, он рассказал мне, что уже пять дней ставит в горах капканы на барса. В прошлом году он поймал пять хищников, но в это лето ему пока не везет: еще ни один барс не попал в настороженную ловушку. Но, впрочем, не везет и его товарищу, который вместе с ним поселился в лесной избушке и ставит капканы в соседнем ущелье.
— Почему же ты на барсов капканы в ельниках ставишь? — продолжая недоумевать, спросил я. — Ведь барс не в лесу, а значительно выше, вон где живет! — И с этими словами я указал собеседнику на серые скалы; сверху и по сторонам их белел и искрился снег.
— Живет и спит камень, — вновь улыбаясь, кивнул головой охотник, тоже указывая мне на скалы, — а илек лови в лес ходит. — И он, ломая русскую речь, рассказал мне о жизни и повадках пятнистого хищника, причем познакомил меня с такими деталями, о которых до этого я не имел никакого понятия.

По словам охотника, в тех районах, где встречаются горные ельники и где в изобилии обитают косули, в мае барсы редко охотятся в скалах за козерогами. Талый снег в это время непрочно лежит на крутых склонах и после захода солнца покрывается скользкой ледяной коркой: ходить по нему даже ловкому хищнику барсу становится небезопасно. Но именно здесь, неподалеку от талого снега, и предпочитают держаться группы козлов-козерогов. Они кормятся на альпийских лужайках и, пробивая копытами корку, свободно пересекают участки непрочного и опасного снегового покрова. При всякой тревоге козлы по узким карнизам проникают на отвесные скалы. Трудно бывает в это время поймать и овладеть добычей горному хищнику. Бросаясь на козерога, он, иной раз промахнувшись, скользит и катится по крутому склону. Трудность охоты и вынуждает барса временно переключаться на охоту за косулями. Незадолго до захода солнца он покидает свое логово в скалах и спускается в горные ельники. Здесь он то крадется, используя для подхода лесные тропинки, то подстерегает косуль на переходах. В такой обстановке овладеть добычей, конечно, сравнительно просто и безопасно.
— А тебе приходилось видеть, как барс ловит илека? — спросил я охотника.
— Глазами смотри не был, а следы видел. Следы все расскажи, как было. — И он живо и интересно рассказал мне, как эта крупная кошка ловит свою добычу, а нагнав, наносит ей клыками жестокие раны и пытается разорвать горло.
Барс охотится совсем по-другому. Его короткие ноги мешают преследовать. Медленно подползает на брюхе хищник, терпеливо выжидает за камнем. Единственный прыжок обычно решает удачу охоты. И, рассказывая об этом, охотник широко развел руками, желая показать, как барс раскидывает свои когтистые лапы, бросаясь на жертву. Конечно, при единственном прыжке барса в момент нападения это имеет большое значение.

Меня поразила большая наблюдательность простого охотника. Охотясь за дикими животными и отлавливая зверей живыми, он не только до тонкости изучил их повадки и образ жизни, но сумел объяснить и связать их биологические черты с особенностями строения. Интересно, что почти то же самое я не один раз рассказывал своим студентам, стараясь подчеркнуть разницу в строении и биологии представителей собак и кошек. Обычно единственный, но зато точно рассчитанный прыжок кошки я сопоставлял с продолжительной и настойчивой погоней за добычей волка.
— Ну а когда барса поймаешь, в мешке его вниз везешь? — спросил я своего собеседника. Мне было хорошо известно, что именно так киргизы-охотники перевозят в горах пойманных барсов.
— Высоко в горах на руках тащим, а хороший дорога лошадь везем, — ответил он.
— А ведь, наверное, интересно барса в горах выследить, а потом живьем взять зверя? — вновь задал я вопрос.
— Интересно, конечно, — кивнул головой охотник, — трудно только — совсем бабай стал. Пять — десять дней гора вверх до снега ходи, потом вниз ходи — только барса поймай.
А ведь верно, сколько умения, труда и выдержки нужно вложить охотнику, чтобы выследить и поймать осторожного хищника. Невольно я с уважением, почти с восхищением смотрел на своего собеседника, на его простенькое ружье, на привязанные к седлу капканы, на тонконогую карюю лошадку с блестящими выпуклыми глазами и широкой грудью. «Вот он, горный охотник, — думалось мне. — Часть его жизни протекает у линии вечного снега, где порой ниже вас ползут тучи, в скалах свистят улары да по едва приметным тропинкам бесшумной походкой осторожно бродит пятнистый хищник». Мой новый знакомый не только выслеживал, но не один раз видел и ловил барса. Признаюсь, от всего этого на меня повеяло романтикой.
Но этот уже пожилой человек с короткой седой бородкой и кирпичным от загара симпатичным лицом, видимо, иначе — просто, по-деловому — смотрел на свое занятие. Правда, он любил охоту, любил суровую природу гор, и когда степной колхоз посылал его ловить барсов, он, не задумываясь, оседлывал свою лошадку и отправлялся в знакомые издавна уголки ущелья Туюк.
— Ну, пора нам домой, кош (прощай), — протянул я ему руку, а потом невольно потрепал гриву и упругую шею лошади. — Лошадка у тебя замечательная, хоть на любую выставку, а вот собака — смотреть жалко, никуда не годится. Взгляни, ведь у нее все ребра пересчитать можно.
— Лошадь корма много, — кивнул охотник на горные увалы, сплошь покрытые яркой молодой зеленью. — Собака ленивый. Сурр (сурок) кругом много. Поймай сурр — жирный будет, не лови — худой будет, — улыбаясь, объяснил он.
Мы повернули налево, а наш новый знакомый стал спускаться к горному озеру, близ которого стояла избушка охотников.
На заходе солнца, когда мы, пересекая субальпийскую зону гор, приближались к дому, меня поразило одно обстоятельство. Множество больших ярко-красных цветов поднималось среди высокой травы по сторонам нашей тропинки; их не было утром, когда мы шли в горы. Они распустились за этот необычно теплый и яркий день и сейчас повернули свои головы к заходящему солнцу.
«Прощайте, чудные, сказочные горы Киргизии», — думал я, бросая взгляд на зелень лугов, на серые скалы, на снеговые вершины.

ПО СТРАНЕ ПУСТЫНЬ — ТУРКМЕНИИ
Глава первая
МАЛЕНЬКИЙ СМЕЛЬЧАК
Однажды в самом начале мая, во время маршрута по пустыням Туркмении, обстоятельства сложились таким образом, что мы были вынуждены задержаться в городе Мары. Неожиданно выяснилось, что наши запасы бензина подходят к концу. Без пополнения горючего нечего было и думать пускаться в дальнейший путь, тем более что впереди на много километров простиралась пустынная, ненаселенная местность. Скорее пополнить запасы бензина и двигаться дальше — было единственное наше желание. Однако, как часто бывает в таких случаях, возникли препятствия.
— Поздно уже, все заперто, бензин получите завтра, — был лаконичный ответ на складе.
Во время экспедиционной работы дорог каждый час, у нас же в ожидании горючего пропадали целые сутки. Какая досада!
«Ну что ж, — покорились мы, — используем этот день для отдыха». С таким решением мы выехали подальше от города, поставили машину близ большого арыка, натянули широкий тент от солнца и разбили палатки. Казалось, на этот раз можно всласть отоспаться и отдохнуть после длительных и утомительных переездов. Да не тут-то было: наши расчеты не оправдались. Об отдыхе и сне нечего было и думать. Чем выше поднималось солнце, тем больше насекомых собиралось у лагеря. К полудню бесчисленное количество мух с жужжанием носилось между палатками, ни на минуту не давая нам покоя. Я попытался скрыться от них в палатке. Однако в ней оказалось настолько душно, что через пять минут я, обливаясь потом, выбрался наружу и предпочел оставаться на воздухе. В конце концов, потеряв всякую надежду найти укромное убежище и заснуть, я отошел в сторону от нашего лагеря.
Не могу сказать, что природа в окрестностях была привлекательна, но все же лучше бродить под палящими лучами среднеазиатского солнца, нежели оставаться в лагере и, не имея возможности ничем заняться, беспрерывно отгонять назойливых насекомых.
В километре от нашей стоянки, среди желтой, выжженной солнцем полупустыни, поднимались развалины древней крепости. Несколько высоких полуразвалившихся строений с куполообразными крышами были обнесены остатками древней стены.
Я направился к этому месту, заранее зная, что там найду что-нибудь для меня интересное. В трещинах глиняных сооружений Средней Азии постоянно обитают стенные ящерицы — гекконы, проводят день летучие мыши, гнездятся птицы. Быть может, мне удастся здесь не совсем бесполезно скоротать время.
Через двадцать минут я у цели, тщательно осматриваю все то, что может привлечь внимание зоолога. Высокая стена разрисована глубокими трещинами. Местами из нее выглядывают стебельки высохших растений, белеет клочок ваты — это воробьиные гнезда. А вон выше темнеет отверстие давно вывалившегося кирпича, а под ним на освещенном солнцем, пыльном фоне стены белые потеки помета какой-то птицы. Интересно, кто там гнездится? И я соображаю, как добраться до этого места.
К сожалению, гнездо, привлекшее мое внимание, помещается довольно высоко и добраться к нему не так-то уж просто. Пользуясь выбоинами, осторожно я поднимаюсь все выше и выше и наконец, достигнув необходимой высоты, заглядываю в глубину гнездового помещения. Но кругом так много яркого света, а в глубине выбоины такая черная тень, что я ничего не вижу и, закрыв глаза, вынужден ждать, когда они отвыкнут от окружающего меня освещения. Но мое положение крайне неустойчиво. Я стою на одной ноге, придерживаясь рукой за край выбоины, другой — опершись на гладкую поверхность стены, и с трудом сохраняю равновесие. «Долго ли я смогу оставаться в таком положении?» — соображаю я и не успеваю мысленно ответить на свой вопрос. Что-то с весьма чувствительной силой в этот момент бьет меня по виску, и я, потеряв равновесие, срываюсь с места и лечу вниз, поднимая своим падением облако мелкой удушливой пыли.

Встав на ноги и не обращая внимания на жестокие ссадины, я растерянно осматриваюсь, но что за диво — кругом ни души. Еще секунда недоумения, близкого к суеверному страху, и все объясняется. Вдалеке я замечаю быстро летящую от меня маленькую сову — домового сычика. Она садится на остатки древней стены и, повернувшись ко мне, начинает выделывать смешные телодвижения.
Птица то быстро вытягивается во весь рост — столбиком, становясь тонкой и длинной, то приседает, сжимаясь в комочек, вертит головой и выкрикивает свое громкое «кук-куку-вау», «кук-куку-вау», «вау-вау». Теперь мне все ясно, и недавние секунды растерянности и недоумения вызывают улыбку. Этот энергичный и смешной сычик дал мне заслуженную затрещину за то, что я ворвался в его владения и пытался добраться до его детенышей.
Отряхнувшись от пыли, потирая ушибленную при падении ногу и оглядываясь назад, я пошел, прихрамывая, в сторону. Я ожидал вторичного нападения, но не страх, конечно, а иное чувство — признания правоты сычика и уважения к нему — заставило покинуть место, где помещалось гнездо с птенцами маленького смельчака.
А успокоившийся комочек энергии, покрытый светлыми перьями, продолжал сидеть на своем сторожевом посту и наблюдать оттуда, как непрошеный гость удаляется от развалин древней крепости. Если бы сычик мог мыслить, как человек, он был бы уверен, что это он прогнал врага от своих птенцов.
Мне всегда хочется изобразить сычика не совсем обычно, а с длинноствольным ружьем за спиной, с огромным кинжалом и с многочисленными мертвыми мышами, привязанными хвостами к поясу. Ведь домовый сычик — настоящий спортсмен-охотник, а его дичь — всевозможные мыши, полевки, песчанки и тушканчики. И ловит он их не только для того, чтобы утолить голод или накормить свое многочисленное потомство. Он азартный охотник и бросается на свою добычу потому, что просто не в состоянии равнодушно видеть бегущую мышь или прыгающего на длинных задних ногах тушканчика, у которого к тому же на кончике хвоста, как приманка, пляшет в темноте плоская белая кисточка. Сейчас я и хочу рассказать о результатах своего осмотра многочисленных сычиных убежищ, где пара этих птиц отдыхала и пряталась от яркого дневного солнца.
Говоря откровенно, в то время, при осмотре убежищ, я не руководствовался научными интересами. Просто я решил поймать пару домовых сычиков, обитавших в нескольких полуразвалившихся древних строениях, одиноко стоявших вдали от селения. Обстоятельства, однако, сложились таким образом, что я не сумел поймать ни одного сычика. Зато я собрал много интересных данных о питании сычиков, о значении их как истребителей грызунов-вредителей и выяснил наличие в этой местности таких зверьков, о присутствии которых ранее не имел сведений.
В полдень, захватив с собой легкую лестницу, я отправился к древним развалинам. Вот темное отверстие, уходящее под остатки крыши здания. В эту жаркую пору там почти наверное скрывается от яркого света маленький ночной охотник. Я бесшумно приближаюсь к этому месту, осторожно подставляю лестницу и засовываю в отверстие руку. «Ага, есть», — соображаю я, ощутив под рукой что-то мягкое и пушистое. Но, увы, это не сычик, а его охотничий трофей — интересный вид тушканчика, которого мне ни разу не удалось не только поймать в ловушку, но и встретить в этой местности. Так, осматривая и ощупывая укромные уголки, где иногда бывают сычики, я собрал пятнадцать различных грызунов и двух полевых воробьев с оторванными головами.
Одно жалко — большинство интересных для меня зверьков поймано не в последнюю ночь и издает уже неприятный запах. Вероятно, энергичный сычик ловил их не только для того, чтобы утолить голод, а так, в запас — ради спорта.
Если бы сычик охотился за полезными животными, его нужно было бы отнести к самым вредным хищникам. Ведь вред волка особенно велик по той причине, что, ворвавшись в стадо, он в запале убивает десятки животных, тогда как в состоянии съесть не более одного барана.
В противоположность волку маленький хищный зверек ласка считается исключительно полезным животным. Если ласку вы, предварительно накормив досыта, оставите в комнате с выпущенными туда мышами, она передушит всех мышей. Такой же азартный охотник и наш сычик. К счастью, он ловит грызунов-вредителей, и мы должны отнести его к полезным птицам.
Пусть рассказ о смелом сычике не пройдет бесследно для моих читателей. Я уверен, что, познакомив с этой милой и смешной птичкой, я сумею внушить к ней симпатию. Однако будет неплохо, если симпатия к нашему герою подкрепится еще знанием той пользы, которую он приносит сельскому и лесному хозяйству.
Далеко к югу, пересекая степные пространства и пески, уходят полезащитные полосы. Растения еще так молоды, что вся полоса едва выделяется среди высокого ковыля и полыни степи. Только здесь и там среди щетины подрастающих молодых деревьев торчат какие-то вешки — бесчисленное множество их образует зигзагообразную линию и уходит к югу до самого горизонта.
А ведь не случайно заботливая рука доставила жерди из богатых лесом районов и вкопала их среди степных просторов. Это не вешки, указывающие несуществующую дорогу, а наблюдательные пункты для разнообразных полезных пернатых, охраняющих молодые насаждения — результат громадного труда человека.
Среди же этих птиц, пожалуй, на самом первом месте должен быть поставлен наш знакомец — смешной и смелый домовый сычик.
Вооружитесь хорошим биноклем и в вечерние сумерки тщательно осмотрите окрестности. На одной из воткнутых в землю жердей или на одиноко стоящем дереве, я убежден в этом, вы найдете нашего сычика. Неподвижно он сидит на его верхушке или суке и своими зелеными кошачьими глазами всматривается в серую степную почву. Уверяю вас, глазастый сторож не пропустит, не оставит живой ни одной мыши или полевки. Если вы захотите проверить справедливость моих слов, вкопайте небольшой столбик среди вашего огорода. Хомяки, полевки и песчанки перестанут портить ваши посевы и овощи, и перестанут только потому, что энергичный ночной хищник выловит их почти всех до единого. Полезен он также и в жилье человека. Часто он гнездится под крышами жилых построек, в конюшнях и хлебных амбарах колхозов. Ведь не случайно его называют домовым сычиком. Незаметно для человека здесь он приносит огромную пользу. Мышевидные грызуны и воробьи, привлеченные сюда зерновыми запасами, — основная его пища.
Но как же приятен и в то же время полезен домовый сычик в неволе, тем более что, содержа его в амбаре или на чердаке, вы как раз предоставляете ему обстановку, в какой он предпочитает селиться на свободе.
Живя в неволе, не хуже домашней кошки он уничтожает мышей и крыс, проявляя при этом исключительное умение и смелость.
Как-то в мою квартиру проникла крупная серая крыса. Сначала я пытался поймать ее капканами, расставляя и маскируя их тщательным образом. Однако в течение недели мои попытки избавиться от назойливого вредителя не увенчались успехом. Сообразительный зверь умело обходил ловушки. Отказавшись от капканов, я достал кошку. Но и этот испытанный помощник в борьбе с домашними грызунами потерпел поражение. После нескольких жестоких укусов, нанесенных крысой, кошка предпочитала наблюдать за крысой издали.

Тогда я вынужден был обратиться за помощью к двум домовым сычикам, жившим у меня в вольере. Мирясь с «визитными карточками» сычиков, я выпустил их в комнату. Громкий, отвратительный визг крысы разбудил меня в ту же ночь. Вцепившись когтями, две смелые маленькие птицы душили крупную крысу и тянули ее в разные стороны. Не зажигая света, я выждал, когда сопротивление грызуна прекратилось.
Не менее полезны для сельского и лесного хозяйства и наши совки. Питаются они грызунами и насекомыми, только предпочитают ловить свою добычу не в полях и в открытой степи, а в лесах.
К сожалению, полезные домовые сычики, странные голоса которых часто внушают страх суеверным людям, и ныне подвергаются несправедливому гонению.
Пусть же поймут мои читатели, что это пережитки далекого прошлого и что нужно беречь наших полезных пернатых. Суеверный страх перед ночными птицами пусть отойдет в область преданий, как ушел безвозвратно страх перед лешими, чертями и ведьмами, рассказы о которых ныне вызывают даже у детей снисходительную улыбку.
Глава вторая
ЗЕМ-ЗЕМ
Зем-зем — какое странное название. И кажется, что за ним скрывается совсем маленькое животное, быть может способное кусаться или, пожалуй, ущипнуть больно-больно, но не причинить вам вред или серьезную боль. Однако, как мы убедимся позднее, это только так кажется. Зем-зем — что-то иное, столь не соответствующее своему названию. Туркмены этим именем называют ящерицу, но ящерицу не обычную, маленькую, которую мы привыкли встречать в наших полях и лесах, а ящерицу огромных размеров — истинного великана среди наших ящериц. Русское население Туркмении часто называет ее пустынным крокодилом, а правильное, научное название ее — серый варан. Размеры варана по сравнению с другими нашими ящерицами действительно огромны. Животное в метр длиной принято считать средних размеров, экземпляры в полтора метра — крупными.
Обитает варан в Туркмении повсеместно — в песчаных и глинистых пустынях среди зарослей тамариска и саксаула, в невысоких предгорьях и не только в безводных, но и в изобилующих водой местностях. Особенно часто встречаются вараны там, где почва степей и пустынь пестрит выдутыми ветром ямами, древними сухими арыками, берега которых бывают сплошь изрыты норами черепах и тонкопалых сусликов. В покинутых жилищах этих животных, расширяя их и углубляя, проводит варан зиму и наиболее жаркое время дня летом.
Впрочем, я не собираюсь подробно описывать жизнь варана. Но мне хочется поделиться своими воспоминаниями о встречах с этими животными на воле.
Быстро катится наша автомашина по дорогам пустыне Каракумы. Ныне такие дороги в Каракумах совсем не редкость. Местами дорога исчезает, она занесена движущимися песками, но машина с разгона пересекает трудное место и вновь выходит на твердую почву. Почти беспрерывно на нашем пути попадаются животные. Вот впереди небольшая группа антилоп-джейранов. Обеспокоенные нашим появлением, они останавливаются, зорко следят за машиной. Пока она далеко и, видимо, не внушает им опасения. Через сильные стекла бинокля хорошо видны их стройные фигурки, почти сливающиеся с песчаной почвой, большие глаза, черные копытца и рожки. Расстояние между нами и животными быстро сокращается, и вот один из джейранов, семеня ножками, пускается наутек, а за ним и весь табунчик, поднимая желтую пыль, бежит от нас все дальше и дальше, пока не исчезнет за песчаными холмами на горизонте.
Исчезли джейраны, и наше внимание тотчас привлекает небольшой зверек — тонкопалый суслик. Он неожиданно появляется в глубокой колее дороги и, вместо того чтобы свернуть в сторону, прекратив этим мнимое преследование, начинает соревноваться с машиной в скорости. Сначала это ему удастся. Колеса завязают в песке. Мы двигаемся сравнительно медленно, и зверек успевает значительно опередить нас. Но силы вскоре ему изменяют. Он бежит все медленнее, а машина, выйдя на более твердый грунт, подвигается вперед быстрее. Наконец наступает критическая минута. Мы нагоняем убегающее животное. И тогда суслик на быстром бегу резко изменяет направление, ныряет в дорожную пыль, и она скрывает его от наших взоров. Этот прием, конечно, может обмануть лисицу или другого хищника, но не спасти от колес быстро идущей машины. Счастье зверька, если он случайно избежит гибели и проскользнет назад. И тогда расстояние между нами увеличивается с двойной скоростью. Перепуганный суслик улепетывает в обратном направлении, а мы продолжаем свой путь дальше.
Глинистая равнина остается позади, ее сменяет холмистая степь, заросшая высокой травой и разукрашенная крупными маками. Вдали отдельные цветы сливаются, и кажется, что по зеленым просторам разбросаны здесь и там ковры, то совсем бледные, розовые, то ярко-красные.
И вот среди зеленых просторов на смену тонкопалому суслику появляется маленькая птичка — варакушка. Она несвойственна степям и пустыням. Варакушка спешит на свою родину к северу и не желает свернуть с нашего пути. Маленькой птичке со слабыми крылышками, видимо, легче лететь низко над глубокой колеей дороги, где нет ветра, и, вместо того чтобы свернуть в сторону, она упорно скользит по воздуху впереди движущейся машины, то значительно опережая ее, то трепеща крылышками перед самыми колесами.
При быстром движении автомобиля окружающая картина вновь быстро меняется. По сторонам опять ровная степь, оголенная глинистая почва и участки сыпучих песков. Впереди нас в колее дороги появляется гигантская ящерица — варан. Сначала, пользуясь своим быстрым бегом, он пытается опередить машину, но затем круто сворачивает с дороги, и хотя машина уже прошла мимо и удаляется, он еще долго бежит по степи, извиваясь всем своим телом, пока на его пути не попадется полуразрушенная нора, где он и укроется.
Мы решили поймать варана — это оказалось совсем нетрудно. Новый варан появляется на дороге, машина сбавляет скорость, я соскакиваю на землю и, насколько хватает сил, бегу за улепетывающей ящерицей. Варан утомляется, бег его становится медленнее — уйти невозможно. И тогда он круто поворачивается ко мне и приготовляется к защите. Задохнувшись от быстрого бега, я уже медленным шагом приближаюсь к варану, и оба мы, возбужденные и утомленные, несколько секунд стоим один против другого. Мой противник, несколько приподнявшись на передних лапах, раздувает и без того широкую шею, шипит, то и дело высовывая длинный язык, бьет по земле, как плетью, своим длинным хвостом. Его поза, его поведение — сама угроза. Но этот прием напрасен. Я и без того не решусь подойти слишком близко и не буду подвергать себя болезненным укусам. Мне хорошо известны сильные челюсти этой ящерицы, ее мертвая хватка. Вместо открытого нападения я прибегаю к хитрости. Я знаю, что хвост варана — его ахиллесова пята, и начинаю ходить вокруг животного, сначала медленно, потом все скорей и скорей. Варан поворачивается за мной, но чем быстрее я двигаюсь, тем его движения становятся менее уверенными. Он явно растерян и не знает, что предпринять.

Наконец, пользуясь замешательством ящерицы, я быстро схватываю ее за конец хвоста и приподнимаю над землей. В таком положении варан беззащитен. Он то бьется, пытаясь освободиться, то бессильно повисает вниз головой в воздухе. Торжествуя, я несу свою добычу к нашей машине.
Но однажды варан — это, в общем, совершенно безобидное животное — напугал меня до такой степени, что я больше часа не мог овладеть собой. Ощущение было крайне сильное, и хотя длилось совсем короткое время — всего две-три секунды, я надолго его запомнил.
В тот памятный день я рано покинул наш лагерь и, когда солнце начало мучительно жечь, поспешил обратно. Скрываясь в тени, я шел вдоль глинистого обрыва, который местами не превышал моего роста. Комья обвалившейся глины затрудняли мое движение, но я устал от яркого света и продолжал путь у самого обрыва.
На одном повороте я заметил тело пресмыкающегося, которое тотчас скрылось в полуразрушенной норе, помещавшейся вровень с моим лицом в глинистом обрыве. Я осторожно приблизился к этому месту, но животного не было видно. Тогда я издали сунул в нору выломанный гибкий прут тамариска. Из глубины послышалось угрожающее шипение. «Наверное, это змея», — мелькнула у меня мысль. Я не имел возможности без лопаты извлечь пресмыкающееся и, нарвав травы и сделав из нее большой комок, туго забил выход. Лагерь совсем рядом, и я, конечно, вернусь сюда с лопатой, чтобы раскопать нору.
Тщательно осмотрев забитое отверстие и убедившись, что все в порядке, я сделал несколько шагов вперед, и тогда произошло то, чего меньше всего я ожидал.
У самого лица я услышал громкое шипение и в тот же миг ощутил сначала прикосновение, а затем и тяжесть холодного тела на своей голой шее. Пытаясь сбросить его с себя, я сделал неверный шаг и, споткнувшись, упал в рытвину.

Животное оказалось подо мной, оно извивалось и шипело — я был уверен, что это ядовитая змея гюрза. Лишь несколько позднее, когда мне наконец удалось отскочить в сторону и встать на ноги, я увидел, что это не змея, а безобидный варан, который стремглав кинулся от меня наутек.
Он был страшно напуган. Я тоже долго не мог успокоиться, вновь и вновь возвращаясь к пережитому, вспоминая все детали, и мне казалось, что холодное тело жжет мою шею. Со стороны все это могло показаться смешным. Я готов был смеяться сам, но руки мои продолжали трястись, а зубы выбивали частую дробь. Наконец я поднялся, чтобы покинуть место происшествия, но направился не к лагерю, а к речке, где холодной водой обмыл лицо и шею.
Мои спутники так и не узнали об этом случае. Однако как же все это произошло? Нора оказалась сквозной. Она начиналась на обрыве и, сделав полукруг в два метра, вновь выходила наружу — в обрыве же. Таким образом, забив травой вход, я оставил открытым выход. Испуганное и раздраженное животное, конечно, пыталось улизнуть незаметно, но я был слишком близко и мешал этому. Мое приближение к выходу делало его побег почти невозможным. Выскочив из предательского убежища в самый последний момент, варан и попал мне на шею.
Вскоре после случая с вараном мы остановились близ одного кишлака. В день отъезда нам подарили здесь живого варана. Само собой разумеется, что он для нас не представлял никакой ценности, но как отказаться от чистосердечного подарка! Варан был водворен в пустую бочку, прикрыт брезентом и в этом помещении совершил с нами длительное путешествие. В дальнейшем ему было суждено оказать нам большую услугу. Хлопот с ним почти не было, но приходилось постоянно помнить, что с нами едет кусачий четвероногий спутник. Забудет об этом кто-нибудь, откинет брезент, а под ним варан. Ослепленный ярким светом, он раздраженно зашипит, с силой забьет хвостом по стенкам, и рассеянный человек отскочит от бочки как ужаленный.
Мы давно решили от него освободиться, выпустить на волю, но наше решение откладывалось со дня на день. Кажется, чего проще — выбросить варана из его темницы, но и на это не хватало времени. Так уж заведено в подобных экспедициях, что все с утра и до вечера заняты. Шофер возится с мотором машины, у рабочего много всевозможных обязанностей, помимо которых необходимо сварить обед и ужин, а мы заняты зоологическими сборами — стреляем зверей и птиц, снимаем с них шкурки, ведем дневники, привязываем этикетки. И так изо дня в день, с раннего утра до позднего вечера ни одной праздной минуты, а тут еще извольте с вараном возиться.
В один прекрасный день наконец наш варан сам решил выбраться из темницы и упал с кузова на землю. Однако вместо того, чтобы разумно воспользоваться свободой, он залез под колеса. Мы извлекли его оттуда и выпустили, отнеся в сторону. Но наш спутник, видимо, считал машину наиболее безопасным местом и на этот раз залез под самый кузов. После долгой возни мы извлекли его оттуда и вновь водворили в бочку.
Совместное путешествие продолжалось. Но вот однажды мы расположились на ночь у маленького городка Тахта-базара. На берегу реки Мургаба был разбит лагерь. Вечером рабочий разостлал у машины широкий брезент, и мы, растянувшись на нем после утомительного дня, мгновенно заснули.
Ночью я проснулся, как мне показалось, от выстрела. Безусловно, выстрел прозвучал над самым моим ухом, но кто же мог выстрелить? Мои спутники крепко спали, кругом никого не было видно. Я сел на своей постели и чутко прислушался. Было тихо, ярко светила луна, рядом журчал мутный Мургаб. Иногда выскочит из воды крупная рыба, шлепнется обратно, по сонной воде пойдут круги, и опять тишина. Но кто же стрелял? Не сон ли это? Я поднялся на ноги и обошел машину кругом. К моему удивлению, часть наших вещей лежала на земле в беспорядке, кабина оказалась открытой. Несомненно, здесь хозяйничал посторонний. Я разбудил своих товарищей. Уже беглый осмотр убедил нас в том, что лагерь ночью посетили воры, все наши патроны были ссыпаны в одну сумку, другие вещи связаны в узлы. Но кто мог помешать краже, когда мы все крепко спали? И тут я вспомнил нашего четвероногого спутника. Бочка оказалась открытой. Несомненно, вор в поисках добычи сунул руку в темницу варана и потревожил ящерицу. Могучий удар хвоста варана о стенку разбудил меня и во сне показался мне выстрелом. Шум заставил, видимо, воров скрыться. Все наше экспедиционное имущество, за исключением котелка с жареной бараниной, было цело. Варан оказал нам громадную услугу. Что стали бы мы делать с нашими ружьями без единого патрона?!
Наша экспедиция приближалась к концу. Шофер, не жалея своих сил, день и ночь гнал машину полным ходом. Вот наконец мы совсем близко; впереди виден дым от труб Ашхабада, слева от нашего пути лежат последние бугристые пески. Я настойчиво стучу в кабину, и удивленный шофер выключает мотор и высовывает из кабины голову. Вместо объяснения я открываю бочку и, схватив варана за хвост, осторожно бросаю его в сторону. Машина движется дальше, скорость ее возрастает с каждой секундой. Мы спешим в Ашхабад, домой. А наискось от дороги, извивая свое длинное тело и блестя чешуей на вечернем солнце; тоже домой, к родным пескам, бежит наш спутник зем-зем.
Маршрут закончен — мы в Ашхабаде. Днем уже не жара, а настоящее пекло. Пора возвращаться в Москву, к прохладе. Ранним утром самолет отделяется от земли. Десять летных часов, и мы уже дома. Здесь еще весна; на березках только распускаются душистые молодые листочки.

В ДЕЛЬТЕ ВОЛГИ
Глава первая
РАЗБОЙНИКИ
Широка и, кажется, бесконечна дельта великой русской реки Волги. Ниже Астрахани от мощного русла ответвляются бесчисленные протоки, быстро несущие свою мутную воду в Каспий. Низкие болотистые их берега заросли тростниковыми крепями да водолюбивыми кудрявыми ивами.
Местами протоки так узки, а береговые деревья так развесисты, что вода струится под тенистым зеленым сводом. Но вырвутся протоки к мелким култукам взморья, и вашим глазам представится необъятный простор. Здесь и там среди водной глади выступают низкие островки, вдали зеленеет на косах ивовая поросль, желтеют пятна прошлогоднего тростника.
Давно освоена дельта реки человеком, но и поныне сохранилась ее небогатая, но своеобразная фауна. Дикие кабаны табунами бродят в тростниковых зарослях, нередка выдра, а водяных птиц столько — представить трудно! Дельта — настоящее царство всевозможных голенастых птиц, серых гусей, уток. Черные бакланы, долговязые цапли, колпицы, каравайки образуют здесь крупные гнездовые колонии. Десятки гнезд иной раз покрывают одну развесистую иву, а сколько таких деревьев на лесном участке, избранном птицами для гнездовья! И когда вы бесшумно скользите по быстрой протоке на легкой лодочке, вы беспрерывно видите летящих птиц. Вот потянула за пищей стая коричневых караваек, образовав угол; не спеша туда же летят кваквы, медленно взмахивая широкими крыльями; как будто воздушный кораблик, плывет в воздухе чудная белая цапля. Еще больше птиц на взморье. Здесь гнездятся гуси, черноголовые и серебристые чайки-хохотуньи, кудрявые пеликаны; сюда на отмели и косы прилетают кормиться голенастые птицы, гнездящиеся на лесных островах дельты. Раскатистым хохотом крупных чаек, гусиным гоготом и шумом взлетающей пеликаньей стаи встречает взморье появление человека. Вот впереди лодки из зарослей ивняка выплывает пара гусей. Осторожные птицы совсем близко, но не взлетают в воздух и, тревожно озираясь, быстро плывут вперед. Едва удерживаясь, на спине гусыни примостились четыре пуховичка-гусенка.
Близость человека наконец заставляет взрослых гусей подняться на крылья, и пуховички остаются одни. Но гусята-малыши не беспомощны. Они проворно ныряют и благополучно уходят от нашей лодки.
Вдали справа темнеет на блестящей водной поверхности большое пятно. За островок его можно принять издали, но пятно движется, изменяет свои контуры. Еще две-три минуты — и вам хорошо видно, что это крупная стая серых гусей. Некоторое время они, высоко подняв головы, плывут вперед, но затем, когда расстояние между ними и лодкой сокращается, с шумом и гоготом поднимаются в воздух. Сначала беспорядочной массой, потом выстроившись углом, гуси низко летят над водной гладью и вдруг, достигнув зеленой косы, круто взмывают вверх. Миновав косу, стая опять опускается к самой воде и постепенно исчезает на далеком горизонте.
Что там такое? Невидимые нити, что ли, преградили дорогу летящим птицам, почему они взмыли вверх над косой? На этот раз там ничего нет, но в зеленой чаще ивовых зарослей легко укрыться вместе с лодкой охотнику, а осторожность никогда не мешает.
В центре птичьего царства в дельте Волги помещается Дамчинский кордон Астраханского государственного заповедника. Уютный и во всех отношениях замечательный уголок, и кто хоть раз побывал там, никогда его не забудет. Едете вы на лодке широкой и быстрой протокой, как будто вдали от людей. По сторонам тростники да ивы, иногда взлетит цапля или под натиском потревоженного кабана затрещат заросли.

Одним словом, настоящая глушь и безлюдье окружают вас. И вдруг впереди лодки, сквозь зелень прибрежных деревьев мелькнет красивый голубой домик, за ним другой, еще и еще — целый поселок чистеньких голубых зданий. Теперь, когда кордон рядом, вы обнаруживаете одну особенность. Все домики стоят не на земле, как в обычном селении, а на высоких сваях.
Жилые постройки, общежитие и комнаты для приезжих, столовая, лаборатории, продуктовый ларек — все есть в голубом поселке. Даже коровы, собаки и куры есть в этом селении, только нет улиц. Их заменяют деревянные мостки на сваях и сама протока, на берегу которой стоит катер да в маленькой бухточке флотилия лодок.
Проводимые в заповеднике исследования, запрещение охоты на обширной территории и активное воздействие человека на природу имеют большое значение для сохранения в дельте Волги местной фауны, для увеличения численности ряда ценных зверей и птиц. Кабан в дельте, например, самое обычное животное. В высоких и густых зарослях его нелегко увидеть, но вы можете поднять несколько кабанов с лежек и быть свидетелем, как обеспокоенные звери ломятся сквозь густую чащу. А сколько белых цапель сейчас в заповеднике!
Не так давно эти великолепные птицы были почти полностью истреблены во многих частях нашей страны. Длинные красивые перья — эгретки, отрастающие на спине у цапель, оказали им плохую услугу. В дореволюционной России белые цапли добывались в самый разгар размножения ради драгоценных перьев, и чудная птица вскоре стала у нас большой редкостью. Постоянное преследование и стрельба из ружей научили белую цаплю держаться особенно осторожно. А если не заметит иной раз цапля опасности, налетит случайно на охотника, то всеми силами пытается ускользнуть от губительного выстрела. Мало того, что она изо всех сил машет крыльями, но и ногами работает, как будто пытается ими оттолкнуться от воздуха. Посмотришь на выкрутасы птицы — смешно и жалко ее станет. Сейчас большие белые цапли во множестве гнездятся в Астраханском заповеднике, самыми обыкновенными птицами здесь они стали и, как мне кажется, утратили в значительной степени свою осторожность. Много раз налетали на меня белые цапли совсем близко, но ни одна из них со страху в воздухе выкрутасов не делала. Увидит, на одно мгновение шею вытянет, голову набок склонит, несколькими взмахами своих широких крыльев отбросит себя далеко в сторону и опять спокойно летит своей дорогой.

Одним словом, зверям и птицам привольно и спокойно живется в заповеднике. Все лето пройдет, а местная птица и выстрела не услышит. Однако как у человека, так и у четвероногих и крылатых обитателей дельты бывают невзгоды, огорчения, есть и враги.
Иной раз спрячешься среди тростников и сидишь неподвижно — хочется близко кабана понаблюдать. Да не тут-то было! Назойливо пищат комары, лезут вам в глаза, в уши, кусают шею. Сначала немного, а потом все больше и больше собирается около вас этих маленьких беспощадных мучителей. Какие уж там наблюдения! Сохранять полную неподвижность становится невозможным — заедают комары, да и кабан не дурак. Слышит — множество комаров в одном месте, значит; там что-то живое прячется, подходить опасно. И, осторожно зайдя против ветра, чуткий зверь несколько раз втянет в себя воздух, затем с шумом выдохнет его, выражая этим свое недоверие, и кинется прочь сквозь заросли.

В иные годы комаров на кордоне бывает великое множество, и тогда они не дают житья животным и людям.
Правда, сейчас от них в любом доме отдохнуть можно. В каждой квартире и в лабораториях на окнах — рамы с мелкой металлической сеткой, а столовая вообще представляет собой большую вольеру, сквозь которую свободно продувает освежающий ветер и не в состоянии проникнуть назойливые насекомые. «Близок локоть, да не укусишь», — гудят они за металлической сеткой.
«Помни о смерти» — вспоминается мне краткое латинское изречение. Невольно я вспоминаю его, читая на дверях кордона другую надпись. «Не забывай о комарах» — гласила она. Такое напоминание для рассеянного человека здесь весьма кстати. Ведь комары в жилище — это величайшее мучение.
Но что комары! Почище комара мучитель обитает в заповеднике. Серую ворону вы уж, наверное, все знаете. Вредная, невыносимая птица, и хотя она везде вредна, где водится, но вороны Астраханского заповедника в этом отношении вне конкуренции — настоящие разбойники[В настоящее время точка зрения ученых изменилась. Наука отказалась от понятия «вредности» того или иного живого существа. — Примеч. ред.].
Они не дают покоя гнездящимся птицам, мешают полноценно работать ученым. Десятки смышленых птиц целыми днями торчат на кордоне. Видимо, для них кордон — это сборный пункт, где к тому же всегда есть надежда чем-нибудь поживиться. Они снуют по крышам, топчутся у кухни, осматривают лодки, в которых на кордон доставляется рыба. Чуть кто зазевался — и проворные птицы тащат все съедобное.
«Цып-цып-цып», — сзывая своих кур, выходит на крыльцо старушка с кастрюлькой какой-то каши. Она высыпает ее в деревянное корытце, но, на беду, столкнувшись с соседкой, перекидывается с ней несколькими фразами. Такой оплошности вполне достаточно. Несколько ворон, энергично дергая и толкая глупых кур, в одно мгновение уничтожают кашу.
— Бабушка, — кричу я издали, — бабушка, вы кого накормили?
— Как, милый, кого? Курочек.
— Не курочек, а ворон накормили, — показываю я на птиц, сидящих на крыше.
— Ах ты Господи, опять все съели! — волнуется старушка. — А я-то разболталась, все забываю, что кругом эти воры.
Но мелкие кражи вороватых птиц на кордоне — это полбеды. Вред, приносимый ими колониально гнездящимся цаплям, каравайкам, колпикам и бакланам, гораздо больше.
«Карр-карр», — деловито кричит одна из ворон, и по этому сигналу все ее товарки, расхаживающие среди построек и отдыхающие на крышах, покидают кордон. «Испугались кого-нибудь, что ли?» — подумал я, впервые наблюдая такое поведение вороватой компании. Но птицы вели себя так совсем по другой причине.
От кордона отчалила лодка и, гонимая кормовым веслом, быстро заскользила вниз по течению. Она направлялась туда, где на деревьях ивы разместилось крупное поселение бакланов и цапель. Но где же улетевшие из кордона вороны? Они уже далеко впереди. Сидя на вершинах растущих на берегу ив, они деловито следят за вашим маршрутом. «В какую колонию направляться?» — бросают они на вас пытливые взгляды. И если при разветвления проток вы свернули вправо, то и вороны летят в этом направлении; до места вы их уже не увидите.

«Карр-карр-карр», — торжествующим приветствием встречают они вас у самой колонии. Что, мол, долго копался на своей лодке — скорей к делу!
Над быстрой протокой повисли ветви крупных ив; массивные гнезда здесь и там темнеют среди зелени. На них сидят какие-то крупные черные птицы. Это бакланы насиживают свои яйца. Появление лодки их беспокоит.
Вот, вытянув длинную шею и следя диким зеленым глазом за непрошеным гостем, один из бакланов покидает яйца. Тяжелая птица неуклюже срывается с ветви, усиленно взмахивая крыльями, спускается почти до самой воды и, наконец, летит в сторону. «Карр», — торжествующе кричит одна из ворон и, на одно мгновение усевшись в оставленное гнездо, схватывает яйцо и поспешно улетает с ним в лесную чащу.
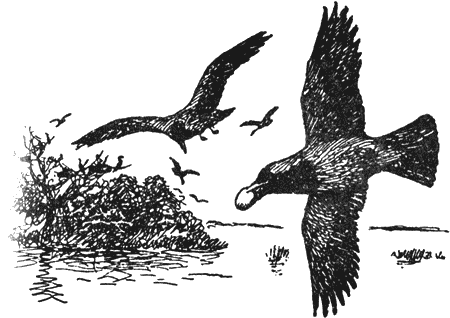
«Карр», — орет вторая ворона и уже тащит второе яйцо из гнезда баклана. Примеру двух первых успешно следует еще одна птица. Совсем иной, раздраженный, крик четвертой вороны явно показывает, что она опоздала, — яиц в гнезде не осталось. Она срывается с места и с криком преследует товарку, утащившую последнее яйцо кладки.
Каждая ворона съедает свою добычу в определенном месте. В сухое лето, когда воды мало, яйца расклевываются на земле среди леса. Десятки зеленоватых, ярко-голубых, как южное небо, белых и пестрых скорлупок яиц валяются здесь на так называемых «кормовых вороньих столиках».
«Карр», — рядом с вашей лодкой садится на иву ворона. Это значит — яйцо выпито, можно начинать сызнова. Ворона смотрит на вас с таким доверием, с такой надеждой! И действительно, вы заслуживаете этого, ведь вы ее настоящий помощник.
Замахнувшись длинным шестом, я как-то пытался отогнать обнаглевшую птицу. К сожалению, я не достиг цели. Нахальный разбойник, вероятно, решил, что это движение предназначено не для нее — вороны, а для бакланов, продолжавших упорно сидеть на яйцах. Разве можно при таких условиях часто посещать птичьи колонии? Ведь там вас встретит десяток, а то и два жадных, дерзких и энергичных хищников, видящих в человеке своего соучастника. Проникновением в колонию вы, вопреки своему желанию, обязательно погубите несколько гнезд.
Если бы знал читатель, как мне хотелось схватить ружье и сделать по воронам несколько выстрелов. Ведь эти умные птицы, узнав о сокрушительном действии огнестрельного оружия, начинают бояться его больше всего на свете.
Как-то в селении Кортун, расположенном на реке Иман в Уссурийском крае, куда я только что прибыл, я увидел интереснейших для меня птиц — большеклювых ворон. Десятки их доверчиво бродили по улицам, садились на спины свиней, отдыхали на заборах и крышах. Я немедленно извлек из чехла ружье, чтобы добыть хоть одну для своей коллекции. Но увы! Все мои попытки окончились неудачей. Как будто зная мое намерение, вороны тотчас разлетелись куда попало и перестали посещать селение.
Тогда я вышел в окрестности и, пряча ружье, пытался приблизиться к птицам. Два дня я потратил на эту охоту и не добыл под Кортуном ни одного экземпляра. Почему же так осторожны оказались птицы? Да потому что ранней весной один из местных охотников, пристреливая свое ружье, сделал по воронам несколько удачных выстрелов.
Я глубоко убежден, что, истребляя серых ворон путем отстрела, можно добиться блестящих результатов. Одного вашего появления с ружьем будет достаточно, чтобы разогнать жадную стаю разбойников. И в то же время ценных гнездящихся птиц, не допуская по ним стрельбы, можно приучить, чтобы они вовсе не реагировали на ружейный выстрел. Разве я на практике не видел таких примеров?
Как наяву передо мной встает такая картина. Далекий Север, холодное, суровое море, крик морских чаек. Нет ветра, но после ночного шторма тяжелые, свинцовые волны с белыми гребешками одна за другой катятся по водной поверхности, с грохотом разбиваются о прибрежные скалы. Я стою над береговым обрывом, вслушиваюсь в рокот прибоя, смотрю на небо. Лохматые клочки облаков быстро бегут по мутному фону; где-то позади кричат гуси, до меня долетает бодрый гогот серого гуся и унылый гогот гуся-гуменника.
С тревогой вслушиваюсь в голоса крикливой гусиной стаи. Как уныло здесь, когда нет солнца. Но вот гуси исчезают вдали, затихает их крик, а вслед за ними медленно наползает туман, скрывая от глаз беспокойное море, береговые скалы, каменистую тундру. «Уу-ах, уу-ах», — в стороне громко кричит гагара, и ее крик сквозь туман доносится как будто из другого мира. И вдруг совсем близко оглушительный пушечный выстрел обрывает ход моих мыслей. Невыносимый от неожиданности звук пронизывает нервы, колет в пятки.

Близ местного маяка стоит пушка. В туманные дни через каждые двадцать минут раздается пушечный выстрел.
Это маяк предупреждает проходящие пароходы о близости опасных подводных скал, о близости острова. Но интересно для нас другое. Под самым стволом орудия на гнезде спокойно сидит гага. Она занята высиживанием своих яиц, и ее не тревожат пушечные выстрелы. Неподалеку от этого места, на ровном участке тундры, во множестве гнездятся сизые чайки, полярные крачки, короткохвостые поморники. Воинственно они встречают каждого человека. Туча белых, сизых, темных птиц, наполняя воздух резкими криками, вьется над самой головой пришельца, бросается с высоты, взмывает вверх, чтобы вновь через секунду повторить нападение. Появление человека их беспокоит, мешает насиживать яйца, но до пушечной стрельбы им тоже нет дела.
— А в Москве народу! От огней, наверное, как днем светло, — возвращает меня к действительности мой юный спутник Аркадий.
— Да, народу много. В праздник вся Москва гудит, по улице не пройдешь. Зато у вас здесь тишина, простор, — окидываю я уходящую вдаль протоку.
— Народу много, а куда хочешь, туда и пойдешь, а тут простор, а пойти некуда, — отвечает Аркадий. — Камыши, вода кругом.
— Знаешь, Аркаша, — успокаиваю я своего спутника, — человек никогда не бывает доволен тем, что имеет. Попадешь надолго в Москву, вспомнишь эту протоку: рыбы в ней сколько, сазаны какие! Вот я на берегу Баренцева моря на Севере когда-то был. В плохую погоду там просто тоска безысходная. Волны ревут, ветер воет, и самому волком завыть хочется. А местные рыбаки как уедут оттуда, с тоски места найти не могут. Я раз встретил такого рыбака в чудном уголке на Кавказе и после его жалоб спрашиваю его: «Да что у вас там хорошего, здесь-то разве плохо?» — «Все бы ничего, земля плодородная, фрукты, да чайки не кричат, а без крика чаек жизнь не мила». И как он это мне сказал, его тоска мне сразу понятна стала. У них морские крупные чайки у самого жилья держатся! По дворам шагают, рыбные отбросы подбирают, а потом рассядутся на крыши и на все лады кричат, хохочут. Одним словом, орут и хозяйничают, как на кордоне вороны.
Но вернемся к воронам Астраханского заповедника. «Проезд запрещен» — гласят надписи на берегах многих проток, где издавна большими колониями гнездятся голенастые птицы. Конечно, этим путем удается сократить гибель птенцов и яиц от энергичных и находчивых хищников. Но это только полумера. Ворона — одна из немногих птиц, вред которых чрезвычайно велик, и этот хищник повсеместно заслуживает истребления.
Глава вторая
ВОДА ОДОЛЕЛА
— Ты знаешь, папка, — как-то сказал мне сын, — я видел дикую свинью с поросенком. В самый разлив они приплыла в Дамбинскую яму, где на крошечном островке стоял домик лесника, и стали жить с домашними свиньями и коровами!
— Наверное, ты что-нибудь напутал, — усомнился я. — Беспомощные домашние свиньи часто бывают поразительно на кабанов похожи, наверное, ты с такой одичавшей свиньей столкнулся.
Но сын так горячился и доказывал свою правоту, что я не мог ему не поверить. Он только что вернулся из Астрахани от дяди, с которым много ездил по дельте Волги.
Меня этот случай очень заинтересовал. Ведь я хорошо знаю кабанов, знаю, насколько осторожны эти сообразительные животные, как они боятся человека, — и вдруг дикая свинья сама пришла к человеку!
— Знаешь, папка, — продолжал сын, — старая свинья совсем людей не боится, но от них в стороне держится. Как подойдут к ней близко, полосатый поросеночек за нее спрячется, а свинья сгорбится, ощетинится вся, недобро смотрит, того и гляди бросится.
Спрашивает сынишка у лесника: «Как это она не побоялась человека, сама к вам пришла?» А тот смеется: «Не сама пришла, беда пригнала, не пошла бы, да вода одолела. Вот как спадет вода, свинья с поросенком опять в камыши уйдут, здесь не останутся».

А ведь прав лесник. Вода заставит не бояться и человека. Глуп заяц, труслив до крайности, а и тот сам в лодку к Мазаю прыгал, когда вода одолела. И я вспомнил один давнишний случай с кабанами.
Но перед тем как рассказать читателям об этом трагическом случае, я расскажу то, что видел совсем недавно в Астраханском заповеднике, расположенном в дельте Волги.
Я посетил заповедник в год, когда воды было мало, и на этот раз не видел настоящего бедствия. Вода прибывала медленно, за сутки на сантиметр повышая свой уровень, и о паводке никто серьезно не думал. Но и такой слабый подъем все же отразился на некоторых птичьих колониях взморья.
Пока не было ветра, на небольших косах загнездились крупные чайки — обыкновенные черноголовые хохотуны. Несколько десятков гнезд располагалось близко одно от другого, в них в это время лежали яйца. Только в немногих гнездах успели появиться пуховички.
И вдруг подула моряна, и хотя ветер не достиг значительной силы, но за три дня вода поднялась настолько сильно, что большинство гнезд оказались затоплены. Над погибшей колонией кружились крупные белые птицы, наполняя воздух то жалобным криком, то своеобразным громким хохотом.
Грозила затопить вода и пеликаньи гнезда. Издавна пеликаны гнездятся на взморье дельты, но, не в пример другим птицам, не умеют избегать гибели от сильных подъемов воды во время моряны. И сколько труда затратил заповедник, чтобы обеспечить пеликанам нормальное размножение, представить трудно!
Вот кряковая утка, например, в дельте обычно откладывает свои яйца на высоких деревьях в гнезда ворон и коршунов. Сидит такая утка на яйцах, воды не боится, и комары до нее не добираются. Глупый же пеликан, хотя и есть места надежные, упорно продолжает гнездиться на крошечных камышовых островках, где его птенцам при подъеме воды гибель. Вот и в предыдущую зиму сколько труда было затрачено, чтобы для глупых птиц создать надежные места гнездования! Еще по льду навозили на взморье громадное количество камышовых снопов, соорудили большой плот, закрепили на месте толстыми кольями. Удался плот на славу, десяток коров на нем поместить можно — тесно не будет.
Закончили энтузиасты работы, представили себе, как весной загнездятся десятки громадных птиц и как спокойно им будет на надежном плоту растить молодь, и решили на следующий год еще такой плот построить.
Настала весна, прилетели пеликаны, устроили гнезда, отложили яйца — только не на прекрасном новом плоту, а опять на маленьких камышовых кочках. Издали такие гнезда совсем незаметны. Видишь только большое светлое пятно среди водной глади. Это десятка полтора-два пеликанов сидят на гнездах, скрывая их своей массой. В последней декаде мая посетили мы пеликаньи колонии на взморье и поняли, что многим из них грозит верная гибель. Моряна нагнала в култук воды, уровень ее поднимается с каждым часом — вот-вот начнет топить гнезда. Приехали на другой день — уже первые жертвы есть. В самых низких гнездах пеликанята погибли — что делать? На двух небольших камышовых кочках сгрудились двадцать пять крупных и маленьких пеликанят и, видимо, не предполагают, что им грозит гибель.

Тесно на кочках, ступить некуда, а тут еще около десятка взрослых пеликанов на гнездовье взобраться пытаются, того и гляди всех погубят.
— Затопит? — спрашиваю я местного наблюдателя охотника Сашу.
— Обязательно затопит, — отвечает он, а сам, видимо, старается выход найти из создавшегося положения. Подумали мы, подумали и пришли к следующему выведу. Если пеликанят до завтрашнего дня оставить, они все погибнут обязательно. Значит, нечего бояться делать с ними какие угодно опыты. Перевезем сейчас их на искусственный плот, а завтра, если взрослые не найдут их и кормить не будут, заберем всех на кордон и раздадим ребятам на выкормку. Благо попавшихся в вентеря щук девать некуда, выбрасывать приходится. Этими щуками и полсотни пеликанов выкормить можно.
В лодке на этот раз нас было четверо. Высадили мы двух наших спутников-ленинградцев на искусственный плот, туда же сложили все вещи и отправились к пеликаньей колонии. Выбрался я на кочку, хватаю пеликанят за шеи, за клювы и передаю их Саше, а он их, как мешки, в лодке укладывает. Только глупые птенцы на месте не сидят, пытаются за борт выбраться и спешат освободиться от съеденной пищи. Широко откроет пеликаненок рот, покрутит головой и выбросит наполовину переварившуюся рыбу. В одно мгновение всю лодку испачкали, и такой от нее невыносимый запах пошел, что дышать нечем. Скорей бы перевезти птенцов и лодку вымыть, а тут некоторые пеликанята с гнезда соскочили и вплавь пытались уйти от нас — беспокойных посетителей. Пришлось по култуку за ними гоняться. Поразило меня, что совсем голые и, казалось бы, беспомощные пеликанята умели отлично плавать. Шлепнется пеликаненок с гнезда в воду, шею вытянет и, заработав ногами, плывет с сторону. Почему, не знаю, но напоминали они мне волжский колесный пароход; что-то было между ними общее. Переловили мы наконец всех пеликанят, доставили их к новому месту и выгрузили на искусственный плот. Старые же птицы тем временем возвратились к опустевшей колонии и, не зная, что предпринять, расселись на камышовые островки.
— Будут там сидеть и птенцов не найдут, — говорит Саша, — давай-ка раскидаем камыш, чтобы от гнезд и следа не осталось.
Опять возвратились мы к бывшей колонии и, работая веслами, уничтожили оба маленьких островка.
После всего этого воспользовались мы моряной, подняли косой парус и, гонимые свежим ветерком, укатили к кордону.
Перетащив пеликанят, я, откровенно говоря, мало надеялся на удачу. Наверное, придется ребятам кордона заменять птенцам их родителей. Искусственный плот помещался по меньшей мере в трехстах метрах от гнездовых островков, а птицы в этом отношении ужасно капризны. Иной раз найдешь гнездо какой-нибудь чересчур осторожной птицы, осматривая, дотронешься до него руками, и птица бросит яйца. В данном же случае мы положительно наразбойничали. От бывших гнезд следа не оставили, птенцов перетащили за триста метров. Какая уж там надежда, что их «старики» найдут и выкормят!
Однако, вопреки моим ожиданиям, опыт увенчался успехом. На следующий день на плоту рядом с птенцами сидели два взрослых пеликана, а через день и все родители, дети которых были спасены от затопления. Как видите, в некоторых случаях можно без всякой церемонии вмешиваться в птичью жизнь, не вызывая дурных последствий. Перевозя пеликанят на новый плот, мы этим способствовали его дальнейшему заселению. Ведь эти пеликанята в будущем обязательно загнездятся на плоту, где прошло первое лето их жизни.
— Ремезиные яйца вода затопила, — зайдя ко мне, сказал мой юный приятель.
— Как затопила? — удивился я. — Ведь это не пеликанята. Гнездо-то на целых два метра над водой висит.
— Не знаю, как случилось, но в гнезде воды полно и яйца под водой лежат.

Ничего не понимая, я сел в лодку и через несколько минут был уже у знакомого места. Здесь над узкой проточкой, метра на два от водной поверхности, на конце ветви ивы висело гнездо ремеза. Около него суетилась крошечная птичка. Она выдергивала из гнезда строительный материал и перелетала с ним на соседнее дерево. Там взамен погибшего гнезда она уже строила новое. Встав в лодке на скамейку и пригнув нависшую ветку, я всунул палец в гнездо птицы. Яйца действительно лежали под слоем воды. «Как же могло случиться, что в гнезде вода?» — удивился я.
Ремез — крошечная, близкая к нашим синицам птичка. В конце мая из пушинок, окружающих семена камыша и тополя, сооружает ремез теплое гнездышко, похожее издали на серовато-белую рукавичку. Висит такая рукавичка над речкой, покачиваясь от ветра на гибкой ивовой веточке. Много таких птичек — ремезов в дельте Волги водится; много и гнезд удается встретить при поездках на лодке по протокам заповедника.
Несколько дней строили два ремеза замеченное мной гнездышко. Наконец кончили свое строительство, и самка стала откладывать в гнездо белые яйца.
Но не успела птичка закончить кладку, как гнездо вдруг погибло. И погибло оно, конечно, не от подъема воды, затопившей гнезда чаек и пеликанов.
Яички были затоплены «кукушкиными слезками».
Над водой нависла кудрявая ива. На ее вершине уселась кукушка, далеко разносится ее громкое, звучное кукование, да, булькая, падают в воду крупные капли. Неужели это плачет кукушка, неужели это кукушкины слезки?
Есть у нас насекомые цикадки — ивовые пенницы. Большими колониями их личинки живут на деревьях ивы, выделяя на листья и ветки пену. Собирается она в капли, стекает по веткам ивы и наконец каплет с дерева. Народ называет ее «кукушкиными слезками».
Видимо, неудачно построил крышу своего гнезда ремез: одна за другой капли, стекая по нависшей веточке, проникали в гнездо ремеза и затопили его яички.

Вот что случается в дельте Волги при отсутствии настоящего паводка. Но посетил я как-то дельту в самый разгар наводнения и видел, как борются животные с водой за свою жизнь.
Неузнаваема дельта Волги во время половодья. На взморье, куда ни глянешь в голубую даль, кругом вода. Только на горизонте маячит невысокая зеленая полоска кустов и деревьев. И в знойный полдень вас непреодолимо потянет туда, к твердой почве, под тень развесистых ив. Но лучше не поддавайтесь соблазну. Вдали не земля, а затопленный лесистый остров. Сквозь зеленую лесную чащу медленно струится вода, да среди древесных стволов, обвитых побуревшей растительной ветошью, лениво покачивается на сонной волне занесенный сюда валежник. За мнимым лесным островом опять блестящая водная гладь с неясным очертанием древесной растительности на горизонте и отдельными желтыми пятнами плавающего тростника. А над всем этим — белые цепи облаков на ярком голубом небе. Глянешь кругом на безбрежную воду, на небо — ширь-то какая!
Грандиозна картина разлива, но страшное это время для четвероногих обитателей дельты. Беспощадна вода — сколько диких поросят гибнет при летнем паводке!
Вот слабый ветер едва надувает наш косой парус, но легкая лодчонка быстро бежит, с журчанием рассекая воду, прямо на восходящее солнце.
Далеко впереди на блестящей водной поверхности движутся какие-то черные точки. Их несколько — крупная впереди, мелкие следуют за ней. «Наверное, утка с утятами», — решаем мы. Вот они достигают желтого пятна, плавучею камыша, и среди него становятся едва заметны. А наша лодка с каждой секундой сокращает расстояние, и вдруг всем становится ясно, что это не утиный выводок — да и что ему делать среди открытой воды? Это что-то другое, какие-то крупные животные. Мы несколько изменяем направление, и послушная кормовому веслу лодка теперь скользит к желтому пятну; по мере приближения оно быстро растет.
Где-то в глубине дельты высокая вода подняла целую копну сухого слежавшегося тростника, быстрое течение подхватило ее, крутя, понесло по узким протокам и наконец выбросило на широкий простор взморья.

— Кабаны, свинья с поросятами! — кричит стоящий на носу лодки босоногий мальчуган, и все встают на нога, наклоняются под парус и смотрят в том направлении. Поросята выбрались на тростник и, провалившись ногами сквозь стебли, несколько погрузились в воду. Вытянувшись все в одном направлении, они лежат неподвижно, как будто затаились среди тростника и боятся выдать движением свое присутствие. Положение взрослой свиньи еще плачевнее. Тростник не держит ее тяжелого тела, и она, подмяв его под себя, отдыхает в воде, высунув над поверхностью лишь свою длинную голову. Лодка огибает островок и удаляется в сторону.
Ведь кабан не заяц, помочь нельзя. Свинья не даст поймать поросенка, еще, чего доброго, бросится его защищать, перевернет лодку. Пусть отдыхают. Но что их ждет впереди, удастся ли им доплыть до твердой почвы?
И с тяжелым сердцем все смотрят на безбрежную воду, на затопленные ивняки, едва видные на далеком горизонте. Необъятный голубой простор уж не радует взора, он пугает своей беспредельностью.
Ведь среди него на ненадежном плавучем острове — живые существа, трагическая неподвижная группа борющихся за жизнь животных. Могучий зверь — дикая свинья, прекрасный пловец, не желает ради спасения своей жизни бросить на гибель детенышей.
Лодка продолжает свой путь, все дальше уходя от неподвижной группы. Все угрюмо молчат, и у всех одна дума: не доплыть им до берега, выбьются из сил — вода одолеет.

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
Глава первая
ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД
Так в постоянных экспедициях и выездах за животными в течение многих лет протекала моя жизнь, моя работа. Но ведь при напряженной работе, когда тратится много сил и энергии, необходим отдых. Иной раз я ощущал это особенно сильно. И я решил регулярно использовать свой отпуск. Ведь полезно, даже необходимо отвлечься, изменить на время обычный ход мыслей и обстановку. Но как это сделать?
«Поеду на Украину к приятелю, — решил я наконец. — Буду ловить рыбу, гулять — ну, словом, отдыхать в полном смысле этого слова».
И я уехал на Украину.
Первые дни все шло благополучно. Я отдыхал. Но прошла неделя, и я незаметно для себя втянулся в охоту — ведь кругом много дичи. Зверек и птица, случайно попавшиеся мне в руки живыми, послужили началом сбора живой партии, а убитые экземпляры — началом коллекции.
Таким образом, отпуск, в сущности, ничем не отличался от обычных моих поездок. Я изменял только место и проводил его не на далеких окраинах нашей страны, а в Подмосковье, на Украине или в степях Чкаловской области.
Надо сказать, что еще в степях лучшим отдыхом для меня была охота. Я с нетерпением ждал каникул и, когда они наступали, с увлечением бродил с ружьем по лесам и болотам. Но в то время я был только заядлым охотником. Бывало, поднимусь на ноги ни свет ни заря и, не жалея сил, брожу до полной темноты по лесам и болотам. За весь день не присяду, чтобы отдохнуть или поесть нормально. На ходу жую кусок хлеба. Все жалко мне было времени, хотелось побольше обойти и больше настрелять дичи.
В результате напряженного дня возвращался я домой, увешанный дичью и измученный до последней степени. И когда после такой охоты я отлеживался на сеновале, все чаще у меня возникали мысли, что ни к чему такая охота и что дичи я слишком много бью: ведь не промысловик я, а любитель, но меры не знаю.
Но все это давно прошло. Сейчас я терпеть не могу слишком много ходить во время экскурсий, и когда закусываю на охоте, ружье откладываю в сторону. Мне вспоминается, как однажды засунул я за щеку сухарь, а в этот самый момент пришлось мне выстрелить по взлетевшему стрепету. Впопыхах ружье приложил плохо, а оно отдавало сильно, и сухарь вместе с зубом вылетел изо рта. Сейчас я люблю ходить по лесу медленно, бесшумно и посидеть люблю, кругом посмотреть — как дятел стучит, как глазастая зарянка ловит муравьев; и, знаете, чем больше сижу во время экскурсии, тем больше вижу.

Ведь зверь и птица на одном месте не остаются, и если вторжение непрошеного гостя — человека — не заставит их насторожиться, то жизнь будет идти своим чередом, и вы можете увидеть такие замечательные вещи, какие редко удается наблюдать, топчась по угодьям. Иной раз посчастливится увидеть, как мышкует на поле лисица, и тогда целыми часами можно наблюдать за зверем и вам не будет скучно. Вы поймете, что лисица делает это не только потому, что мыши для нее лакомство. Она увлекается ловлей мышей до такой степени, что нередко забывает свою природную осторожность и допускает массу непоправимых глупостей. И когда наблюдаешь за такой лисицей, невольно начинаешь близко принимать к сердцу ее промахи и неудачи. На ближайшем крупном дереве вы заметили белку. Она на ваших глазах спускается на землю и среди опавшей листвы ищет желуди или орехи. И вдруг безмятежный покой нарушается самым неожиданным образом. Мимо вас мелькает тень низко пролетевшего ястреба. Кружась вокруг ствола, белка исчезает в густой вершине деревьев; где-то в стороне, предупреждая об опасности, громко кричат сойки; лисица прекращает увлекательную охоту, прислушивается, а затем нехотя трусит к ближайший густым зарослям. Разве не интересно наблюдать все это, отдыхая среди природы?
Многие думают, что наблюдения за дикими животными — бесполезное дело, неподходящее занятие для серьезного человека. Так ли это? Такой взгляд мне кажется совсем неправильным. Ведь за свою жизнь многие люди поневоле на каждом шагу сталкиваются с разнообразными животными, которые заходят во фруктовые сады, деревни, засеянные поля, живут в лесах, рощах, парках. Разве можно совсем не знать, что представляют собой соседи, почему посещают ваш сад, приносят ему вред или пользу?

Конечно, все это знать человеку полезно. И, зная хоть немного жизнь диких зверей и птиц, вы будете приветствовать залетевшую в сад серенькую и невзрачную на вид птичку славку, непоседливую синицу и, напротив, будете встревожены, если среди огорода выкопает нору яркий зверек хомяк или пасеку начнут посещать замечательно красивые птицы — золотистые щурки.
Большая часть моей жизни прошла среди природы. Когда же я возвращался из своих поездок и приступал к описанию того, что я видел, иной раз мне подолгу приходилось оставаться в Москве. В это время я начинал тосковать о шумливых лесах, о пении птиц, о зверушках. Жизнь без всего этого для меня как-то теряла свою привлекательность. И чтобы хоть отчасти восполнить эти пробелы, я или привозил из поездки, или доставал в Москве интересных животных. Много всякой живности побывало в моей московской квартире.
Конечно, это не всем может нравиться.
«Для чего дома держать зверей и птиц, когда для этого есть зоопарк? Нельзя же жилую квартиру превращать в зверинец — ведь в ней живут ваши дети». В этих словах, бесспорно, много справедливой холодной логики. Если вы в своей квартире будете держать десяток собак, то, конечно, превратите жилое помещение в псарню.
Но ведь множество людей, живя в большом городе, держат собаку и не тяготятся ее присутствием. Ну, а если маленький зверек, например ежик, будет бегать по вашей квартире, неужели он отравит своим присутствием ваше существование и будет неприятен для ваших детей? Откровенно говоря, в этом я сомневаюсь. А ведь присутствие зверушек и птиц в среде детворы очень часто имеет большое воспитательное значение и благотворно сказывается на детском характере.
Приобрести птичку ненастной осенью, подержать ее суровую зиму и вновь выпустить ранней весной. Разве не приятно так поступить? Поверьте мне, очень приятно. До слез бывает жалко расстаться с веселым чижиком, но когда ваш чижик, усевшись на ветку, запоет знакомую вам песенку, вы забудете свое маленькое горе: его нельзя сравнить с бесконечным счастьем птички, вновь получившей свободу.
Умение содержать птиц в неволе может оказаться и весьма нужным.
Возьмите, например, серую куропатку.
Если при перевозке верх транспортной клетки не затянуть марлей, куропатки разобьются до смерти.
Скворцы, пойманные весной, плохо выносят потерю свободы. Обрежьте им хвосты, и процент гибели резко снизится. Таких мелочей множество; знание их приобретается только практикой.
Постоянное содержание животных в неволе и многолетние наблюдения за их жизнью в естественной обстановке не прошли бесследно. За эти годы у меня скопилось много интересных данных, основываясь на которых я пришел к определенным взглядам и выводам. Ими, хотя бы в самых общих чертах, я и решил поделиться с читателями в этой главе.
Глава вторая
ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Кажется, чего проще — достать птенцов белого аиста! Ведь это одна из обыкновеннейших, а местами и многочисленных птиц западных и юго-западных областей нашей Родины. Вы только побывайте на Украине, и сами убедитесь в правильности моих слов.
Вот перед вами украинская деревенька с ее садиками, хатками, с ее чистотой и уютом. В жаркий полдень вы идете вдоль ее улиц. По сторонам сквозь листву деревьев белеют постройки, рдеет на солнце черешня, а на огромном гнезде, выстроенном на соломенной крыше, стоя дремлет крупная белая птица — аист. Загляните за окраины селения, и там вы увидите аиста. Он спокойно бродит по сырому зеленому лугу, зорко всматривается в траву и порой склевывает добычу.
Как деревенская ласточка-касатка, как сизый голубь, белый аист с незапамятных времен стал спутником человека. Для своих гнезд он особенно охотно использует крыши украинских хаток и поселяется не только в маленьких деревеньках, но часто и на окраине большого города. В июне и июле они бывают заняты аистятами.
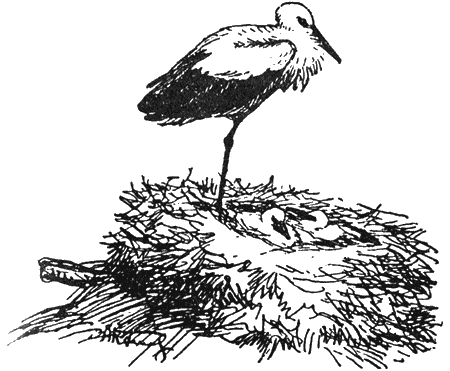
Да, белый аист почти домашняя птица. Но попробуйте достать хоть одного птенца, и вы столкнетесь с невероятными трудностями. Ни один хозяин не позволит вам потревожить аиста, воспользоваться его птенцами. Он вам охотно продаст гуся, курицу, любую домашнюю птицу, но только не аиста. Аист пользуется исключительной любовью и покровительством, хотя известно, что иногда аист приносит несчастье своим покровителям. Выстилая лоток своего гнезда всевозможным хламом, он иной раз затаскивает на крышу подобранную на свалке тлеющую тряпку. Раздует ее на ветру, вспыхнет пожар, и сгорит хата.
Мне хочется рассказать об одном проступке, который я совершил лет тридцать тому назад. Из гнезда аиста, устроенного на хате, я без разрешения хозяина вынул четырех птенцов. Как просто это сделать сейчас! Достаточно обратиться к председателю сельсовета, объяснить ему, для чего нужны аистята, и, конечно, все будет улажено тихо и без всяких историй. Тогда же я столкнулся с непреодолимым препятствием. Тупик, в котором я оказался, и мое твердое убеждение, что дикая птица аист не частная собственность, побудили меня нарушить общеизвестные правила. Однако расскажу все по порядку.
В том году мне было совершенно необходимо достать четырех молодых аистов, и я, проводя каникулы на Украине, решил взять их из гнезда, как только они несколько подрастут и окрепнут.
Был у меня в то время один знакомый — замечательный дед: высокий, стройный и седой как лунь. В своей семье и среди односельчан он пользовался большим авторитетом. К нему я и решил обратиться за помощью.
Однажды вечером, когда мы сидели с ним на завалинке и болтали о разных вещах, я решительно приступил к делу.
— Дедушка, говорят, у вашей дочки в Поповке на крыше гнездятся аисты? — сказал я.
— Гнездятся, очень давно гнездятся — наверно, лет пятнадцать, как они это гнездо свили, — ответил старик.
— А нельзя ли, дедушка, как-нибудь достать из гнезда птенцов? Вы ведь знаете, что я собираю здесь всяких птиц для Москвы, а аистов у меня нет, они же мне ну просто необходимы.
— Да ведь они не мои, а дочкины. Как достанешь?
— Вот я и хочу, дедушка, попросить, чтобы вы об этом с дочкой поговорили. Я ведь человек чужой, мне неудобно, а вы свой — она, наверно, согласится. Я же охотно заплачу за них что следует.
— Поговорить-то можно, да только, я полагаю, не согласится она. По нашему обычаю, нельзя забижать эту птицу.
— Всякую, дедушка, птицу обижать жалко, я сам это ребятам говорю, но когда это необходимо, то чем же аист от других птиц отличается? Я сам видел, как аист в своем же дворе цыплят ловит, и слышал, что змей таскает и с гнезда роняет. Почему же вы его так бережете? Ведь сыч, которого вы так не любите, куда полезнее аиста.
— Верно это, только для нас аист птица особая — нельзя ее забижать, беды можно наделать.
— Но вы, дедушка, все-таки с дочкой поговорите, я вас очень прошу об этом, убедите ее, что ничего страшного нет аиста продать.
— Ладно, поговорю, только убеждать не стану, — ответил дед. — У нее своя голова есть, пусть сама и решает.

На этом наш разговор закончился, и я, простившись со стариком и обещав ему заехать на днях, поехал домой.
Прошло условленное время. Я вновь заглянул к своему знакомому, но без слов, по одному взгляду понял, что из моей затеи ничего не вышло. Как ни велик был авторитет деда в семье, на этот раз он потерпел поражение. Он ничего не добился, и, по его словам, получилась одна неприятность. Дочка наотрез отказалась продать аистят и велела передать мне, что москвичу нехорошо сбивать с толку честного старого человека.
Не зная, что предпринять дальше, я приуныл.
— Поезжайте в Лисички, — сказал мне в утешение дед. — Там живет одна вдова, она шибко жадна на деньги и, может быть, согласится продать аистов. Они у нее на сарае гнездятся.
На другой день я был в Лисичках.
— Тетка, у тебя яички продажные есть? — спросил я женщину, стиравшую белье под навесом, на крыше которого помещалось гнездо с пятью крупными аистами.
— Есть. Сколько тебе?
— Да мне немного, с десяток.
— Десяток… — разочарованно протянула она. — Возьми сотню, мне деньги нужны, дешево отдам.
— Сотню мне не надо.
— А не надо, так и совсем не продам, — отрезала она и вновь уткнулась в корыто.
— Послушай, тетка, хочешь, я тебе за четыре сотни яиц заплачу, а вместо яиц ты мне отдай четырех вот этих аистят, — кивнул я головой на гнездо аиста.
Я был уверен, что значительная сумма денег и мой подход возымеют действие, и ждал соответствующего эффекта. Но эффект получился совершенно противоположный.
Женщина выпрямилась над корытом и окинула меня уничтожающим взглядом.
— Ты что, сдурел, что ли! — бесцеремонно оборвала она. За этим последовал целый взрыв гнева и брани.
Но я не стал выслушивать направленных по моему адресу выкриков и поспешил убраться от раздраженной владелицы аистов.
Я также был раздосадован и всячески старался себя успокоить. «Какое мое дело, — думал я, — до сварливой бабы и до всей ее ругани?» Но, представьте себе, я и в этом ошибся. Баба оказалась чрезвычайно вредной и, широко распустив слух о моих намерениях, поставила меня в крайне затруднительное положение.
— Вон тот дядька, что черногузив шукает, — указал на меня пальцем один из ребят, когда спустя несколько дней я проезжал через хутор, расположенный по меньшей мере в семи километрах от Лисичек.
Эти слова были для меня хуже приговора. Мне стало ясно, что путь к добыче необходимых птиц был отрезан.
В окрестных поселках я приобрел скверную популярность, многим известны мои намерения, осуществлению которых будут мешать всеми средствами.
Я был прямо-таки взбешен возникшими осложнениями и не мог придумать, как действовать дальше. Пусть же поймет читатель мое положение и не упрекает за мой поступок.
Я бесповоротно решил завладеть аистятами если не мирным путем, то силой. Конечно, я не мог это сделать близко от места, где я жил. Это вызвало бы массу неприятностей. Мне необходимо было выехать за черту, где меня знали, куда не успела проникнуть дурная слава о моих намерениях. И этому вскоре представился удобный случай.
В двадцати километрах от совхоза, где я гостил у своего приятеля, утопал в зелени маленький городок Валки. По четвергам там бывал большой базар, и я, получив ряд поручений, с сыном кладовщика Ваней ранним утром выехал в Валки на беговых дрожках. В задней части дрожек мы тщательно закрепили веревками прикрытую брезентом большую корзину.
К десяти часам мы были на месте и, закончив дела и объехав улицы городка, вскоре нашли, что искали.
На соломенной крыше сарая в глубине двора помещалось гнездо аиста. В нем сидели пять крупных птенцов. Сарай примыкал к лугу, к нему можно было подъехать с этой стороны. Запасшись терпением, мы ждали только того момента, когда жители отправятся на базар.
Но вот все подготовлено, время настало. На дрожках мы приближаемся с задов к сараю, еще несколько минут — и четыре аистенка с нашей помощью перекочевывают с гнезда в нашу корзину.
— Марийка, — слышится крик с противоположной стороны улицы, — смотри, у тебя по крыше кто-то лазает!
Этот крик был сигналом к нашему спешному отступлению.

Дрожки, прыгая по кочкам, пересекают луг, выбираются на торную дорогу и несутся прочь от селения. Как ни странно, но в тот момент я не ощущал ни волнения, ни стыда за свой поступок. Единственное чувство — бесконечная благодарность к нашей лошадке — наполняла мое сердце. Она несла нас с такой быстротой, что по сторонам лишь мелькали предметы, ветер бил в лицо и свистел в ушах.
— Но куда же мы едем? — спохватился я спустя полчаса, когда Валки скрылись на горизонте, а позади никого не было видно. — Ведь нам нужно ехать к западу, а дорога все сильней отклоняется к югу.
Я встал на дроги во весь рост и осмотрелся кругом. Насколько хватает глаз, во все стороны широко раскинулась холмистая степь. Какой необъятный простор, какая красота! Какой воздух! Он как будто напоен запахом созревающего хлеба. Далеко впереди, справа от дороги, я заметил человеческую фигуру. Решив расспросить о нашем пути, мы подъехали возможно ближе. Это был загорелый черноволосый мальчик. Он стоял близ куреня на своей бахче и, заслонившись от солнца ладонью, смотрел на нас.
— Мальчик! — крикнул ему я, не слезая с дрог. — Иди-ка сюда, мне тебя спросить надо.
Но мальчуган не двигался с места.
— Да подойди поближе, чего ты боишься! — повторил я свою просьбу.
— Да, знаю, у тебя змея в кармане, — наконец недоверчиво протянул он.
Я подскочил от этих слов как ужаленный. Вот так репутация! Оказывается, меня и здесь знали, за много километров от моего дома. Действительно, на всякий случай я всегда носил с собой маленькие мешочки, и если мне попадалась змея, интересная мышь, ящерица или другая живность, я сажал ее в мешочек и засовывал в карман своей куртки.
В тот памятный день нам не суждено было добраться домой. Колеся по степи в поисках верной дороги, мы в конце концов наскочили на вкопанный в землю столбик и поломали дрожки. Поневоле мы были вынуждены добраться до ближайшего перелеска и заняться там починкой.
Настала чудная украинская ночь. В хлебах отбивали звонкую дробь перепела; в сырых понижениях балок беспрерывно кричали коростели. Какое удовлетворение я ощущал в этот вечер! После многих неудач и неприятностей я все же наконец достал молодых аистов. Эта забота отпала, и я, казалось, мог отдохнуть и заняться другими делами!
Однако я жестоко ошибся. Долгожданные аистята совершенно связали мне руки, так как нуждались в беспрерывной кормежке. За день они съедали невероятное количество всевозможной пищи. В том году было обилие грызунов-вредителей — мышей и полевок. И вот я с утра отправлялся на поля, где косили пшеницу, и спустя два-три часа наполнял небольшое ведро битыми грызунами. К моему огорчению, этой порции хватало ненадолго. Четыре птенца-обжоры расправлялись с ней в более короткий срок, чем я затрачивал на мышиную ловлю. Они вновь бродили за мной, жадными глазами смотрели мне в руки, просили пищи. Тогда я вооружался палкой, засучивал до колен брюки и бил в болоте лягушек. После этой охоты я возвращался мокрый и грязный, но довольный, что мои птенцы будут накормлены досыта.
Спустя несколько дней кожа на икрах моих ног от постоянного пребывания в воде, на ветру и солнце потрескалась и распухла. И тогда эта охота за лягушками стала для меня истинным мучением, но я не имел возможности от нее отказаться, так как с каждым днем птенцы требовали пищи все больше и больше. В то время как мои товарищи действительно пользовались каникулярным отдыхом, я по горло был занят заботой о добывании пищи моим вечно голодным питомцам. Я вздохнул свободнее, когда однажды погибла старая лошадь совхоза. Я срезал с погибшего животного большие куски мяса и, сохраняя их на льду, кое-как прокормил своих аистят до отъезда в Москву. После этого мне стало ясно, почему аисты редко гнездятся большими колониями, а чаще поселяются парами, выстраивая гнезда на значительном расстоянии друг от друга. Ведь только немногие болота, густо заселенные лягушками и змеями, в состоянии прокормить несколько семей аистов, каждый птенец которых обладает столь неумеренным аппетитом.
Глава третья
ПО ГОРЯЧЕМУ СЛЕДУ
После того как я однажды посетил деревеньку Рвеницы, затерянную среди лесов и болот, меня стало тянуть туда постоянно. Совсем недалеко от Москвы, а места глухие и в охотничьем отношении превосходные. Поздно вечером сядешь в поезд в Москве, заснешь, а наутро, не успеешь и дороги почувствовать, как разбудит голос проводника.
— Вышний Волочек! — выкрикивает он, проходя по вагону и всматриваясь в сонные лица пассажиров, как будто на них написаны станции, куда они едут. — Кто до Вышнего Волочка?
Впопыхах выскочишь на платформу и спросонья никак не сообразишь, что же дальше делать? А делать ясно что. До Рвениц не так уж далеко. Есть попутная подвода — ею доедешь, нет — пешком двенадцать километров отшагаешь и, кроме удовольствия, ничего не получишь. Дорога идет сквозь старый сосновый лес и только у самых Рвениц вдруг вырывается на широкий простор лугов и полей, среди которых на берегу речки и стоит деревенька. Совершаешь этот переход ранней весной — над головой беспрерывно поет лесной жаворонок, юла, чуфыкают и бормочут по сторонам тетерева, иногда в болоте громко закричит белая куропатка. Осенью идешь — обязательно подымешь с дороги выводок глухарей или тетеревят, да не один, а в двух-трех местах. Но это только преддверие охотничьего рая; за Рвеницами в болотах, лесах и на озерах еще совсем недавно дичи встречалось очень много, и не только пернатой, но и зверя. Попадались иногда медведь, выдра и очень часто косули. Охота на косуль, правда, запрещена, но зато вволю косуль посмотришь и их рявканья наслушаешься.

Вспоминается мне, однажды заблудился я в лесу — никак не могу к Рвеницам выбраться, а уж вечер. Топтался я по лесу, топтался — все старался выйти к речке, но выйти не удается, хотя и хорошо знаю ее направление. Махнул я рукой и решил переночевать в глухом ельнике. Погода стояла ясная, теплая, я развел костер, испек в золе крякового селезня и, лежа на еловом лапнике и глядя на костер, сначала поужинал, а затем предался отдыху. Ночь выдалась и без того темная, а привыкнув к яркому костру, я не видел даже елей, окружавших мой лагерь со всех сторон. Впрочем, это и не имело никакого значения, все равно надо было ложиться спать.
Только примостился я у костра, укрылся курткой, дремать стал, вдруг слышу — козел рявкнул. Кто не слышал, как косуля рявкает? Заслышав голос в ночное время, никогда не поверишь, что красивое и грациозное животное может издавать такие мощные звуки. Рявкнет косуля, и дикий звериный крик широко разнесется по дремлющему, молчаливому лесу, проникнет в самые глухие чащобы, далеко откликнется эхом. И хотя всему четвероногому населению леса ясно, что это рявкает безобидная косуля, но, заслышав его, замрет робкий заяц, остановится и чутко прислушается вышедшая на охоту лисица.
Минуты две прошло, как закричала первая косуля, и в ответ ей со всех сторон зарявкали звери, их голоса смешались, весь лес заполнился ими. Потом сразу все замолчали, затих лес — только в ушах продолжало звенеть. Тут я и понял, что под Рвеницами косуль очень много, и если этого осторожного зверя встречаешь не так уж часто, то прежде всего по своей вине.
Нет для человека в лесу ничего страшного, вот он, не боясь, и ломится, как медведь, сквозь лесную чащу. То ветку зацепит, то ступит на сухой сучок, и тот на весь лес под ногой хрустнет. Конечно, при таких условиях все лесные обитатели спешат убраться от беспокойного пришельца. Однако о косулях я начал не случайно. Был у меня один замечательный случай, связанный с косулями; о нем я и хочу сейчас рассказать.
Как-то приехал я в Рвеницы в самом начале августа, то есть к открытию осенней охоты, и по старой привычке поселился у одной знакомой семьи, где всегда останавливался. Целые дни брожу по лесу, по болотам, иногда поеду на лодке за утками, а ветром после ужина заберусь на сеновал и до следующей зари сплю как убитый на душистом сене. Для меня такая жизнь — лучший отдых, никакого курорта не надо. Однажды неподалеку от деревеньки нашел я выводок глухарей, но глухарята оказались маленькими, и я, хорошо заметив это место, до поры до времени решил их не тревожить. Мне хотелось добыть несколько подросших глухарят, и не так для мяса, как для шкурки; я решил подобрать молодых петушков со сменяющимся оперением. Для этой цели найденный выводок был вполне подходящ. Хотя иной раз я и сталкивался с охотниками, но у меня была уверенность, что этих глухарят не найдут другие. Уж очень глухое и трудное было место, где держался этот выводок.
На много километров вокруг тянулось унылое моховое болото, заросшее корявым, угнетенным, но густым сосняком. Трудность ходьбы, страшное однообразие и почти полное отсутствие дичи заставляло прежде меня, да и других охотников, обходить это унылое место. Час идешь по болоту, проваливаясь по колено в мох и в воду, а впечатление такое, как будто на одном месте топчешься. Любой клочок леса на много километров как две капли воды похож на другой. И вот среди этого убийственного однообразия возвышалась узкая небольшая грива. Под Вышним Волочком такие гривы обычно называют релками. Грива начиналась неподалеку от речки и неширокой полосой уходила в глубь болота, наверное, метров на семьдесят. Сравнительно сухая почва гривы заросла густым черничником, к соснам примешивались небольшие елочки, молодые березки, осинки, но деревья были невысоки, и весь этот темный участок леса издали как-то не выделялся среди сосняка болота. Можно было пройти мимо него совсем близко и не предполагать, что рядом скрывается сухая релка. Вот я и решил, что никто из охотников не найдет этой гривы и что поселившийся здесь глухариный выводок сохранится.
Мое предположение полностью оправдалось. Ничем не тревожимый глухариный выводок продолжал держаться на одном и том же месте. Прошло недели две, и я, рассчитав, что глухарята достаточно подросли и оперились, отправился на знакомую релку. Из дому я вышел около двух часов и, дойдя по берегу речки до замеченного мной места, свернул в сторону и вскоре выбрался на знакомую релку. Весь выводок в этот момент собрался на черничнике и поднялся почти из-под самых ног.
Первым же выстрелом убил я молодого петушка-глухаренка; выбрав удобное сухое местечко, уселся на большую кочку среди черничника, прислонил к дереву свое ружье и, положив глухаренка себе на колени, стал не спеша снимать с него шкурку. Снять шкурку с птицы для меня пустяки — вся процедура займет самое большее десять минут. Но на этот раз я решил растянуть свою работу, по крайней мере, на полчаса. Уж очень хорошо было кругом, спешить мне было некуда, так как на обратном пути я решил выйти к озеру и отстоять вечернюю зорю на уток, а до зори же была масса времени.

Только сделал я разрез на брюшке убитой птицы, как прилетел трехпалый дятел. Прилетел он, видимо, в знакомое место и не просто ради прогулки, а чтобы добыть насекомых, но, увидев меня, от удивления, если так можно выразиться, рот разинул. Видит: сидит в его родном лесу какое-то чучело, не шевелится — не то пень какой-то, не то что-то живое — ничего понять не может. В одно и то же время страшно и интересно. Сначала садился он на стволы сосен с противоположной стороны и, поднимаясь вверх, заглядывал из-за прикрытия, потом успокоился, осмелел и на виду по дереву лазить стал. Но только своим делом, то есть насекомыми, никак всецело заняться не может. Постучит по стволу своим длинным клювом, извлечет какую-то личинку и опять на меня уставится — видимо, его мои глаза смущают. Но наконец дятел закончил свое дело и улетел. Вероятно, на выяснение — пень это или человек — у него не было времени.
И тогда я стал снимать шкурку с глухаренка, но не успел закончить начатого. С правой стороны я услышал слабый шорох и треск сухой ветки и повернулся в том направлении. Из болота на релку выбралась косуля, сделала несколько крупных прыжков и остановилась в десяти шагах от меня. Повернувшись в том направлении, откуда прибежала, она прислушалась, шевеля своими большими ушами, и круто, под прямым углом, изменив первоначальное направление бега, поспешно поскакала от меня вдоль редки. Меня косуля не заметила. Ведь пока она топталась на одном месте, я не шелохнулся. Безусловно, зверь был чем-то встревожен, и если остановился на короткое время, то лишь для того, чтобы передохнуть на сухой релке после быстрого бега по топкому моховому болоту.

Не успел я все это обдумать, как опять услышал неясный шорох и увидел вторую косулю. Как и первая, она появилась с правой стороны из болота, остановилась на минутку на релке, послушала, повернувшись обратно, и, круто изменив направление, поспешно ускакала по следу первой. Одним словом, вторая косуля повторила все движения, проделанные за две минуты перед этим первой косулей. Наблюдая со стороны, можно было подумать, что обе косули бежали по хорошо проторенной дорожке. Впрочем, звери всегда избирают более удобный путь; поэтому где пройдет одно животное, обычно пойдет и другое. Даже охотники и те, бессознательно и не замечая этого, ходят по лесу одними и теми же путями. Ведь никому не захочется наклоняться под низкую ветку, когда ее сторонкой обойти можно, или лезть через хворост, когда он обязательно треснет под вашей ногой. В результате же получается, что охотники ходят по одной и той же невидимой тропке, пока не поймут этого и сознательно не свернут в сторону. Но не в этом дело. Исчезла и вторая косуля, а я все сидел на том же месте и старался представить себе, что испугало животных. По поведению косуль, по движению их нервных ушей, которыми они пытались уловить какие-то звуки, по глазам я видел, что они чем-то сильно испуганы и утомлены быстрым бегом по трудной болотистой местности.
В эту секунду справа от меня вновь зашуршала лесная подстилка. «Неужели опять косуля?» — подумал я, повернувшись по направлению звука. Но на этот раз я увидел не косулю, а какого-то странного крупного зверя с иной, более светлой окраской меха. Явно преследуя свою добычу, он выскочил из болота на релку, в одно мгновение пересек ее поперек в десяти шагах от меня и тотчас исчез в болоте слева от релки. Треск сухой ветки и всплеск воды свидетельствовали о его поспешности. Безусловно, зверь пытался догнать косуль, но в спешке сошел со свежего следа. Часто именно так промахиваются горячие гончие собаки, идя по следу зайца. «Скололся», — в таких случаях говорят охотники, и если гончак скалывается часто — низко расценивают такую собаку. Скололся на моих глазах и зверь, преследуя обеих косуль.
«Но что это за зверь?» — ломал я голову. С одной стороны, как будто я знаю этого зверя, и в то же время он совсем незнакомый мне. Кто же это может быть? Ведь я его видел самое большее в десяти — двенадцати шагах, но он мелькнул среди кочек, поросших черничником, с такой быстротой, что я видел отдельные части его тела только одно мгновение. Но тот же зверь прервал мои размышления и рассеял недоумение. Он как сумасшедший выскочил опять на релку, около меня круто повернул, явно учуяв запах косули, и унесся по следу вдоль по гриве.
«Рысь», — мелькнуло у меня в голове, и на этот раз я увидел ее мощные лапы, кисточки на ушах и короткий хвост с черным концом. «Рысь, рысь», — растерянно шептал я, когда зверь, сделав прыжок, в последний раз мелькнул на релке и исчез за деревьями. Затем впереди с хлопаньем поднялась побеспокоенная глухарка, уселась на дерево, и оттуда долго доносилось ее тревожное клохтание. «Что же я сидел как пень? — обрушился я на себя. — В десяти шагах рысь, а я рот разинул». С досады я сжал руки. Но в руках было не мое надежное ружье — им бы я без труда повалил крупную кошку на таком близком расстоянии. В одной руке я сжимал полуснятого глухаренка, а в другой скальпель. Вот досада — прозевал такого зверя. Это было тем обиднее, что я сталкивался с рысью в природе второй раз за свою жизнь. Сама в руки давалась — и упустил.

«Ну, не беда, наконец, — махнул я рукой. — Упустил, и все — ничем не поправишь. Зато я видел своими глазами то, чему трудно бывает верить». Ведь рысь — кошка, а кошки, как вы знаете, или бесшумно подкрадываются к своей добыче, или поджидают ее, спрятавшись в укромном месте. В этом отношении рысь, да и некоторые другие виды кошек, отличается от прочих. Наша рысь — искусный охотник и в состоянии справиться с крупным и сильным животным. Не спеша, деловито выслеживает она свою жертву. Пользуясь кустиками, прижимаясь к земле и передвигаясь только в те моменты, когда добыча занята едой, рысь, как тень, подползет к ней на самое близкое расстояние. Хороший прыжок — и животное в когтях сильного хищника. Иной раз, взобравшись на дерево и с замечательным терпением сидя над зверовой тропой, рысь выжидает, когда по тропе пойдет к водопою косуля и даже олень.
Известно также, что рысь иногда, используя свое чутье, нагоняет добычу по следу. Таким образом, наблюдая охоту рыси за косулями, я не сделал никакого открытия — все это давно известно. И все-таки я должен признаться, что до этого случая, будучи знаком с рысью по литературе, я не предполагал о ее способностях. Ведь, в отличие от волка, лисицы и вообще всех собачьих, чутье кошек развито относительно слабо. Однако теперь я могу с уверенностью сказать, что у рыси обоняние развито настолько хорошо, что она во время быстрого преследования добычи может легко ориентироваться горячим следом.
Но почему же, чуя след косули, рысь на этот раз не обнаружила столь близкое присутствие человека? Вероятно, внимание четвероногого охотника в тот момент было поглощено совсем другим, а я сидел неподвижно. Слабый ветерок, тянувший ко мне, также способствовал этому. Ведь перед тем меня не заметили и косули, хотя и топтались в десяти шагах от того места, где я сидел на кочке.
Глава четвертая
НАВСЕГДА ЗАТИХШИЕ ЗВУКИ
Трудно бывает охотнику весной усидеть в городе. Когда после февральских морозов и мартовских метелей наступают солнечные, совсем теплые дни и ясные тихие вечера, с непреодолимой силой захочется ему вырваться за город и отстоять на лесной опушке вальдшнепиную тягу. Чудесное это время — настоящий праздник для городского охотника.
Не добычлива вальдшнепиная тяга. Под Москвой далеко не каждый выезд удается охотнику сделать удачный выстрел. Чаще он издали увидит летящего вальдшнепа, услышит его своеобразный весенний голос и после этого на долгое время живо сохранит в памяти тихий вечер, проведенный им на лесной опушке.
Многие, конечно, знают, что вальдшнепы — перелетные птицы. Осенью они задерживаются на своей родине до наступления заморозков, а затем отлетают к югу. Одни птицы перезимовывают на южном побережье Крыма и в Закавказье, другие летят дальше, достигая берегов Средиземного моря. Пройдет зима, стает снег, и вальдшнепы тронутся в обратный путь на свою далекую родину. Пролет их совершается на зорях и ночью. Птицы покидают свои дневки в вечерние сумерки и, поднявшись на крылья, летят всю ночь до утреннего рассвета. И пока они пересекают южные безлесные части нашей страны, они летят торопливо, без голоса, так что и догадаться бывает трудно о вальдшнепином пролете. Но как только встретит вальдшнеп на своем пути первые участки настоящего леса, его полет становится совсем другой, необычный. Медленно взмахивая крыльями и всматриваясь в потемневшее мелколесье, зацыркает тогда вальдшнеп, захоркает, и эти своеобразные звуки наполнят тихий весенний вечер чарующей музыкой. Это и есть тяга. Как видите, она начинается еще во время пролета и после того, как вальдшнепы достигнут гнездовых мест, продолжается здесь до второй половины июня, а иногда и до начала июля. Но особенно хороша тяга в раннее весеннее время, когда деревья еще не покрыты листьями и прозрачный лес на вечерних зорях кажется окутанным голубовато-зеленой дымкой.

— Поедем сегодня, — как-то обратился ко мне один из моих сослуживцев. Вместо ответа я кивнул головой в знак согласия. При этом кратком разговоре как-то не возник вопрос, зачем ехать, куда ехать, — все и без лишних слов было ясно. Да и куда весной после работы могут стремиться охотники — конечно, только на тягу. Обычно я не езжу на эту охоту далеко от города: ведь вальдшнепы весной тянут повсюду, а при обильном пролете даже в парках, в черте самой столицы. Но иной раз так хочется побыть одному среди природы, не слышать шума многолюдного большого города.
На этот раз мы сошли с поезда на станции Голицыно и, пройдя два-три километра сначала по полотну железной дороги, потом лесом, наконец остановились на лесной вырубке. С востока и севера ее окружал старый еловый лес, с другой стороны вдоль небольшой речки с болотистыми берегами тянулось лиственное мелколесье. Толстая дуплистая осина да две крупные ели почему-то остались на вырубке и высоко поднимали свои вершины среди пней и молодой поросли.
— Становись здесь, — сказал я своему спутнику, указывая на эту группу деревьев, а сам перешел речку, потом пересек темный ельник и вышел на лесную болотину, поросшую молодым осинником. Узкой лентой, наверно метров на двести, протянулась она между двумя хвойными массивами леса. Хорошее место. Я давно оценил его и при каждом удобном случае езжу сюда на тягу. Где бы ни тянул вальдшнеп, но как только долетит он до этой прогалины, сейчас же свернет к болотцу, спустится совсем низко над молодой порослью и, как-то особенно громко издавая свои весенние звуки, медленно взмахивая крыльями, летит до другого конца.
До начала тяги еще далеко. В ожидании вечера я удобно усаживаюсь на широкий пень, гляжу на лес, на бледное голубое небо, слушаю, как звонкими голосами перекликаются зяблики, как поет овсянка. Бесконечно дорога мне ее несложная милая песенка — она так гармонирует с природой нашего севера. И я вслушиваюсь в издавна знакомые звуки, вспоминаю такие же вечера, проведенные на лесной опушке в прошлые годы. А солнце тем временем все ниже склоняется к западу, его яркие лучи пронизывают еще не одетое листвой мелколесье, блестят в темной воде лесного болота. Наконец красный лик заходящего солнца, освещая только вершины крупных деревьев, тонет за горизонтом, и кругом сразу становится сумрачно, свежо и сыро. Кончился день, но не стихла природа. С остроконечных вершин темных елей еще долго льется неторопливое звучное пение дроздов, в глухой чаще время от времени звучит короткая скрипучая песня зарянки. Но пройдет еще около получаса — сгустятся сумерки и умолкнут птицы. И тогда на самое короткое время в лесу воцарится торжественная тишина: ни ветерка, ни движения, ни звука.
«Цы-вить, цы-вить», — издали заслышит охотник своеобразное цырканье и замрет в ожидании. Это наконец поднялся в воздух и потянул над лесом первый вальдшнеп.
В тот вечер, о котором мой рассказ, не удалась охота. Весна запоздала, тяга была плохая, и я только издали услышал голос одного протянувшего вальдшнепа. Но зато, когда наступили поздние сумерки, весь лес вдруг наполнился своеобразными весенними криками лесной совы, так называемой серой неясыти.
«Ху-ху-хуу-хууу-ууу», — кричала ночная птица, и эти необычно мощные звуки, казалось, сотрясали дремлющий лес, проникая в самые глухие и отдаленные его уголки. «Ху-ху-ху-у-у-у…» — откликалось далекое эхо.

Забыв о вальдшнепах, о тяге, обо всем на свете, я стоял на прогалине и как зачарованный слушал эту чудесную лесную музыку. А мощный голос то стихал на короткое время, то возобновлялся с новой силой. Трудно даже было поверить, что это кричит сравнительно небольшая птица.
Вдруг в том направлении, где я оставил своего спутника, раздался выстрел. Он также прокатился по лесу и откликнулся эхом. И после него в лесу наступила какая-то особенная, гнетущая тишина. Долго я ждал, не закричит ли опять неясыть, но крик не возобновлялся, и я понял, что выстрел был направлен в чудную ночную птицу. Зачем я взял с собой такого охотника, который бесцельно уничтожает полезных животных? Ведь это не дичь, и выстрел по сове ради забавы — это не спортивный, а недостойный для спортсмена и серьезного охотника выстрел. Ведь убить близко подлетевшую крупную и доверчивую сову ничего не стоит. Вечер был для меня испорчен. Не дождавшись конца тяги, я пошел обратно: мне хотелось как можно скорей наговорить своему спутнику самых беспощадных и обидных дерзостей.
— Это ты сову убил? — не дойдя до старой осины, издали крикнул я.
— С чего это ты взял? Не я, конечно, — тоже с раздражением ответил из темноты голос. — Зачем я буду зря стрелять по сове? Выстрелил какой-то охотник, — продолжал мой товарищ, когда я подошел к нему близко.
— Пора домой — уже поздно, тянуть больше не будут, — проронил я, бросая взгляд на сильно потемневшее небо.
И мы, не находя темы для разговора, молча побрели, сначала вырубкой, потом тропинкой сквозь ельник. Здесь было совсем темно. Под ногами хлюпала насыщенная влагой почва да изредка хрустел сухой валежник.
— Не житье под Москвой совсем, — нарушил я молчание, когда мы наконец вышли к железной дороге и тропинкой направились к станции. — Охотников в Москве хоть отбавляй, а среди них немало таких, которые и представления не имеют, насколько полезны для нас совы. Встретит такой охотник в лесу странную большеголовую птицу, не задумываясь, убьет ее и решит сделать чучело. Вот почему серые неясыти стали под Москвой настоящей редкостью. И напротив, возьми Закавказье — там этих сов очень много. Их никто не трогает, и они живут и в леса, и в садах, часто у самого жилья человека, истребляя крыс и других грызунов-вредителей. Иной раз утром выйдешь из дому и увидишь сидящую над окном совушку. Распушится она вся, голова у нее большая, круглая, глаза тоже большие и черные, с едва заметным малиновым оттенком. Близко подойдешь к ней, а она не боится, сидит на том же месте, только свои круглые глаза на тебя таращит. А ранней весной — в марте или в конце февраля, вечерами, как начнут перекликаться эти неясыти — красота такая, что представить трудно. Одна кричит рядом, другая в соседних садах, третья в лесу. В горах откликается эхо. Слушаешь — и не можешь наслушаться этой лесной музыки.
В этот момент мы подошли к станции; у платформы стоял поезд, мы заспешили, и разговор оборвался.
Много раз после этого случая приезжал я на тягу в Голицыно. По-прежнему вечерами до тяги пели дрозды и зарянки, потом то хорошо, то плохо тянули вальдшнепы, порой раздавался выстрел, только ни разу не слышал я на знакомой вырубке крика серой неясыти. После того как при нас была убита одна из птиц, другая, видимо, покинула этот лесной массив, и совы совсем перестали гнездиться в окрестностях станции.
Глава пятая
ХОМЯКИ
В лето, к которому относится этот рассказ, меня особенно интересовали мелкие грызуны. Пользуясь каникулярным временем, я поселился в одном зерновом совхозе на Украине и здесь решил познакомиться с образом жизни этих животных. Особенно интересовали меня рыжие хомяки.
Хомяк по внешнему виду очень похож на морскую свинку. Однако сходство это только внешнее, нрав их совершенно различен. Смело берите в руки морскую свинку. Робкий зверек безобиден. Он не укусит вас, не причинит боли. Но от рыжего хомяка держите руки подальше.
Невелик хомяк, неловок в своих движениях, но смел и зол до невероятности, а его укусы крайне болезненны. Длинные и тонкие передние зубы хомяка в момент укуса несколько изгибаются в стороны. Вследствие этого они наносят не только глубокую, но и рваную рану. Этим укус хомяка хуже укуса многих других, более крупных и сильных животных. Туловище хомяка толстое и короткое, морда широкая, лапы маленькие, хвост короткий, Спина зверька рыжая, брюшко черное, кисти ног белые, как будто в белых перчатках. Белый цвет также на кончике морды, на шее и боках тела. Одним словом, рыжий хомяк — яркий и нарядный зверек. Бывают хомяки и иной, почти черной окраски, но, за исключением немногих районов, встречаются они очень редко.

Уже первые экскурсии в окрестности совхоза убедили меня, что хомяк здесь обычное животное. В кустарниках терна и в высокой траве среди полей я обнаружил хорошо заметные тропки; они приводили меня к обитаемым норам.
Прошло еще несколько дней, и наконец я повстречался с одним из обитателей подземных жилищ. В одно летнее утро, еще до восхода солнца, я шел по тропинке среди мелких кустарников и вдруг, заметив движение впереди, остановился. Прямо ко мне по тропинке не спеша трусил крупный рыжий хомяк. Его защечные мешки до отказа были набиты зернами пшеницы, и вследствие этого голова грызуна казалась непропорционально большой и широкой. Вероятно, он возвращался с ближайшего поля в свою нору. Я стоял неподвижно, и хомяк заметил меня когда между нами оставалось не более метра. Но смелое животное, видимо, не собиралось уступать дорогу человеку. Хомяк поднялся на задние лапы, поспешно освободил защечные мешки от зерен и злобно заскрежетал своими зубами. Я попытался накрыть его шапкой, но зверь на мгновение вцепился в нее, а затем отпрыгнул в сторону и нырнул в случайную нору. «Ну и смелое же существо, — подумал я. — Надо поймать семью хомяков, понаблюдать за ними в неволе, а потом передать Московскому зоопарку».
Однако достать семью хомяков оказалось не совсем просто. Суслики, например, обитали у самого совхозного пруда. Два ведра воды, вылитые в первую жилую нору, — и вам в руки попадал суслик. Иначе обстояло дело с хомяками. Как будто назло, все обитаемые норы находились далеко от воды. Раза два с местными ребятами я предпринимал походы за хомяками, но они, к моей досаде, кончались неудачей. Ведь нелегко доставить воду километра за два от берега. А это приходилось делать неоднократно. Однако каждый раз воды оказывалось недостаточно. Надо было отправляться за новой порцией, и тут-то исчезал азарт моих юных друзей. Хомяки, таким образом, подвергшиеся непривычному купанию, но невредимые, оставались в глубокой, недоступной норе. Вот по этой-то причине я и решил воспользоваться волами совхоза. С помощью их я предполагал доставить к месту расположения хомячьих нор сорокаведерную бочку с водой. При наличии воды я рассчитывал на полный успех в своем деле.

На целинном клочке степи среди сжатых хлебов стояла телега с большой бочкой, запряженная двумя волами. На стенках бочки под лучами солнца блестела расплесканная вода, а волы, поскрипывая ярмом, лениво щипали траву и отмахивались хвостами от назойливых насекомых. Трое загорелых ребят-подростков окружили небольшой холмик, в центре которого помещалась нора хомяка. Четыре полных больших ведра, вылитых подряд в расширенный ход, не дали никаких результатов. Словно живая, журча и рокоча, вода уходила в глубокую нору. Когда же Ваня быстро опрокинул пятое ведро, нора неожиданно заполнилась доверху и уровень воды несколько секунд оставался неподвижным.
— Заткнул, — шепнул Ваня, подтягивая к норе еще ведро с водой.
Это продолжалось недолго. Поверхность воды в норе вдруг закачалась и резко понизилась на целую четверть.
— Лей еще, — скомандовал Ваня, — пьет! — И нора вновь наполнилась доверху. Но в этот момент уровень воды, так сказать, рухнул и со своеобразным гулом ушел в глубину. Новая струя воды потекла в нору из перевернутого ведра; едва справляясь с нею, на поверхности появился сначала крупный хомяк-самка, а за ним еще семь небольших хомячат. Не теряя времени, ребята как попало хватали мокрых, еле живых зверьков и бросали их в рядом стоящую лейку, заполненную соломой. Так многочисленная семья хомяков попала мне в руки.
Пойманных хомяков я поместил в просторный низкий ящик. Его дно я выстлал слоем дерна, а сверху ящик накрыл рамой с металлической сеткой. Мокрые и озябшие зверьки сбились в углу в тесную кучку. Я засыпал их сеном и оставил в покое.
Проснувшись на другой день утром, я осторожно приподнял раму и заглянул в ящик. Внутри он был освещен солнцем. Тысячи пылинок двигались и блестели в солнечном свете, пахло увядающей зеленью. А среди поникшей, покрывающей дно травы на задних лапках сидели мои пленники.
Но они уже не походили на вчерашних несчастных, мокрых зверушек. Трудно даже представить себе, насколько они были сейчас привлекательны. Толстые и смешные увальни с каким-то особенным спокойствием и недоумением следили за моими движениями. Их высохшие за ночь шкурки лоснились на солнце. Ни испуга, ни растерянности не чувствовалось в их позах. Я невольно залюбовался моими хомячатами. «Но ведь мне нужно накормить новых питомцев, привести в порядок помещение», — спохватился я. И вот, стараясь не делать резких движений, я поправляю дерн в ящике, под самым носом одного из зверьков насыпаю кучку семян подсолнуха, кладу молодую морковку. Хомячата никак не реагируют на мои действия и продолжают сидеть на задних лапках. «Однако как симпатичны эти зверушки!» — любуюсь я хомячатами, и в этот момент, опершись на ящик, нечаянно сдвигаю его с места. Он двигается на самое короткое расстояние — ну, предположим, на два-три сантиметра, но и этого вполне достаточно. Раздается скрипучий звук, пугающий хомяков. Как по команде, они бросаются по направлению мнимой опасности, и трое из них вцепляются зубами в мою руку. Острая боль заставляет меня резким движением выдернуть руку из ящика. Слишком поздно разжав свои челюсти, вместе с рукой снаружи появляются хомячата, шлепаются на пол и, вновь усевшись, как в ящике, на задние лапы, угрожающе скрежещут своими зубами. Я же растерянно смотрю то на хомячков, то на свою руку; из глубоких рваных ранок на пол капают капли крови.
Как видите, первое знакомство с хомячатами мне обошлось недешево. Но это было только начало. Члены многочисленной четвероногой семейки и в дальнейшем кусали меня при всяком удобном случае, при каждой моей оплошности. И если бы ранки не заживали, на моих руках не было бы живого места. Однако все это в прошлом, и сейчас я с удовольствием вспоминаю о кратковременном пребывании хомячат у меня в неволе; содержание их дало мне возможность близко познакомиться с их повадками и нравом.
В отличие от многих других грызунов, хомяк всеяден. Он охотно ест зелень растений, корнеплоды, семена, но не отказывается и от животной пищи. Пустите к хомяку майского жука, и он съест его с удовольствием. Животная пища, видимо, имеет большое значение в его питании. Хомяк не впадает в зимнюю спячку, но редко появляется зимой на поверхности.
Зимняя жизнь грызуна протекает в глубокой норе, где он сохраняет запасы зерна; их хватает хомяку на всю зиму. Страсть к заготовке всего съестного впрок проявляется у хомяков и в неволе. Излишки корма — зерна пшеницы, подсолнуха и конопли — он перетаскивает в защечных мешках в свою кладовую; делает он иногда кратковременные запасы и из животной пищи.
Однажды в клетку к хомяку попала случайно травяная лягушка. Хомяк был вполне сыт, но не упустил добычи. Несколькими быстрыми укусами хомяк парализовал ее движения: в двух-трех местах он перекусил ее длинные задние ноги, после чего лягушка потеряла способность прыгать.
Проголодавшись, хомяк ее съел.
Семья хомяков прожила у меня несколько больше месяца, и если в отношении пищи они были неприхотливы, то в другом отношении доставляли много хлопот и нуждались в неустанном присмотре. Своими острыми и длинными зубами хомяк способен прогрызть гладкую и толстую доску. Стенки предназначенного для них ящика не являлись серьезным препятствием к побегу. Будучи ночными животными, хомячата за одну ночь успевали наделать дыр в стенах. В таких случаях всю семейку грызунов наутро я находил не в клетке, а в комнате.

Однажды я не обнаружил хомяков не только в клетке, но и в комнате.
Обыскивая закоулки, я нашел в полу небольшую свежую дырку; она вела в подпол. Каким-то чудом хомячата не успели уйти далеко. Я спешно спустился в подпол и выловил всех беглецов до единого. Но во что превратились после этой операции мои руки! Они были жестоко искусаны.
Как можно скорее расстаться с хомячатами — было единственное мое желание после этого случая. Тем более что они не поддавались приручению и продолжали жестоко кусаться при всяком испуге. Я же при одном виде хомяков испытывал неприятное чувство и невольно прятал руки в карманы. Вот до чего довела меня «милая семейка» хомяков, прожив под моим покровительством немного больше месяца.
Но всему бывает конец. Кончилось и пребывание у меня зубастых зверушек. На другой день после приезда в Москву я унес клетку с хомячатами из своей квартиры. Семь хомяков из восьми поступили в Московский зоопарк, восьмой хомячонок бесследно исчез. Но куда он мог исчезнуть? Этот вопрос долго не давал мне покоя. Прошло больше года — хомячата и их укусы были забыты.
Однажды я обратил внимание на странное повреждение тыквы. Большая ярко-желтая тыква несколько дней тому назад была куплена на рынке и все время лежала на полу у балконной двери. Я взял тыкву в руки и внимательно осмотрел свежие надгрызы на ее гладкой поверхности. Кто это сделал? У нас не было кошки, но и мышей давно не было видно. Да и надгрызы не походили на мышиные — этот грызун не обладает такими большими зубами. Быть может, крыса? Но и крысы также давно не проникали в нашу квартиру. Я ничего не мог придумать. Одно было ясно. Какой-то загадочный зверек поселился в нашей квартире. Кто он такой? Чтобы получить ответ на этот вопрос, я решил поставить ловушку. Для этой цели я использовал небольшой сундучок с плотно закрывающейся крышкой. Для того чтобы превратить его в западню, я приспособил к нему несложный механизм. Крышка должна захлопнуться, как только зверек спустится на дно ящика и коснется настороженной дощечки. Не зная точно, на кого я ставлю ловушку, я решил использовать разнообразную приманку.
Ловушка поставлена. Я лежу на кушетке в темной комнате и жду сигнала. Но кругом тишина; монотонно постукивают стенные часы; иногда доносится шум улицы. Я стараюсь не спать, но мысли мои путаются. И вдруг я вздрагиваю и поднимаюсь на кушетке. Вероятно, я спал, а если спал, то что меня разбудило? Я зажигаю электричество и бросаю взгляд на ловушку — она захлопнута.
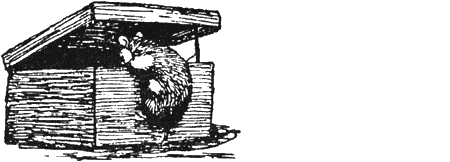
Тогда я вскакиваю, ставлю ящик на стол и, осторожно приоткрыв крышку, заглядываю в ящик. Через узкую щель я узнаю своего старого питомца-хомячка. Зверек перепуган, но, как и когда-то, он сидит на задних лапках и угрожающе скрежещет своими зубами.
Больше года, ничем не выдавая своего присутствия, беглец-хомячок прожил в моей московской квартире. Из лоскутков материи, бумажек, когда-то утерянного шарфа и шкурок мышей за книжным шкафом хомячок устроил себе гнездо. Из своего убежища осторожный зверек, видимо, выходил только ночью, когда все спали. Собирая случайно упавшие на пол кусочки хлеба и рассыпанные из клетки с птицами зерна, беглец не только кормился, но и делал запасы впрок. Мне интересно знать, как бы вы поступили, читатель, со зверьком на моем месте?
Пойманный хомячок прожил у меня в ящике ровно сутки. На следующий вечер я открыл крышку и выпустил оттуда хомячка. Но выпустил его не на волю, а опять в свою квартиру. Ведь он не доставлял мне никакого беспокойства. Видимо, он был даже полезен, так как за время его пребывания в квартире совершенно исчезли домашние мыши.
Глава шестая
ТРУШКА
В широкой котловине среди бугристых песков, где мы расположились лагерем, помещался крупный городок грызунов-песчанок. По меньшей мере на пятьдесят метров кругом вся почва, поросшая мелким саксаулом и усыпанная отмершей растительной ветошью, была сплошь изрыта зверьками. Бесчисленные норки шли в различных направлениях, их ходы перекрещивались и соединялись, представляя собой сложный лабиринт, в котором, вероятно, и самим обитателям было нелегко разобраться. Когда после дневной стоянки я проснулся от громкого свиста зверьков и выбрался из палатки, десятки потревоженных песчанок побежали к своим норкам. Здесь, чувствуя себя в безопасности и готовые в любую секунду скрыться в подземном убежище, они поднимались на задние лапки и с любопытством рассматривали нарушителей покоя. Однако на протяжении последней сотни километров, пройденных нами по пескам Кызылкумов, мы встречали песчанок так часто и они так надоели нам своим назойливым свистом, что я перестал на них обращать внимание.
И сейчас меня интересовали не наши многочисленные соседи, а крупное гнездо какой-то птицы, устроенное на широких ветвях старого саксаула. Оно виднелось в километре от нашего лагеря. Захватив палку, я зашагал в том направлении. Но на этот раз я не достиг цели.
Не прошел я и половины расстояния, как под моей ногой подалась рыхлая почва, и я по колено провалился в нору песчанки. Конечно, это не могло задержать меня надолго — не в этом дело. В момент, когда под моей тяжестью, поднимая пыль, рухнуло подземное жилище, из него выскользнул какой-то длинный пестрый зверек и в ту же секунду исчез в соседней норке песчанки. Из-за пыли и быстроты движения я не рассмотрел его как следует. «Вероятно, перевязка», — подумал я и, отойдя несколько в сторону, стал следить за норкой, где скрылось животное. И не напрасно. Вскоре любопытство неведомого зверька побороло страх, и из норы появилась пестрая белобровая мордочка. Прошло минут пять, я не двигался, и смешной зверек, продолжая следить за мной своими иссиня-черными глазами, осторожно вылез наружу. Извиваясь как змея, он на брюхе прополз около метра и вновь скрылся в следующей норке песчанки. Я же, не отрывая глаз, все время следил за этим странным, оригинальным животным. «Нужно поймать живьем», — решил я и, заткнув нору палкой, спешно зашагал к лагерю за кетменем и лопатой.
Однако, раскопав значительный участок почвы, я потерял надежду. Нора, куда скрылся зверек, вскоре соединилась с многими другими норками — несомненно, я бессмысленно тратил силы. Какова же была моя досада, когда я, решив передохнуть, случайно взглянул в противоположную сторону. В одной из норок я увидел пеструю голову перевязки. Зверек с нескрываемым удивлением и любопытством следил за моей бесполезной работой. Но и раскопка второй норы не увенчалась успехом. Интересующий меня зверек так и не попал мне в руки.

Перевязка в высшей степени своеобразное и довольно редкое животное. Несмотря на широкое распространение, его мало кто знает. Он встречается в южных частях нашей страны, в степных и пустынных местностях, где поселяется в норках и питается довольно крупными грызунами. Строение и особенно окраска зверька настолько характерны, что позволяют отличать его безошибочно от других животных. Величиной с белку или несколько крупнее ее, тонкий и гибкий, он обладает короткими ножками и очень длинным пушистым хвостом. Ноги и вся нижняя часть тела зверька покрыты черным мехом, напротив — голова и спина пестры, окрашены в черный, белый и рыжий цвета.
После моей первой встречи с этим животным прошло больше года.
Как-то раз я со своим знакомым, местным охотником, бродил в тамарисковых зарослях, тянувшихся вдоль арыков. Время от времени наша собака Динка вспугивала фазанов. Фазан взлетал с характерным шумом и криком, гремел выстрел, и убитая птица падала в поросли.
Уже время близилось к полудню, и жара давала себя чувствовать. Мы устали и хотели возвращаться домой, как вдруг раздался громкий визг собаки.
Пробравшись сквозь низкий кустарник, я выбежал к арыку. На противоположной стороне его раскинулась глинистая поляна, поросшая редкими чахлыми кустиками. Там, наполняя окрестности дикими воплями, как сумасшедшая трясла головой и вертелась на одном месте наша собака. «Наверное, укусила змея», — мелькнуло у меня в голове, и я, перескочив арык, бросился на помощь животному.
К счастью, мое предположение не оправдалось. В поисках фазана Динка случайно наткнулась на молодого зверька перевязку, а тот не то с перепугу, не то от избытка дерзости вцепился ей в морду. Маленький задорный хищник, держась зубами за собачью губу, летал в воздухе. Каждую минуту он мог разжать свои челюсти и, сорвавшись с собачьей морды, исчезнуть среди зарослей. В тот момент больше всего я боялся этого и, кинувшись к собаке, схватил перевязку. Извиваясь как змея, взбешенный зверек искусал мои руки, а освободившаяся собака отбежала в сторону и, слизывая кровь с пораненной морды, обиженно и недоверчиво поглядывала в мою сторону.
При таких обстоятельствах ко мне попал веселый, смелый и смешной зверек — перевязка. Я привез его в Москву, и он поселился в моей московской квартире. За яркую пеструю окраску я назвал его вначале Пеструшкой, но это имя как-то не привилось моему питомцу. Вскоре мы стали называть его Петрушкой и, наконец, ради краткости, просто Трушкой.
Если вы хотите приручить дикого зверька, никогда не сажайте его в клетку. Клетка озлобляет, делает зверька нервным и злым. Помните также, что двух одинаковых зверьков приручить много труднее, чем одного. При жизни вдвоем у них всегда найдутся общие интересы и люди для них будут только помехой. Напротив, одиночество толкнет зверька к сближению с человеком. А если вы будете ласковы со своим питомцем, то добьетесь многого.
В самом начале жизни в неволе мой Трушка был недоверчив и зол. Только попытаешься, бывало, подойти к нему, он сейчас же оскалит свои острые белые зубы, глаза его нальются кровью, хвост распушится, как щетка. Он первый нападал, смело бросался вперед и больно кусался.
Но отношение всей нашей семьи к Трушке было неизменно ласковым и спокойным, и через два месяца поведение зверька сильно изменилось. Он выбегал на зов из своего убежища под диваном и, ожидая подачки, как собака, становился на задние лапки. Но по-прежнему он не позволял трогать себя и с ожесточением кусал слишком смело протянутую к нему руку.

Вот как первый раз погладил я Трушку. Зверек любил мед, и я воспользовался этой его слабостью. Обмакнув палец в душистый мед, я поднес его к самому носу зверька. Он ощетинился и оскалил зубы — вот-вот вцепится! Но я не отдернул руки, продолжая держать палец.
Постепенно злобное выражение на Трушкиной морде исчезало. Все еще возбужденно ворча, он лизнул мне палец. Я не шевелился. Трушка лизнул еще и еще раз.
Это был первый шаг к нашей дружбе. Другой рукой я осторожно почесал перевязку за ухом. Трушке понравилось. Зажмурившись, он тихонько ворчал.
В другой раз, когда он облизывал мед у меня с пальца, я осторожно перевернул его на спину. Он защищался, кусал направо и налево, но не больно. Это уже была игра.
Пришла весна, мы выставили окна, настежь открыли балконную дверь. Вместе со свежим воздухом и светом в квартиру ворвался шум большого города. В первый момент это испугало нашего Трушку, заставило его забиться в темный угол за буфетом, но ненадолго. Ведь любопытному зверьку необходимо было осмотреть этот новый уголок мира. Вытянувшись во всю длину и почти касаясь брюшком пола, он ползет к двери, минует порог и, достигнув балконной решетки, замирает в неподвижной позе. Под ним внизу шумит улица, звенит трамвай, проносятся автомобили, идут, разговаривают люди, десятки, сотни людей. Шум улицы то несколько утихает, то возрастает с новой силой. Все это непонятное, незнакомое и шумное, видимо, взволновало, испугало животное. За испугом же почти всегда у этих животных следует вспышка безумного гнева и смелого натиска на врага.
Мех зверька стоял дыбом, его длинный хвост был закинут на спину, зубы оскалены.
Только теперь я понял состояние Трушки, но слишком поздно. Не успел я сделать и шага к нему, как пестрое тельце нервного хищника мелькнуло между прутьями ограды балкона и полетело на улицу.
По моим расчетам, зверек должен был упасть на асфальт и разбиться. Я выскочил из квартиры и бросился вниз по лестнице. К счастью, гибкий и ловкий Трушка совершил свой первый и последний полет по воздуху вполне удачно. Падая, он случайно попал на спину прохожего и, не удержавшись здесь, полетел в корзину продавца фруктов.
Подоспев вовремя, я поймал в корзине злополучного «летчика». Он был так испуган и озлоблен, что, пока я водворял его в квартиру, успел жестоко искусать мои руки.
Больше Трушка уже не падал, хотя дверь на балкон по-прежнему была открыта. К жизни улицы он скоро привык, на ее шум уже не стал обращать внимания. Прохожие не раз останавливались и с изумлением наблюдали, как по карнизу дома, в центре столицы, пробирается маленький странный пестрый зверек. Это Трушка шел на крышу соседнего флигеля.
Тут, на нагретой солнцем крыше, было тепло, как на далеком юге. Трушка с большим удовольствием отправлялся сюда погреться, но ему постоянно мешали кошки. Иной раз они собирались на крыше большой компанией. Появление маленького зверька на крыше, естественно, привлекло их внимание.
Сначала кошки сочли зверька за свою добычу. Да не тут то было! Острые зубы свирепого Трушки при первом же знакомстве заставили кошек держаться поодаль. Вскоре ни одна из кошек, наученная горьким опытом, не решалась подойти близко к нашему перевязке.
Трушкины прогулки повторялись все чаще и с каждым разом становились все продолжительнее. На чердаке флигеля, куда он проникал через слуховое окно, зверек с увлечением охотился за крысами. Однажды, увлеченный охотой, он не возвратился домой к ночи.
Прошло два дня — к общему огорчению всей нашей семьи, Трушка бесследно исчез. Что с ним могло случиться, оставалось загадкой. Я обследовал чердак и дровяные сараи, но, увы, безуспешно. Нашего общего любимца нигде не было. Когда же всякая надежда на возвращение зверька исчезла, он вновь появился в нашей квартире.
В тот вечер я поздно пришел домой и, поднявшись по черной лестнице, вошел в кухню. Она была освещена лунным светом. Лунное сияние заливало и крышу соседнего флигеля. И вот здесь-то мне представилось редкое зрелище. На крыше дома сидели четыре кошки, а посреди кошачьего круга, угрожающе подняв хвост и взъерошив мех, стоял наш любимец Трушка. Вся его маленькая смешная фигурка выражала отвагу и независимость. Я приоткрыл окно и позвал зверька по имени: «Трушка! Трушка!» Он тотчас узнал мой голос, быстро обернулся и, небрежно пройдя мимо кошек, побежал к открытому окну кухни.

Кошки не тронулись с места, но четыре пары глаз проводили зверька настороженным, удивленным взглядом.
Не только на крыше, но и во всей квартире Трушка чувствовал себя независимым и вел себя как хозяин. Квартирные кошки при его приближении почтительно отходили в сторону или вскакивали на столы и подоконники. Конечно, лучше уступить дорогу, чем быть жестоко искусанным маленьким вспыльчивым забиякой. Однажды я получил в подарок уже крупного, шестимесячного щенка сеттера. Он был глуп и доверчив. Как сейчас помню, я внес его на руках и, не говоря ни слова, поставил на пол среди комнаты. Конечно, все окружили этого толстого и симпатичного увальня.
Вдруг из-за кушетки появился Трушка. Независимо он прошел мимо нас и направился к глупому щенку-сеттеру. Видимо, он также решил познакомиться с новичком, и, думая так, никто из нас не хотел мешать этому. К сожалению, знакомство неожиданно приняло неприятную форму. Щенок доверчиво приблизился к Трушке и с любопытством обнюхал маленького смешного зверька. Он помахивал своим толстым хвостом, доказывая этим, что у него нет никаких дурных намерений.

Иначе вел себя перевязка. Совершенно спокойно он поднялся на задние ноги и как-то особенно долго и тщательно обнюхивал такой большой и влажный нос собаки. И вдруг вся квартира наполнилась отчаянным щенячьим визгом. Трушка жестоко вцепился зубами в нос бедной собаки.
Много времени прошло после этого случая, добродушный щенок-сеттер стал взрослой большой собакой, но и тогда он боялся зубов перевязки.
Если из комнаты доносился гневный лай и рычание сеттера, мы уже знали: это маленький зверек обижает большую собаку. Трушке особенно полюбилось есть из собачьей миски. Он приближался смело, не обращая внимания на угрожающее рычание, а сеттер отступал в сторону. Пока маленький нахал хозяйничал в его миске, сеттер рычанием выражал негодование, но не решался подходите близко.
И только единственный обитатель нашей квартиры — старый крикливый попугай Жако — не признавал Трушкиного авторитета. При первой попытке проникнуть в клетку и познакомиться с ним поближе попугай насквозь прокусил Трушке лапу. Затем птица подняла такой неистовый крик, что нервы зверька не выдержали и он поспешно скрылся под шкафом. После этого случая перевязка ни разу не подошел к клетке. И вообще не обращал никакого внимания на попугая. Какое ему дело до назойливой крикливой птицы?

Значительно позднее мы вместе со всей семьей проводили лето в Средней Азии.
Однажды знакомый казах-охотник принес мне семью перевязок. Она состояла из старой самки и трех маленьких детенышей. Вначале я поместил животных в большую клетку. Вскоре, однако, укус ядовитой змеи щитомордника погубил старую самку, и малыши остались без матери. Тогда я передал перевязок жене. Благодаря ее заботливому и внимательному уходу они благополучно выросли и вскоре стали совсем ручными. Как они были смешны и интересны, представить трудно! Большеголовые и маленькие, с тонкими шейками, они двигались странными толчками. Казалось, вот-вот непропорционально большая голова перевесит вперед легкое туловище и зверек перевернется на спину.
Но этого не случалось. Когда же им давали застреленного грызуна песчанку, они впивались в него своими острыми зубами и, пытаясь отнять друг у друга добычу, поднимали сначала возню, а затем драку. К сожалению, несколько подросшие перевязки быстро одичали и жили своей собственной замкнутой жизнью.
Ну а теперь я расскажу о другом животном, долгое время жившем в моей квартире. В отличие от тонкого и юркого Трушки, он был невероятно толст и неуклюж. Звали его Мишкой.
Глава седьмая
БАЙБАК МИШКА
Герой рассказа принадлежал к роду сурков. Эти крупные грызуны, иной раз достигающие более шестнадцати килограммов веса, распространены в горных лугах и степях нашей Родины. Их у нас несколько видов. В отличие от большинства других сурков, байбаки — настоящие степные животные. В начале прошлого столетия они были широко распространены в черноземных степях юга страны, до Иртыша.
Однако изменение условий — распашка целинных степей — пагубно отразилось на их численности. На огромных пространствах былого распространения байбаки совершенно исчезли и ныне сохранились отдельными колониями кое-где на целинных участках степей Украины, по Дону, в низовьях Волги, на Южном Урале и в Казахстане.
Все сурки — зимнеспящие животные. Спячка у различных видов продолжается от шести и больше месяцев в году, причем даже в одних и тех же горных районах отдельные сурки засыпают на зиму не одновременно. В нижнем поясе гор они ложатся сравнительно рано, а в высокогорьях, где долго сохраняются зеленые сочные травы, несмотря на более суровый климат, засыпают значительно позже.
Вот сейчас я хочу рассказать об одном байбаке, прожившем в моей квартире несколько лет.
Мне хочется показать, что ровным и ласковым отношением к зверю можно достичь многого и дикое животное превратить в совершенно ручное. Байбак Мишка в этом отношении был ярким примером в моей практике.
— Какой он смешной, толстый — настоящий медвежонок. Эй, Мишка, Мишка! — в восторге кричали дети, когда, развязав заплечный мешок, я осторожно вытряхнул на пол молодого байбачонка.
Ослепленный ярким светом и оглушенный гомоном детских голосов, байбачонок окончательно растерялся. Он забился в угол комнаты и, встав на задние лапы, стал резко свистеть, показывая свои крупные желтые зубы.

Ребята окружили зверька, протягивая ему кто морковку, кто кусочек сахару: «Попробуй, Мишка, вкусно!» Но байбачонок продолжал показывать зубы и так угрожающе свистел, что никто не решался подойти к нему ближе.
Поза неуклюжего зверька выражала отвагу. Было ясно, что если это понадобится, он будет смело защищать свою бурую шкуру. В то же время байбачонок не казался злым. «Не трогайте меня, я боюсь вас всех», — казалось, говорили его маленькие черные и добрые глазки.
Домой я вынужден был доставить байбачонка в заплечном мешке, при переезде его давили и толкали в трамвае. И было видно, что зверек испуган и ужасно разобижен и тем, что ему пришлось просидеть больше часа в темном мешке, и тем бесцеремонным обращением, каким встретила его веселая детвора.
Я посоветовал оставить зверька в покое. Детские голоса затихли, и лишь несколько пар любопытных глаз издали наблюдали за байбачонком. А испуганный зверек все еще стоял в углу. Время от времени он издавал громкий отрывистый свист, вздрагивая всем своим толстым телом и вздергивая кверху мордочку. В этот момент он очень напоминал разобиженного, всхлипывающего ребенка. Так вспоминается мне появление Мишки у нас в доме. Кличка Мишка, метко данная детворой, так и осталась за байбачонком. Когда Мишка поселился у нас, он был еще очень мал, ему не было и года. Но за свою короткую жизнь он много видел.
Родился Мишка в глубокой норе, выкопанной его матерью. Над выходом из норы поднимался небольшой холмик, возвышаясь среди зеленой, не тронутой человеком целинной степи. В дневные часы Мишкина семья выходила наружу, чтобы погреться на солнце и полакомиться кореньями. В безоблачном небе пели жаворонки, колыхал травы душистый ветер, а на соседних холмиках-сурчинах появлялись другие байбаки, жившие в той же колонии.
Только вряд ли Мишка мог помнить эту пору своей жизни, тем более что продолжалась она недолго. Он был еще очень мал и глуп в тот роковой день, когда страшные, незнакомые звуки заставили семью байбаков забиться в дальний отнорок их глубокого подземного жилища. Глухой стук становился все громче и громче — и вдруг… в норе стало совсем светло.
Ловцы, раскопавшие нору, забрали всю семью байбаков и доставили в районный центр. Там пойманных зверьков посадили в ящик, обитый листовым железом и металлической сеткой, погрузили в поезд и повезли в Москву на сельскохозяйственную выставку.
На выставке байбаки могли отдохнуть после неудобств и волнений дороги. Им была отведена небольшая, поросшая травой полянка, надежно окруженная изгородью. Земля на полянке была покрыта металлической сеткой. Сквозь ее ячейки свободно поднимались зеленые стебли травы. Эта сетка не позволяла зверькам, выкопав нору, уйти из вольеры. Целыми днями Мишка грелся на солнце или спал, забравшись в деревянный домик, куда заботливая рука не забывала класть охапку душистого сена.
Наступила ненастная осень. Ожиревшие байбаки начали готовиться к зимней спячке. Они таскали в свой домик пучки пожелтевшей травы и кусочки бумаги, занесенные ветром за загородку. Но зимовать в домике зверькам не пришлось. Выставка закрылась. Семья байбаков была передана Московскому зоопарку, а Мишка попал ко мне.
Бедный Мишка! Оторванный от семьи, лишенный возможности играть с товарищами, он сильно скучал и чувствовал себя одиноким. Его грустная жизнь однообразно протекала в углу комнаты. Когда кругом никого не было, Мишка решался выйти из своего угла, чтобы утолить голод. Но как только, бывало, скрипнет дверь или половица, байбачонок опрометью бросится в угол. И там встанет на задние лапы, прижмется широкой спиной к стене и свистит с угрозой на всю комнату — точно предупреждает: не подходите ко мне близко.
Однако добрый по природе и общительный байбачонок сильно страдал от одиночества и в поисках общества постепенно сдружился с нашей кошкой.
До чего же два этих зверя мало подходили друг к другу! Ловкий, подвижный хищник — кошка и толстый, неуклюжий увалень Мишка. Однако дружба росла и крепла с каждым днем.
Бывало, проснется Мишка рано утром и топает по комнате в поисках приятельницы. А та своими зелеными глазами пристально следит за каждым его движением. Затаивается, вздрагивает, будто за мышью охотится. Еще секунда, и неожиданный прыжок хищника валит Мишку на пол. Байбачонок вскакивает и тяжелыми скачками мчится за кошкой, а той уже и след простыл.

Вновь начинается эта нехитрая игра, которая, как правило, заканчивается стремительным нападением кошки и поражением неуклюжего байбака. Дружба с кошкой плодотворно сказывалась на Мишкином развитии и приучила зверька к дому.
Мишка наблюдал, как его четвероногая приятельница, подняв хвост трубой, с громким мяуканьем бегает за людьми, выпрашивая лакомый кусочек. Невольно и байбачонок порывался к людям. Сперва природное недоверие удерживало его на месте, но с каждым днем Мишка становился все смелей и смелей, все меньше дичился и наконец стал совсем ручным.
За это время Мишка сильно вырос и из маленького байбачонка превратился в крупного взрослого байбака. Весил он килограммов восемь или десять, был невероятно жирен, его бурая шкурка так и лоснилась. Все в квартире любили и баловали Мишку, и он сильно привязался к людям. Когда в квартире никого не было, зверьком овладевало беспокойство — он занимал сторожевой пост у дверей, чутко прислушиваясь к каждому звуку. Только откроешь дверь, а Мишка уж тут как тут. Схватит своими лапами твою ногу и тащится следом, пока не возьмешь его на руки.
Особенно Мишка любил мою мать — она баловала его больше всех. Как только увидит ее, поднимется на задние ноги, ухватится лапой за юбку и так ходит за ней по квартире.
Мишке нравилось спать на моей кровати, и хотя я пытался отучить его от этого, у меня ничего не вышло. Байбак оказался невероятно упрям и настойчив. Он упорно делал, что ему нравилось, но при этом его черные глазки выражали такое добродушие и наивность, что на него положительно невозможно было сердиться. Бывало, спит Мишка на моей кровати, выпятив вверх свое толстое брюхо, покрытое желтым мехом. Спит настолько крепко, что как будто не слышит, как я зову его по имени. Но стоит до него дотронуться, и Мишка мгновенно сообразит, что его хотят взять на руки. Чтобы избежать этого, он быстро перевернется брюшком вниз, распластается, как большой блин, цепкими передними лапками хватается за постель. С трудом поднимаешь тяжелого зверя, а за ним тащится и одеяло. Не успеешь стащить Мишку на пол, как он немедленно лезет обратно: дескать, хочу спать, и только.
Зато при наличии шоколада или сахара Мишку можно было заставить проснуться в любое время дня и ночи. Дотронешься кусочком лакомства до широкого Мишкиного носа и нарочно уйдешь в другую комнату. Сон у байбака как рукой снимет. Сначала открывается один черный глаз, затем другой. Мишка обнюхивает постель, но ничего не находит. Тогда он грузно шлепнется на пол — шлепнется потому, что прыгать совсем не умеет и, соскакивая с кровати, всегда летит кувырком. Поиски лакомого кусочка, обладающего чудодейственной силой, производятся с величайшей настойчивостью. Мишка сначала топчется по квартире, а затем поочередно забирается на колени ко всем членам семьи, обнюхивает руки. Но вот Мишкин нос находит руку, держащую сладость, и вялость зверька исчезает. Он суетится, втягивает в себя воздух, обнюхивает вашу одежду, бесцеремонно лезет в лицо и будет надоедать вам до тех пор, пока не получит того, что ищет.
Мишка отлично знал часы обеда и завтрака и считал своим долгом присутствовать за общим столом. Часто мы сажали его на стул на задние лапы и предлагали ложку с сахаром. Мишка зажимал ее в передней лапке и сосредоточенно ел, не просыпая ни одной сахарной крупинки.

Однажды Мишке взбрело в голову грызть ножку скамейки. Я несколько раз отгонял байбака, но он упорно возобновлял свою разрушительную работу. Тогда, потеряв терпение, я больно отдул байбака полотенцем. Бедный Мишка жалобно взвизгнул, но тут же снова занялся ножкой. Тогда я взял заячью трещотку (какие употребляют в Сибири для загона зайцев) и вооружился щеткой. Трещотка трещала, как пулемет, колючая щетка толкала Мишку в морду. Герой наш потерял самообладание и, как бомба, вылетел в другую комнату.
Я от души хохотал. Но через несколько минут в комнате показалась неуклюжая фигура байбака. С самым невинным видом Мишка вновь принялся за свою деятельность. Так у всех на глазах, несмотря на шлепки и угрозы, упрямец отгрыз ножку и лишь после того оставил скамейку в покое.
Однажды, возвращаясь с работы, я встретил на лестнице соседа.
— У вас что-то невероятное творится в квартире, — сказал он мне, — идите скорее домой.
Сквозь запертые двери были слышны то лай собаки, то птичий пронзительный голос. Это свистел и выкрикивал заученные фразы наш попугай Жако.
Я торопливо отыскал ключ, отпер двери и застыл на месте: весь пол в комнате был засыпан перьями. Перьями был облеплен и Мишка, радостно бросившийся мне навстречу. Оставшись один дома, от скуки он накуролесил: разорвал подушку и разбросал перья по всей квартире.
Чем чаще приходилось оставлять Мишку дома, тем чаще случались подобные бесчинства. Мишкины шалости становились невыносимы. Наконец мы решили отправить нашего питомца на дачу. Его охотно взяла на лето семья моего товарища.
На даче Мишке жилось несравненно привольнее, чем в городской обстановке. Он выкопал близ веранды глубокую нору и в течение всего лета продолжал свое подземное строительство. Молодому зверю необходимо было расходовать запас своей энергии. Он с увлечением рылся и копался в земле. Но никогда не оставался в норе слишком долго.
Мишку постоянно тянуло к людям. Запорошенный землей, он вылезал наружу и брел по направлению к дому.
Если он заставал семью на веранде, он укладывался на пол и отдыхал. Когда же все покидали веранду и отправлялись в комнату, Мишка считал необходимым плестись за всеми. В компании детей иной раз Мишка шел на прогулку на луг или в ближайший перелесок. Ходок, однако, он был плохой и боялся отходить далеко от дома. Метров сто пройдет, а затем повернет обратно и скачет к дому, только его короткий хвост мелькает в воздухе. Но вот он и на знакомом крылечке, встанет во весь рост на задние лапы и свистит изо всех сил, точно зовет всех вернуться.
Бывали случаи, когда байбак и один отправлялся на ближайшую лужайку, но как услышит издали лай собаки или завидит чужого человека, тут же припустится к дому. По-прежнему Мишка не выносил одиночества, и каждый раз, когда его оставляли одного дома, он обязательно выкидывал какой-нибудь фортель.
Однажды я приехал навестить друзей на дачу. Мы отправились в лес, купались; когда возвратились обратно, застали в доме страшный беспорядок. Со стола была сорвана скатерть, на полу валялась разбитая посуда, с постели исчезло одеяло. Создавалось полное впечатление, что квартиру посетили воры. Однако виновником разгрома оказался Мишка. Он стащил скатерть и одеяло в угол и, устроив мягкую постель, спал сном праведника.

Несколько лет прожил у меня Мишка. Порой он был невыносим, доставлял массу неприятностей, но к байбаку так все были привязаны, что не могли с ним расстаться. Но в одну из весен я должен был отправиться в длительную экспедицию, а семья уезжала в Крым; в квартире никого не оставалось. Это обстоятельство и заставило меня временно передать своего питомца Вере Васильевне Чаплиной, хорошо известной своими рассказами о животных.
Мишка водворился в новую квартиру и благодаря своему доброму нраву вскоре завоевал всеобщую симпатию. Но эта популярность и оказалась, как я думаю, для него роковой.
Однажды, оставленный один в квартире, он прогрыз пол и ушел в подпол. Подпол был тщательно осмотрен, но Мишка нигде не обнаружен. Байбак бесследно исчез. Вероятно, он проник в одну из соседних квартир и там попал в чьи-то руки.
Спустя несколько лет я снова завел у себя байбаков. По моей просьбе из степей Казахстана мне прислали двух молодых зверьков. Но, как я ни бился, они не стали такими ручными, как Мишка. Видимо, потому, что их было двое, а Мишка был одинок. Не имея семьи и товарищей, он невольно искал общения и ласки у человека.
Глава восьмая
ТЮКА
Хороши ночи на юге.
И хороши они не только лунным сиянием, ярким мерцанием крупных звезд, своей тишиной, но хороши и своими звуками. Тиха южная ночь, и в то же время она богата своеобразным гомоном, но он так не похож на громкие звуки яркого дня и так гармонирует с торжественной красотой южной ночи. Вот нескончаемый, вибрирующий свист какого-то животного. Это поет свою простенькую весеннюю песню жаба. Она поет целые ночи, и вы так привыкаете к этим убаюкивающим звукам, что они вовсе не тревожат вас, не нарушают окружающей тишины.
«Клюю… клюю… клюю…» — монотонно, напролет все ночи кричит какая-то птица. И эти вкрадчивые голоса доносятся к вам и с ближайших пирамидальных тополей, и из потемневших в долинах садов, и сквозь прозрачную лунную даль из горного леса. «Клюю… клю…» или «тюю… тюю…» — протяжно и без конца кричат маленькие ночные совки-сплюшки. Много и других голосов достигнет вашего слуха, но простенькая песня жабы и крик совки и без того наполняют природу такой чарующей музыкой, что проходят десятки лет, а очарование южной ночи не может изгладиться из вашей памяти.
Привет тебе, южная красавица — серебристая ночь!
Я думаю, что после этого краткого предисловия читателю будет ясно, почему я свой рассказ назвал «Тюка». Тюка — это имя одной из совок, долго живших у меня в неволе. Но прежде чем рассказать о Тюке, о милой и славной птичке, я хочу вкратце познакомить читателя вообще с совками и рассказать историю, как Тюка попала мне в руки.
Совки, как показывает и само название, — мелкие совы. В нашей стране совки представлены несколькими видами. Они отличаются друг от друга размерами, наличием или отсутствием так называемых «ушек», окраской оперения и особенно — голосами. Каждый вид совок кричит по-своему. Например, южноазиатская сова, населяющая леса Уссурийского края, для неспециалиста почти неотличима от совки-сплюшки. Но кричит она совсем иначе. «Ке-вюю, ке-вюю, ке-вюю», — раздается по лесу не то крик, не то свист этой птицы. Сады и тугаи, разбросанные среди пустынь Средней Азии, заселены буланой совкой. Она чуть крупней совки-сплюшки и окрашена более бледно. Но ее голос совсем не похож на голоса близких видов совок. Вылетит она вечером из дневного убежища, усядется на ближайший сук и часами, а иногда и в течение всей ночи удается слышать ее голос. «Кух, кух, кух, кух», — без конца кричит буланая совка.
Но какова внешность этих видов совок?
Наверное, читатель знает одну из наиболее крупных наших сов — филина. А если знает, то пусть уменьшит филина раз в двадцать — вот тогда он и получит представление о совке-сплюшке или совке буланой. Самцы большинства совок обычно меньше самок. Самец совки-сплюшки, например, очень маленькая птичка. Взрослого самца, пожалуй, можно накрыть чайным стаканом.

Одним словом, совка — крошечная сова, обладающая при этом исключительно привлекательной внешностью. Замечательна она также своим умением корчить уморительные рожи и принимать позы, какие не так уж часто удается наблюдать у других пернатых. Во время дневного сна, например, в яркий солнечный день, вытянется совка во всю длину, плотно прижмет все оперение к телу, и только кисточки ушей торчат у нее вверх, как рожки. В такой позе она благодаря своей покровительственной окраске оперения и неподвижности почти не отличается от древесной коры, а из-за угловатой формы тела кажется каким-то наростом на дереве или сучком. Но присмотритесь хорошенько, постарайтесь увидеть ее физиономию, и вашим глазам представится, ни дать ни взять, маленький своеобразный чертенок, каких иной раз изображают на рисунках. «Рожа» у нее в такие минуты узкая, длинная и препротивная, поднятые вверх уши делают ее еще длиннее, глаза едва заметны, в виде щелочек. А впрочем, птица ли это — быть может, уродливый сучок, и вы, не доверяя глазам, невольно потянетесь к ней рукой, чтобы пощупать непонятный предмет, или попытаетесь дотронуться до него прутиком. И мгновенно древесный сучок, как в сказке, превратится в живую маленькую сову с круглыми оранжевыми глазками, с круглой совиной головой без ушек. Но пока это превращение дойдет до вашего сознания, совочка благополучно улетит и скроется в густой листве стоящего поодаль дерева.
— Вот так сук! — каждый раз усмехался я, десятки раз попадая впросак со спящей на дереве совкой. А что думает в таком случае растерянный мальчуган, впервые столкнувшийся с таким странным существом, это я предоставляю воображению читателя. Во всяком случае я был свидетелем, как один мальчуган, по имени Лаврушка, устанавливая на ветле ловушку на древесного грызуна, увидел в дупле дерева совку и постыдно слетел на землю. Позднее он уверял меня, что видел страшную глазастую кошку, и долго не решался проникнуть в сад, чтобы подобрать свою ловушку.
Все это я пишу для того, чтобы оправдаться перед читателем в своем большом интересе и даже любви к совочкам. Ведь все наши совки — птицы далеко не заурядные, интересные и благодаря своему маленькому росту и спокойному нраву очень приятны и удобны для содержания в неволе. Основываясь на всех этих особенностях и качествах, я и решил достать себе совку и добиться того, чтобы она стала совсем ручной. Достигнуть первого оказалось совсем нетрудно, но второе потребовало много хлопот и времени.
Как раз в ту весну я уезжал на Сырдарью, где в изобилии встречались буланые совки. Они гнездились в садах большинства населенных пунктов, нередко обитали в тугайных зарослях, и я рассчитывал достать их в первые дни после приезда. Но в эту весну совки, видимо, запоздали с прилетом, и первый голос птички я услышал только в начале апреля. Не забуду никогда этого дня, но не потому, что он чем-нибудь отличался от предыдущих дней, а потому, что я в эту весну впервые услышал крик буланой совки, прилета которой я ждал со дня на день.
Помню, ясный и теплый вечер сменился тихой и яркой ночью. Я до конца отстоял на озере вечернюю зорю, стреляя уток. Когда же заря потухла и стало темно, я не спеша побрел знакомой тропинкой к поселку, вслушиваясь в неясные шорохи, в свист крыльев пролетавших в темноте уток.
Вот и домик на краю большого сада. Я достал ключ, отпер дверь, но вместо того, чтобы переступить порог, уселся на ступеньках — жалко было спозаранку ложиться спать, не ощущать чудной весенней ночи. «Но почему до сих пор нет совок, — пришла мне мысль, — ведь весна в полном разгаре?» «Кух… кух… кух… кух», — как будто в ответ на мои мысли долетело до меня с противоположной стороны сада. Помню, ложась спать, я открыл окно и, как соловьиную песню, слушал такой простой и несложный крик буланой совки, а потом так и заснул под эти звуки.
— Дядя Женя, в дупле той ветлы тукалка сидит, — как-то сказал мне сынишка соседа, указывая в глубину сада.
Конечно, я поспешил к тому дереву и спустя две минуты уже держал в руках пойманную буланую совку. К сожалению, это была довольно крупная самка, мне же хотелось иметь маленького самца, но не беда.
Свою пленницу я поместил в просторное дупло дерева, росшего в саду неподалеку от дома. Чтобы внутрь дупла проникало достаточно света, я затянул отверстие металлической сеткой и, стараясь не беспокоить пойманную птичку, приносил ей корм незадолго до вечерних сумерек.
Но что за странность? — у дупла вскоре я ежедневно стал обнаруживать мертвых мышей и более крупных грызунов — молодых полуденных песчанок. Несомненно, эта добыча доставлялась сюда самцом совки, который, вероятно, жил поблизости и навещал свою заключенную подругу. Но почему не видно нигде самца? И с этой мыслью я тщательно осматривал соседние деревья — не торчит ли где-нибудь у ствола отставшая кора или уродливый сук, способный при некоторых обстоятельствах неожиданно превратиться в живую птицу. Но кругом в листве гудели крупные осы — шершни, иной раз тонко свистела маленькая птичка ремез да с плакучих ив капали на землю крупные слезы.
И вот однажды, чтобы привести в порядок дупло, я отогнул в сторону сетку и, всунув в дупло руку, попытался поймать мою пленницу. Испуганная птичка издала только негромкое щелканье своим клювом, но и этого было достаточно: в тот же момент около меня появился самец совки. Несмотря на яркое освещение, он быстро, как ястребенок, сорвался с далеко стоящего крупного дерева и, «козырнув» над самой моей головой, уселся на ближайшую ветку. «Гу-у-у-у… цок, цок, цок», — услышал я угрожающий крик и щелканье, за которыми последовало новое стремительное нападение. Взъерошенное оперение, полураскрытые крылья, круглые оранжевые глаза и беспрерывное щелканье клювом — все это, конечно, могло испугать врага. И если бы совочка была не такая маленькая, а я не такой великан, она бы показалась мне не трогательно смешной, а очень страшной. Птица подлетела ко мне так близко, что, изловчившись, я мог бы схватить ее рукой. Я даже приготовился к этому. Но другая моя рука в это время, подчиняясь могучему справедливому чувству, бесцеремонно отдирала от дерева прибитую сетку.
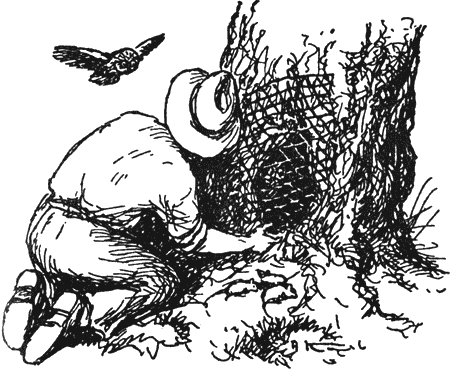
Несколько секунд спустя, отбросив заржавленную решетку в сторону, я шагал к дому. Вместе с решеткой я отбросил и мысль о содержании в неволе взрослой совки. Прошло две недели, и во многих дуплах и в покинутых сорочьих гнездах появились птенцы совок. И когда в поздние вечерние сумерки мне приходилось проходить через запущенный сад, я часто слышал знакомые мне шепчущие голоса птенчиков.
«Чуф-чуф-чуф…», — шептали они, требуя пищи.
Незадолго до отъезда в Москву из нескольких десятков птенцов, находившихся под моим наблюдением, я выбрал самого маленького самца и самую крупную самку. Мне необходимо было подготовить совочек к перевозке в Москву. Для этого я хотел несколько приручить совочек к себе, чтобы без особых затруднений и хлопот кормить их в дороге. На досуге, в порядке отдыха, я занялся этим несложным и интересным делом. При длительных перевозках животных очень важно, чтобы птичка не просила пищи в течение целого дня, а получала ее только при известных обстоятельствах. Ведь ни один пассажир, едущий с вами в одном купе, не выдержит, если у его уха в течение целых суток будет кричать птица. И напротив, ваши соседи останутся очень довольны, если один или два раза в день вы, открыв затемненную корзиночку и накормив ваших питомцев, внесете этим маленькое разнообразие в скучную дорогу. Уверяю вас, что часа кормежки в таком случае будут с нетерпением ждать не только ваши питомцы, но и ваши соседи. Как видите, подчас перевозка животных обязывает вас изучать не только нравы зверей и птиц, но и психические особенности скучающего и утомленного длительной дорогой человека.
Итак, незадолго до отъезда я поместил взятых птенцов буланой совки в темный стенной шкаф. Когда я открывал дверцу, внутрь врывался дневной свет. Только в эти моменты я и давал своим птенчикам пищу. Вскоре обе совочки стали вполне ручными. Они узнавали меня и, когда я появлялся с кормом, встречали мое появление своеобразным покачиванием тела из стороны в сторону и уже знакомым нам тихим чуфканьем.
Но вот позади далекий путь из Средней Азии к нашей столице, вот и более полугода жизни в Москве.
Обе птички подросли, сменили свой юношеский поперечно-полосатый наряд на взрослый, изменили голоса, но наша дружба не пошла дальше. Совки не боялись меня, когда я чистил клетку, брали из рук пищу, но в то же время жили своей замкнутой жизнью. «Славные, но очень скучные пичуги», — давно решил я и как-то незаметно для себя охладел вообще ко всем совкам, и к моим птичкам в частности. На воле хороши: там действительно они украшают природу своими своеобразными криками, ну а в городской квартире… Я решил передать совок Московскому зоопарку.
Помещенные в большую клетку, совки чувствовали себя значительно лучше, чем в моей квартире. На следующую весну они отложили яйца, но, к сожалению, не вывели птенцов — яйца оказались болтунами.
С тех пор прошло много лет, но я больше не мечтал завести у себя совок.
«Удивительное сочетание природы и культуры», — думал я однажды, сойдя с автобуса на главной улице чистенького городка в Закавказье. «Город-лес», — назвал я его для себя, хотя он уже около полувека носил совсем другое название, связанное с названием речки.
И действительно, не только издали, но и вблизи городок напоминал лесную чащу.
Отдельные великаны деревья, иногда с засохшей причудливой вершиной, чередовались с густыми зарослями. А среди этой пышной растительности шли асфальтированные улицы, светились огоньки в утопающих в зелени домиках, двигалась гуляющая публика.
Когда же я в поисках нужного мне адреса удалился от главной улицы, впечатление, что меня окружает лес, еще более усилилось. Сквозь ветви деревьев ярко светила луна, где-то поблизости то звонко, то приглушенно журчал ручеек, захлебываясь, свистели совки-сплюшки, на деревьях, шелестя листвой, носились как угорелые ночные грызуны — сони-полчки. Лес, и только.
Спустя полчаса я отыскал нужный мне домик. Он помещался на окраине города и был окружен великолепным садом, постепенно переходившим в лесную чащу.
— Не оставляйте только окно и дверь открытыми, — счел необходимым предупредить меня хозяин, помогая внести мои вещи в отдельную темную комнату. — Нам недавно маленького медвежонка принесли, так он у нас на полной свободе живет и частенько балует, — продолжал он. — На цепи держать не хочется, да и нет ее у меня.
Но пока я выслушивал эти предупреждения и пытался зажечь лампу, мой хозяин споткнулся и чуть не упал на пол.
— Простите, пожалуйста, это я, наверное, заплечный мешок на полу оставил.
— Точно, мешок, — нагнулся старик, но, не докончив начатой фразы, вдруг энергично пнул ногой какой-то темный предмет, мигом вылетевший через открытую дверь наружу. — У вас в мешке что-нибудь съестное было? Ну, конечно, что-то под ногами хрустит — песок сахарный, что ли. Я же вам говорил, что медвежонок балует.
Мы наконец зажгли лампу и, кое-как убрав разорванные медвежонком свертки, вышли на воздух.
Много я видел живых маленьких медвежат за свою жизнь, но такого чудного и симпатичного не видел ни разу. Это был не зверь, а воплощение самой жизни, энергии и веселья, заключенных в слишком тесный пушистый футляр. Избыток силы бросал медвежонка то в одну, то в другую сторону, толкал его на различные проказы.
Наше появление во дворе оказалось своевременным. Мы застали медвежонка висящим на оконной раме. Засовывая когти в щель, он пытался открыть окно в кухню. Увидев нас, он кинулся вниз и в сторону, исчез в темноте, а в следующую секунду с замечательным проворством взобрался на громадное дерево и уже раскачивал большую ветку на его вершине. На нас сыпались сорванные листья и обломленные сухие сучья.

В гостеприимном домике я прожил только три дня. Но как памятны эти дни, сколько смешных случаев и маленьких неприятностей; виновником их неизменно был шалун медвежонок. В день же моего отъезда в Москву случилось происшествие, в результате которого мне в руки и попала совка-сплюшка, названная мной Тюкой.
Суеверный страх перед совками, к сожалению, и сейчас не изжит в Закавказье. Этот нелепый и ни на чем не основанный предрассудок часто побуждает людей на необдуманные поступки — полезных птиц стреляют из ружей, их гнезда беспощадно разоряются ребятами.
— За что птичек со свету согнал? — услышал как-то я голос хозяина.
— Да это сычи, дядя, я их медвежонку принес, — оправдывался мальчуган.
— И сычей не надо трогать, а мясо медвежонку все равно давать нельзя, забрось их сейчас же подальше, чтобы я их не видел.
Я вышел из комнаты на крыльцо.
— И так с медвежонком хлопот не оберешься, — обратился ко мне старик, — полюбуйтесь, сычами его накормить решили. Ведь после этого он кур душить начнет.
Я взглянул на двух смущенных ребят, стоящих поодаль. Один из них держал в руках трех убитых птенцов, второй — одного живого птенца совки.
— Давай-ка его сюда, — протянул я к живому птенцу руку. И хотя мальчуган убеждал меня, что он принес его не медвежонку, а взял для своей кошки, я забрал совенка и унес его в свою комнату.
Птенца совки-сплюшки, попавшего в мои руки таким образом, я не мог ни выпустить, ни поручить другому. «Захвачу его в Москву, а там видно будет, — махнул я рукой. — Только чем кормить в дороге — ведь в такую жару мясо в один миг испортится». Но тут же вспомнил о саранче. В несметном количестве она встречалась в это лето в ближайших окрестностях города, наполняя поля и огороды. «По пяти крупных саранчуков съест птенец за прием, — соображал я. — И если я буду кормить его утром и вечером — значит, он съест за день десять насекомых и пятьдесят насекомых за весь переезд из Закавказья в Москву».
Я достал маленькую корзинку, перегородил ее пополам и обшил сверху материей. Одно помещение предназначалось для птенца совки-сплюшки, другое для ее живой пищи — саранчи, обеспеченной в свою очередь зеленым растительным кормом на всю дорогу. «Остроумно придумано», — радовался я, сажая в корзину саранчу и совку. Однако мои расчеты не оправдались. Почему — не знаю, но на другой день саранча подохла и пропитала отвратительным запахом всю корзину. И тогда я извлек совенка и выбросил пахнущую корзинку через открытое окно поезда. С исчезновением транспортного помещения я устроил птенчика совки в просторном кармане своей куртки. Когда совенок стал настойчиво требовать пищи, я отправился с ним в вагон-ресторан и заказал мясной завтрак.
— Мой спутник предпочитает сырое мясо всему на свете, — сказал я официанту и, возможно шире открыв карман, показал ему совенка. Много хлопот, конечно, но зато переезд из Закавказья в Москву не показался мне ни скучным, ни однообразным.
Приехав в Москву, я не смог поручить птенца совки близким. Моя семья уехала в Крым, и мы с Тюкой остались вдвоем в квартире. Но ведь, за исключением редких случаев, я на целый день уходил из дому — не мог же я оставлять Тюку голодной? К счастью, Тюка была такая маленькая и такая спокойная, что вовсе не мешала мне, когда при переезде в трамвае сидела в кармане моей куртки. Так совочка и выросла на моих руках, превратившись из уродливого птенчика, покрытого светлым пухом, в полувзрослую совку. В свободное время я уезжаю за город. Удобно усевшись на широкий пень среди вырубки, я сажаю рядом с собой Тюку и время от времени даю ей пойманного кузнечика. Птичка вполне сыта, но кузнечик не мясо, а лакомство, и, ухватив его поперек своей лапкой, она, как рукой, подносит добычу ко рту и отрывает и проглатывает маленькие кусочки.
Покончив с едой, Тюка отряхивается от назойливого комара и, прищурив глаза, прячется за меня от солнца.
Но вот, оставив совку на пне, я отхожу от нее шагов на тридцать и негромко зову по имени. Птичка не желает оставаться в одиночестве. Неуверенным прямым полетом покрывает она разделяющее нас расстояние и, вцепившись когтями в мою одежду, беспомощно повисает, раскрыв крылья. «Чуф, чуф, чуф», — подает она негромкий голос, глядя мне в лицо своими круглыми глазами. Я беру ее в руки, засовываю за пазуху так, что голова совки остается снаружи, и мы идем дальше.
Только к осени моя совочка научилась сама находить приготовленный ей корм и этим развязала мне руки. Уезжая на службу, я уже оставлял ее дома. Но зато как она встречала меня, когда я возвращался домой поздно вечером! Вспомните, как вас встречает иногда ваша собака. Она заглядывает в ваши глаза, ищет вашей ласки. Но разве можно умную собаку сравнить с птицей и тем более с ночной птицей совкой, скажете вы! Представьте себе, можно. Конечно, совка не сумеет так ярко выразить свою привязанность к вам, но выразит ее по-своему.
Вечер. Вернувшись домой, я отпираю дверь и только успеваю переступить порог своей квартиры, как на меня сверху спускается Тюка. Но садится она не как все птицы, а, подлетев, просто вцепляется когтями в мою верхнюю одежду и уж потом, помогая крыльями, влезает выше и устраивается удобнее. С совкой на плече или спине я иду в кухню, мою руки, разогреваю обед и, наконец, усаживаюсь за обеденный стол. Небольшая деревянная коробка стоит рядом с моим обеденным прибором и сейчас привлекает внимание птицы. «Чуф-чуф», — негромко кричит Тюка, заглядывая мне в лицо. И тогда я открываю крышку, пинцетом извлекаю мучного червя и кладу его на стол к ногам Тюки. Но, вероятно, Тюка плохо видит на таком близком расстоянии. Торопливо она пятится назад и, когда расстояние между ней и червячком достигает около десяти сантиметров, делает прыжок вперед. Вцепившись в добычу когтями обеих лап, она убивает ее, а затем, ухватив червячка поперек, подносит ко рту.
Обед окончен. Тюка тоже утолила голод и теперь, взобравшись по моей руке на плечо, трется своей круглой головой, покрытой такими мягкими перьями, о мою шероховатую щеку. Но вот она порывисто взлетает на висящую картину и, покрутившись там с полминуты, кидается вниз и с лету исчезает у меня за пазухой. Я вытаскиваю ее наружу, поглаживаю ее мягкую спинку, почесываю шейку — одним словом, веду себя так, как с разыгравшейся домашней кошкой или собакой. В такие минуты я совсем забываю, что передо мной дикая ночная птица.
Прошла осень, потом большая часть зимы; мартовские метели сменились яркими весенними днями — потекло с крыш.
Однажды я проснулся среди ночи. Меня разбудило непривычное беспокойное поведение Тюки. С раскрытыми глазами я лежал в темноте и не мог сообразить, что творится с моей любимицей. Около минуты она беспрерывно кругами носилась под потолком, а затем, усевшись на буфет, издала громкий и чистый свист — свист, который я любил слушать в весенние южные ночи. Я замер в ожидании нового крика, но Тюка сорвалась с места и вновь как сумасшедшая закружилась под потолком. Наверное, прошло около часа, а совка не могла успокоиться. Изредка она присаживалась на картину и, передохнув самое короткое время, вновь принималась за свои упражнения в полете. Но чем дольше она кружилась под потолком, тем ее полет становился менее уверенным. Вот уже несколько раз Тюка натыкалась на висящий провод лампы и наконец, зацепившись крылом за стену, мягко скользнула вниз на кушетку. «В чем тут дело?» Я зажег свет и взял птичку в руки.
И в ту же секунду я почувствовал какую-то странную перемену. В моих руках напряженно, почти судорожно вздрагивала совсем чужая мне сильная птица. «Тюканька», — гладил я мягкое оперение совочки, поднося ее к своему лицу. Но на меня глянули какие-то дикие, широко раскрытые, но невидящие глаза. Тюка смотрела не на меня, а куда-то вдаль, и когда я разжал руку, она вновь стремительно взлетела вверх и закружилась под потолком комнаты. Только около четырех часов ночи совочка несколько успокоилась и перестала носиться своим стремительным полетом.
То же самое повторилось и в следующую ночь. Около десяти часов вечера Тюка вновь превратилась в сумасшедшую птицу и с маленькими перерывами пролетала под потолком комнаты почти до конца ночи. На третью ночь я посадил совку в большую картонную коробку, затянув ее сверху марлей. Я плохо спал и в эту ночь и беспрерывно слышал, как моя бедная птичка билась в темнице. «Когда же наконец это кончится?» — с раздражением думал я на четвертую ночь, выведенный на этот раз из терпения поведением совочки. Но прошло еще три ночи, в течение которых ручная птица стремительно неслась в неизведанную даль.
И вдруг, когда мои нервы дошли до предела, совочка прекратила свои ночные полеты и стала прежней, совсем ручной и веселой птичкой. Только каждую ночь сквозь сон я слышал такой чистый и громкий и в то же время убаюкивающий свист птицы. «Клюю-клюю-клюю», — до раннего утреннего рассвета кричала Тюка.
С этого момента ровно год прожила у меня в квартире совочка. Когда же в следующую весну она вновь стала беспокойной, я захватил ее с собой, выезжая на Волгу. В одну из ночей, воспользовавшись остановкой поезда на маленькой железнодорожной станции, я предоставил моей пленнице свободу.
Видимо, для читателя осталось не совсем ясным странное поведение моей совки. Совка-сплюшка — перелетная птица, и ее беспокойство каждый раз совпадало с весенним пролетом вольно живущих совок. Но мне и сейчас непонятно, почему совка не стремилась лететь в неизвестную даль осенью, когда дикие совки обычно улетали к югу.
Другие птицы, содержимые в неволе, с наступлением осени, когда их вольные собратья покидают родину, как правило, ведут себя беспокойно.
Пусть также не думают мои читатели, что совки-сплюшки — обитатели только нашего юга. Мне вспоминается случай, о котором я позволю себе сказать несколько слов.
Как-то в Калининградской области я заночевал в еловой релке, возвышавшейся среди мохового болота. Это случилось 12 апреля. С вечера я решил выследить, куда слетаются петухи глухарей для тока. Но кругом было так много интересного, что я, бродя по лесу, положительно потерял направление и ориентировку и понял, что в этот вечер не найду дорогу к деревне.

Темнело, когда неожиданно в воздухе мелькнула крупная птица и уселась на моховую кочку в четырех шагах от меня. Не сводя глаз с птицы (это была глухарка), я застыл на месте. Пораженная странным предметом, как каменное изваяние, замерла и птица. Мы стояли друг против друга, не смея моргнуть глазом. Это продолжалось очень долго, и сколько бы длилось еще — я не знаю. Но я кашлянул, и рыжая лесная красавица шарахнулась от меня в сторону и с клокотаньем исчезла в сумерках за корявыми соснами.
Когда же совсем стемнело, все мое внимание было поглощено глухарями. Издавая крыльями своеобразный звон, они прилетали из-за болота и в тишине ночи с грохотом усаживались на ели и сосны по краям релки. Но угомонились и глухари, и тогда до меня донеслись дикие крики. Это взлаивала, рявкала и завывала акклиматизированная в Калининградской области енотовидная собака. Долго слушал я эту странную музыку, пока холод не заставил меня позаботиться о ночлеге.
Но не разводить же костер, когда несколько глухарей ночуют в этой маленькой релке.
Усевшись на хворост под старой елью, съежившись весь и охватив руками ружье и свои колени, я заснул крепким сном. Меня разбудил предрассветный холод; темень и тишина стояли кругом.
А короткое время спустя, когда я неуверенно брел по зыбким заиндевевшим кочкам, лес, болото — весь мир, казалось, наполнился трубными звуками.
«Крри-крруу, кррии-крруу», — криками встретили журавли наступающее утро.
И вдруг в стороне я услышал так хорошо знакомый и такой дорогой для меня голос.
На темных елях релки, среди мохового болота, поросшего корявыми сосенками, и здесь, на севере, в это студеное раннее утро свистела совка.
Глава девятая
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
Попробуйте поймать выпавшего из гнезда молодого сокола или цаплю, и вы столкнетесь с энергичным сопротивлением. Защищаясь, соколенок перевернется на спину и выставит вперед свои вооруженные когтями лапы. И если вы, несмотря на это предупреждение, подойдете к соколенку слишком близко, он вцепится в вас когтями. Но это все пустяки, а вот с молодой цаплей следует быть осторожным — это опасная птица: съежится она вся, застынет в неподвижной позе и ждет, когда человек подойдет к ней совсем близко. А затем, быстро выпрямив свою длинную шею, старается нанести острым клювом страшный удар в глаз противника. Это обычные средства защиты. Но умеют защищаться животные и другими способами; их бесчисленное множество. О некоторых приемах защиты я расскажу сейчас читателям.

Вероятно, мне было лет семь или восемь, когда со мной произошел смешной случай. В то время он поразил меня и глубоко врезался в память. Мы жили в астраханских степях, на станции Ахтуба, и почти каждый день после четырех часов отправлялись с отцом в окрестности и среди природы оставались до самого вечера. Когда заканчивалась весенняя охота на селезней, мы переключались на рыбную ловлю. Рыбу мы ловили удочками в волжских займищах и отправлялись за ней при всяком удобном случае. Помню, среди других богатых рыбой местечек славился Власов ерик; особенно много в нем водилось крупных окуней и сазанов. Вот однажды с отцом, братом и товарищем, захватив с собой удочки и провизию, мы отправились на Власов ерик ловить окуней. Надо сказать, что с детства я не отличался усидчивостью на рыбной ловле. Ловить, конечно, интересно, особенно когда рыба хорошо клюет, но движения слишком мало. Час сидишь, другой сидишь, и становится скучно. Кроме того, в то время меня интересовали только маленькие щучата и небольшие черепахи. Их мне всегда хотелось поймать для нашего бассейна и аквариумов.
Просидев с удочкой около часа и ничего не поймав, я, как и всегда, соскучился, воткнул удочку в берег, а сам отправился размять ноги. Сначала я медленно шел вдоль берега в надежде увидеть черепаху или щучонка, но их нигде не было видно, и я пошел в сторону к группе развесистых ветел. Не успел я дойти до этих деревьев, как услышал голос птицы, напоминавшей мне крик кобчика. «Пип-пип-пип», — громко кричала птица, скрываясь на совсем маленьком деревце, где, казалось, совершенно негде было укрыться сравнительно крупному кобчику. Меня это удивило, и я, чтоб отыскать птицу, подошел еще ближе. «Пип-пип-пип», — совсем рядом вновь раздался голос, и я увидел небольшую — с воробья ростом — странную птицу. Особенно поразила меня окраска ее оперения: она изумительно походила на кору дерева, и когда птица перебралась с ветви на ствол, ее сразу не стало видно. Вероятно, с недоверием относясь ко мне, птица не оставалась долго на одном месте. Она перелетела на ближайший пень и вдруг на моих глазах залезла в дупло, образовавшееся благодаря выгнившей его сердцевине.
Надо сказать, что, увидав эту неизвестную птицу, я загорелся желанием поймать ее, чтобы хоть немного подержать в неволе, познакомиться с ней ближе. И вдруг птица на моих глазах залезла в дупло. Представьте же мое состояние — ведь при этих условиях ничего не стоило поймать незнакомку. Ну, конечно, я не рассуждал долго. Секунду спустя я бесшумно подкрался к пню, закрыл отверстие, а затем, засунув руку в дупло, нащупал птицу и извлек наружу. Как забилось мое сердце! От радости и страшного напряжения меня трясла лихорадка.
Однако в следующее мгновение все изменилось, как в сказке. Если бы на меня неожиданно вылили ушат с холодной водой, я бы не так поразился, как в ту минуту. Трудно представить, но уверяю вас — в своей руке я увидел не птицу, а медленно шевелящуюся змеиную шею и голову. Она извивалась и, кажется, издавала какие-то звуки — шипение. Не знаю, как бы поступил другой на моем месте, но я судорожно разжал и отдернул руку, а затем стал трясти ею, как будто перед тем схватил раскаленный кусок металла. Тогда случилось новое чудо, окончательно сбившее меня с толку. Змея тотчас превратилась в птицу и, быстро взмахивая крыльями, поднялась в воздух и исчезла среди листвы дерева.

Всего, что я перечувствовал за эти пять — семь минут, конечно, описать невозможно. Но зато пережитое, вероятно, ярко было написано на моей взволнованной физиономии, когда я возвратился к своим. Все обратили на это внимание. И когда я, волнуясь и заново переживая острые моменты, рассказал о всех происшествиях, мой рассказ вызвал только веселье. Оказалось, я упустил действительно интересную птицу. Она близка к нашим дятлам и называется вертишейкой, а по-украински — крутоголовкой. Когда она вертит своей головой и шеей, действительно напоминает змею и часто пугает этим странным движением людей и животных.
Такое поведение слабенькой и беззащитной птички, как видите, сильное средство защиты от ее врагов.
— Не беда, — утешал меня отец. — Помню, что почти такой же случай был и у меня с вертишейкой в детстве. А что она улетела — это, пожалуй, лучше. Держать в неволе вертишейку не так уж просто — слишком капризна птица в отношении пищи.
Чайку вы знаете? Конечно, знаете. Это та самая белая или сизокрылая птица, которую особенно часто приходится видеть летающей над водой и ловящей рыбок и насекомых. А вот крачка, наверное, вам неизвестна. Безусловно, многие встречали ее в природе, но просто не знают, что эта птица так называется. Поскольку я сейчас хочу рассказать о поведении речных крачек, мне совершенно необходимо хотя бы кратко познакомить читателя с этой птицей. Окраской оперения, манерой летать над прудами и реками и бросаться за добычей в воду обе эти птицы имеют много общего. Только у чаек хвост ровный, как обрезанный, а у крачек вилочкой, то есть крайние перья хвоста много длиннее, чем средние, — вот и получается форма вилочки. О замечательном случае, связанном с речными крачками, я и хочу сейчас рассказать моим читателям.
В то лето я с семьей жил в Дарвинском заповеднике на Рыбинском водохранилище. Как будто назло, в самый интересный период я расхворался. У меня резко обострился суставный ревматизм, распухла нога, и каждый шаг вызывал острую боль. Это удел большинства охотников. Ведь всю жизнь я бродил по воде, при этом, к сожалению, строго придерживаясь своих собственных правил. Если я надевал на охоту за утками сапоги ниже колена, то всегда находил вескую причину, чтобы влезть в воду выше колена. Заранее зная, что получится именно так, я предпочитал лазить за утками в обыкновенных ботинках и терпеть не мог очень высоких болотных сапог, способных вместить в себя слишком много воды. В таких сапогах даже по воде ходить трудно. Но перейду к основному вопросу своего рассказа. После каждого случая, когда я по той или другой причине попадал в воду, боль в моей ноге усиливалась.
— Никуда сегодня не пойдешь, — как-то мне заявила жена. — Посмотри, на что нога похожа, — сиди дома.
Я сокрушенно посмотрел на свою ногу. Правда, нога сильно распухла и болела, но сидеть дома в такое интересное время мне все-таки не улыбалось. И я представил себе, как мне придется в течение длинного летнего дня сидеть в комнате, смотреть на ногу и вообще носиться со своим ревматизмом как с писаной торбой. При одной мысли об этом мне стало тоскливо. При ходьбе нога еще сильней разболится. Это верно. Но почему нельзя сидеть в лодке и смотреть не на ногу, а на затопленный лес, на островки, на пролетающих уток, крачек — не все ли равно, где сидеть? Кто смог бы сказать, что в моих словах не было логики? Я думаю, что никто. Я был, безусловно, прав, а когда веришь в свою правоту, доказать это другим совсем нетрудно.
— Знаю я тебя, опять в воду полезешь, — уже совсем другим тоном возразила жена.
Но я не хотел сдаваться и обещал быть осторожным и вернуться с сухими ногами.
— Неужели мне самому не дорого мое здоровье, маленький я, что ли? — Аргумент оказался достаточно веским. Одно было обидно. Я просидел первую половину дня и не мог поехать далеко. «Ну ладно, поеду покольцую птенцов крачек», — решил я и, позвав с собой частого спутника — мальчика Васю, направился к лодке.
Среди обширного водного пространства я знал маленький островок, где расположилось колониальное гнездовье речных крачек. Здесь же гнездились утки и кулички-мородунки. К этому островку мы и направили свою лодку. Спустя полчаса, покрыв водой около трех километров и заехав с подветренной стороны, мы стали приближаться к острову.
«Кирры-кирры», — беспокойным криком встретили нас несколько десятков крачек и, видя, что лодка направляется прямо к гнездовью, высоко поднялись в воздух и с тревожными криками стали описывать широкие круги над островом. Когда мы подъехали совсем близко, много маленьких пестрых птенчиков-пуховичков побежало от нас в противоположную сторону острова. Бегущий птенчик хорошо заметен, но как только он останавливается и затаивается среди скудной растительности, он тотчас исчезает из виду.
Кое-как причалив лодку, мы сошли на берег и приступили к ловле и кольцеванию птенчиков. Но их было нелегко найти — беззащитные птенчики умели использовать свою покровительственную окраску. Прижавшись к почве и оставаясь неподвижными, они ничем не выдавали своего присутствия.
— Вася, не зевай! — крикнул я своему юному спутнику, указывая на убегающего пуховичка крачки. В этот момент птенчик достиг воды и, войдя в нее, уверенно поплыл от берега. Он отплыл уже метров пять или семь, когда, размахивая руками и разбрызгивая мелкую воду, мальчуган нагнал и схватил беглеца. И вот тогда произошел случай, которого я никогда не забуду. Хорошо известно, что болотные крачки, а среди них особенно крачка черная, смело ведут себя на гнездовых поселениях. С высоты они бросаются на непрошеного гостя и нередко, если в этот момент человек смотрит в противоположную сторону, успевают ударить его клювом в голову.
Но речные крачки на этот раз вели себя совершенно иначе. С криком летая все это время высоко в воздухе, они вдруг собрались в тесную группу, молча с большой быстротой спикировали почти до самой воды и в буквальном смысле этого слова облили моего спутника дождем помета.
— Дядя Женя! — завопил Вася. Он растерянно стоял по колено в воде и, смешно подняв к лицу руки, не знал, что делать. Его глаза, лицо, волосы, вся рубаха были заляпаны белыми кляксами.

Как ни жалок был вид Васи, но я не смог удержаться от смеха; не выдержав, наконец расхохотался и сам пострадавший. Однако наше веселье было прервано самым неожиданным образом.
— Давай сюда птенца да обмой лицо, — обратился я к мальчугану.
Вася, не открывая глаз, неуверенно подошел к берегу и протянул мне руку с пуховичком. Пока я надевал ему колечко на ногу и записывал номер, Вася приводил себя в порядок.
— Дядя Женя! — вдруг вскрикнул он совсем другим тоном, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. — Дядя Женя, лодка… — Ничего не понимая, я оглянулся назад — и обомлел. Далеко от острова на холодных, свинцовых волнах покачивалась наша пустая лодка. Свежий ветер, видимо, с каждой минутой отгонял ее все дальше от нашего берега.
Заночевать на маленьком открытом острове без огня и одежды, с больной ногой мне совсем не хотелось. Если даже к вечеру стихнет холодный ветер, то доймут комары — их здесь великое множество.
Что предпринять? А в это время мой спутник уже полез в воду и остановился лишь при моем оклике. Я знал, что он плохо плавает.
Вначале холодная вода обожгла мое тело, а минуту спустя я уже плыл, не ощущая холода и испытывая от купания огромное удовольствие. Ведь из-за больной ноги в это лето я купался впервые.
Купание абсолютно не отразилось на моем здоровье, а главное — я исполнил свое обещание и вернулся домой с сухими ногами. Только две недели спустя Вася развязал свой язык и разболтал по секрету, как на маленьком островке, защищая своих слабых птенчиков, его отделали речные крачки и как ветер отнес от берега нашу лодку.
Ну а теперь с прохладного севера на одну минуточку переместимся совсем в иную страну — в нашу Среднюю Азию.
Жаркий июньский полдень. Огненное солнце слепит глаза, обжигает кожу. Порой от невысоких барханных песков потянет слабый ветер. Но не свежесть принесет он, а пахнёт на вас горячим дыханием, как из раскаленной печи. Я медленно бреду с ружьем за плечами, направляясь к нашему лагерю, разбитому близ аула. Впереди безбрежная полупустыня с почвой, разрисованной глубокими трещинами, поросшей скудной серой растительностью. Невыносимая жара, нет тени, молчит притихшая природа. И вдруг при ярком свете я слышу громкий и хорошо знакомый мне крик ночного кулика-авдотки.
Я оборачиваюсь в том направлении и в тридцати метрах от себя вижу занимательную картинку. Среди ровной глинистой площадки, едва покрытой клочками низкорослой полыни, на корточках сидит казахский пастушок-мальчик. А против него, несколько раскрыв крылья — в позе угрозы, — стоит кулик-авдотка (птица величиной с голубя). Он то и дело с пронзительным криком срывается с места, бросается на мальчугана и бьет его клювом и крыльями в лицо, в голову, в спину. В такие минуты мальчик, видимо растерявшись, подбирает под себя босые ноги, пытается руками защитить лицо и голову от ударов авдотки, то, напротив, несколько овладев собой, старается поймать нападающую птицу. Это, однако, ему не удается.

Не понимая, в чем дело, я поспешно приближаюсь к месту происшествия и вижу в руках юного пастушка совсем маленького птенчика авдотки. Он покрыт густым дымчато-серым пухом, вдоль его спинки, четко вырисовываясь на светлом фоне, проходит черная полоска. Я беру птенца из рук пастушка, сую мальчику какую-то мелочь и показываю по направлению пасущегося стада. Он понимает меня без слов и, исполняя мое желание, быстро бежит по раскаленной почве туда, где пасутся его бараны.
Старая авдотка уже не ведет себя так смело — взрослый человек не мальчик: его следует остерегаться, и хотя она растерянно бегает совсем близко вокруг меня, но не решается на нападение.
Еще несколько секунд я ожидаю, когда пастушок скроется за грядой песка, и тогда осторожно пускаю птенчика на землю и наблюдаю на его поведением. Мне интересно, что он предпримет, получив свободу. И вот пуховичок делает несколько коротких, неуверенных шажков, затем быстро, но плавно приседает и, замирая в неподвижной позе, на моих глазах абсолютно сливается с окружающей почвой. Серая окраска пуха похожа на окраску пыльной глины, а черная полоска вдоль спины так напоминает черную при ярком солнце трещину в почве, что его почти невозможно заметить. Я вижу птенца, пока не отрываю от него пристального взгляда, но достаточно мне закрыть глаза на одну минуту, и птенец исчезает бесследно.
Я отхожу шагов на двадцать в сторону, даю возможность взрослой авдотке приблизиться к тому месту, где притаился ее птенчик, и вновь не спеша возвращаюсь к старому месту.
На этот раз взрослая птица уже не кричит и не подпускает так близко к себе человека. Она спокойна за своего птенца-невидимку и, отлетев в сторону, так же приседает и сливается с окружающей обстановкой.
И вот теперь хоть обе птицы от меня близко, но я не вижу ни старой авдотки, ни ее птенчика. Тогда я бросаю платок на место, где прятался птенчик, и иду к месту, где скрылась его мать. Неожиданно она взлетает у меня из-под ног и на этот раз улетает далеко.
Тогда я опускаюсь на колени и пытаюсь отыскать птенчика, но его нигде не видно. Конечно, беззащитный птенчик не мог убежать за матерью, для этого слишком слабы его ножки. Но зато он обладает великой силой: он умеет пользоваться своей покровительственной окраской и так спрятаться, что его не найдут ни человек, ни хищная птица.
Глава десятая
ПЕРЕПЕЛА
Вспомните, приходилось ли вам когда-нибудь слышать крик перепела? Наверное, приходилось. Ведь перепел ужасно криклив. Он начинает кричать, как только весной подрастут хлеба и травы, и с этого времени кричит до конца июля. Ну как можно не знать или не слышать голоса такой крикливой птицы, если вы хотя бы короткое время летом побывали среди нашей природы! А главное, громкий и звучный голос птицы, называемый боем, удается слышать в любое время дня и ночи. Вот представьте себе раннее летнее утро — полная тишина царит над полями. До солнца еще далеко, но уже борется свет с темнотой.
Из сумрака едва выступают шалаш на баштане, куст боярышника на краю оврага. В стороне протянулась полоска хлеба, и в ней в эту раннюю пору звучно отбивает свою короткую четкую песню перепел.
Но вот на смену ночи пробуждается яркое утро. Блестит солнце, перекликаются, поют птицы, а среди разнообразных их голосов почти беспрерывно кричит перепел. Выше и выше над горизонтом поднимается солнце — свежее утро сменяется знойным полднем — ни освежающего ветерка, ни тучки на безоблачном небе. Постепенно умолкают птицы, все дремлет, утихает — ни звука.
В стороне от пыльной дороги, на целинном участке степи, опустившись на выжженную солнцем почву, дремлют серые волы с большими рогами, поодаль стоит арба, а под ней, растянувшись на животе и выставив из тени загорелые ноги, крепко спит мальчуган-подросток. Все отдыхают. Только в пожелтевших высоких хлебах, не боясь зноя, неугомонно и бодро кричит перепел.
Солнце спускается к горизонту, наступает теплый летний вечер, сгущаются сумерки, бледнеет, потом совсем потухает заря. День закончен, смолкли дневные обитатели полей и леса, в небе одна за другой загораются звезды. После знойного дня в такой теплый вечер дышится как-то особенно легко и свободно. Не спеша шагаешь межой среди высокого пожелтевшего хлеба, с наслаждением вдыхаешь теплый ароматный воздух. Хорошо, привольно кругом! Трещат насекомые, бесчисленные перепела отбивают повсюду свои песни в хлебах.
Не умолкает перепел и в ночное время. Как-то я проснулся глубокой ночью. Я лежал на душистом сене в телеге, рядом со мной стояла привязанная лошадь и жевала сноп клевера. Я открыл глаза и глянул в небо: оно было усыпано яркими звездами. Кто же меня разбудил среди ночи?
«Ва-ва, ва-ва», — вдруг я услышал как бы в ответ на свое недоумение громкий знакомый голос перепела у самой телеги.
Но, видимо заметив движение лошади, птица прервала начатую песню и вновь закричала спустя минуту. «Ва-ва, ва-ва… — спать пора, спать пора, спать пора…» — громко отбивал перепел.
— Да когда сам-то ты спишь? — невольно проворчал я, поворачиваясь на бок. А неугомонная птица, отбежав в сторону от телеги, продолжала настойчиво выкрикивать свою звонкую песенку.

Несложная, но в то же время красивая песня, вернее, крик перепела. Ведь не случайно этих птиц ради их звучного боя держат в неволе многие наши народности. Вы можете услышать голос пленного перепела и в среднерусской деревне, и на Украине, и в ауле, и в шумном городе Средней Азии. Всюду перепел — любимая птица. Нравится и мне крик перепела, и когда я заслышу его, мне вспоминается многое, в том числе и далекое детство.
Вот просторные комнаты нашей квартиры, в открытые окна, шевеля занавески, врывается душистый ветер — он приносит запах цветущей сирени. И вдруг замечательно звонкий и сильный перепелиный бой наполняет всю нашу квартиру. Это кричит однокрылый перепел. Без всякой клетки он живет у нас в одной из комнат. Пол ее уставлен цветами и выстлан недавно скошенной травой, издающей запах увядающей зелени. Порой через открытые двери перепел проникает и в смежные комнаты, и тогда его звучный голос удается слышать то в столовой, то в детской.
Как же попал к нам этот перепел и почему он был однокрылый?
Это случилось много лет назад, когда я был мальчуганом.
Однажды в жаркий весенний день мы с братом решили соорудить примитивный садок для рыбы. «Выкопаем глубокую яму, зальем ее до краев водой и напустим в нее сазанчиков», — обсудили мы свой замысел и, как свойственно ребятам, тотчас приступили к его выполнению. Расчистив в саду против балкона небольшой участок, мы обвели его чертой и взялись за работу. Старым штыком я разрыхлял твердую почву, брат лопатой отбрасывал комья земли в сторону. Но, как известно, тяжела земляная работа. К обеду мы изрядно наломали руки и, откровенно говоря, уже без особого энтузиазма думали о продолжении нашей затеи.
— Хорошая идея, — подбодрил нас за обедом отец. — Только знаете, ребята, не грязную яму надо устраивать у балкона, где вода, конечно, сразу испортится, а соорудить цементированный бассейн по всем правилам: с фонтаном и спуском воды. Тогда в нем действительно можно держать рыбу и бассейн украсит, а не испоганит, как ваша яма, сад у балкона.
Воодушевленные словами отца, мы вновь после обеда взялись за рытье ямы и проработали до позднего вечера. К сожалению, работа шла медленно, силенки у нас было не так уж много, и, видя это, отец решил нам помочь.
На следующий день, когда мы с братом, вспотевшие и вымазанные глиной, продолжали расширять и углублять яму, на балконе появился отец, а рядом с ним знакомый нам казах Утугун. Утугун жил в кибитке, разбитой в степи близ речки Ахтубы, и славился как отличный землекоп. Конечно, его появление было связано с рытьем бассейна. И пока отец объяснял, зачем и какую нужно выкопать яму, мы с братом, предвидя облегчение, стояли рядом.
Вдруг Утугун прервал разговор, запустил руку в карман своего грубого пестрого халата, извлек оттуда и передал мне живую перепелку. «Джаксы будене (хорошая перепелка) — тебе дарим», — показывая свои белые зубы, улыбнулся Утугун. Он видел по моей расплывшейся физиономии, какое громадное удовольствие он мне доставил своим подарком.
Как оказалось — две недели тому назад, во время ночного перелета, перепелка, ударившись о телеграфную проволоку, отбила правое крыло и была подобрана казахом в степи. Так попал ко мне однокрылый перепел. Конечно, я не мог выпустить такую птицу на волю, и он прожил в нашей квартире более десяти лет. Но о жизни однокрылого перепела я расскажу позднее.
Да и что, в сущности, можно рассказать интересного об этой, правда, очень милой, но в то же время чрезвычайно глупой птице?
Зато о жизни перепелов на свободе, об их перелетах, о ловле птиц и об охоте на них в Крыму я могу рассказать многое.
Перепелка — самый маленький представитель наших куриных птиц: она немногим крупней скворца.
В средней и южной полосе Европы и в Западной Азии перепелка густо заселяет поля и травянистые степи, не избегает редких кустарников и опушки леса.
В Восточной Сибири и в Уссурийском крае перепелки часто поселяются на заболоченных участках, если они покрыты высокой травой. Правда, в этих частях обитает хорошо обособленная географическая форма. Так называемая немая, или японская, перепелка сравнительно слабо отличается от наших перепелок окраской оперения и размерами, но зато заметно отличается своим странным криком. Голоса самцов европейской и японской перепелок совершенно различны.
В восточных частях Сибири и в Уссурийском крае, где, как я уже отмечал, обитает японский перепел, также существует массовый осенний пролет и перепелиный промысел. Птицы летят к югу, у южной границы нашей страны образуют большие скопления и здесь высоко ценятся как превосходная дичь.
Но мне лично не пришлось наблюдать ни пролета японских перепелов, ни участвовать в их осеннем промысле. Вообще японского перепела я знаю не так хорошо, как его европейского собрата. Только в 1938 году я впервые столкнулся и познакомился с птицей, причем это знакомство произошло при несколько особенных обстоятельствах.
В то время я работал в Уссурийском крае и жил в небольшой деревеньке в нижнем течении реки Иман. Как и в других подобных случаях, я целые дни проводил с ружьем и собакой-лайкой среди природы и обычно возвращался домой поздним вечером.
— Вы какой дорогой к сопкам ходите? — как-то за ужином спросила меня хозяйка.
— Как какой? — несколько удивился я. — Конечно, прямой, через болотину, то есть вашим зимником, которым вы за дровами ездите.
— А разве вы не знаете, — продолжала моя собеседница, — сколько людей и скотины в этой проклятой трясине погибло? Совсем затянуло.
— Слышал, говорили мне об этом, но не полезу же я через болотину в незнакомом месте. Я уже давно приволок туда срубленную березку; ее как раз хватило, чтобы перебросить через всю трясину. Вот по этой кладке я и хожу сейчас, и знаете сколько — целых четыре километра в оба конца сокращаю.
— Верно, — согласилась со мной хозяйка. — Но, правду говоря, озолотите меня, ни за что не пойду этой дорогой, да еще вечером. Там даже птички не поют — молчит все. Вы не подумайте, что я утопленников боюсь, а все-таки около болотины мне даже днем страшно. — И хозяйка рассказала одну трагическую историю о том, как много лет назад, когда она была девочкой, в болотину затянуло парня из соседней деревни. — Молод был, — говорила она, — на свои силы понадеялся, вот и затянула трясина. Наверное, увидел он огоньки в наших хатах — совсем близко, снял сапоги, надел их на палку и полез через болото. А утром пастух мимо стадо гнал — глядь, на этом месте среди зеленой травы одни сапоги чернеют.
Недели полторы прошло после этого разговора. И вот однажды вечером я возвращался домой с охоты. Уже темнело, когда я наконец добрался до знакомой болотины и, пощупав рукой в густой прибрежной осоке, извлек оттуда длинный шест. На него я обычно опирался при переходах по скользкой кладке через опасную трясину. Еще не наступили настоящие сумерки, но с запада, медленно клубясь, наползала тяжелая грозовая туча. Она заволокла большую часть неба и окутала в сумрак притихшую природу. Как и перед всякой грозой, на короткое время стих ветерок, замолчали дневные птицы, но не слышно было и голосов ночи. Только среди кустарников, покрывающих окраины болота, монотонно трещала болотная птица — большой погоныш. «Урррр, урррр, уррр», — с короткими паузами отчетливо звучал его металлический голос.
Я осторожно перешел на противоположную сторону, тщательно запрятал в заросли шест и, зайдя в неглубокую воду, решил обмыть грязь со своих сапог. В тот момент пробежал ветерок и стих в низине. Затем налетел новый, более сильный порыв ветра, зашумела осока и листья кустарников. Я был в легкой рубашке, вспотел перед этим и тотчас почувствовал свежесть и сырость. Сразу кругом стало мрачно и неуютно. «Ничего, — подумал я, — теперь дом рядом — деревня рукой подать», — и бодро зашагал по знакомой тропинке. Но вдруг сквозь шум непогоды я услышал за спиной явственный шепот. Он долетел до моего слуха из-за качающихся кустов, разросшихся по краям трясины. И вместо того, чтобы прибавить шагу и до грозы успеть возвратиться домой, пораженный странным звуком, я замер на месте. За свою жизнь я слышал голоса разнообразных наших животных, но этот странный шепот, безусловно, слышал впервые. Кто мог издавать эти звуки в трясине? Но кругом только шумел ветер, шелестела листва, и поразивший меня звук повторился, лишь когда я двинулся дальше. «Чу-пит-трр», — явственно услышал я шепчущие звуки в болоте. И мне казалось, что из-за потемневших кустарников кто-то неизвестный показывает на меня пальцем и шепчет кому-то другому непонятные фразы: «Чу-пит-трр, чу-пит-трр». Голос вскоре затих, верней, болото осталось далеко позади, и странный шепот уже не достигал моего слуха. Кругом рвался и шумел ветер, где-то на островах Имана жалобно кричала сова, квакали лягушки, да под порывами ветра скрипела и хлопала калитка в деревне.
«Вот тебе и слушай рассказы о болотине, где даже не поют птицы, — думал я с раздражением, ложась спать в этот вечер. — Чего доброго, утопленников бояться будешь, и тогда болотину за два километра обходить придется. Но кто же все-таки мог шептать в болоте?»
Позднее этот шепот не пугал меня, не действовал на мое воображение. Я точно выяснил, что так кричит японский перепел, образующий в Восточной Сибири и в Уссурийском крае особую географическую расу нашей обыкновенной перепелки. Он обитает не только в полях и на сухих травянистых участках, но и в заросшем высокой травой болоте. Здесь в вечерние сумерки особенно часто удается слышать его странные крики. «Чу-пит-трр», — шепчет неподалеку от вас птица; «чу-пит-трр», — в стороне откликается ей другая.
Но я так увлекся рассказами о перепелах на свободе, что совсем забыл об однокрылом перепеле, о котором упомянул в самом начале. Этот перепел долго жил среди нашей семьи. Все привыкли видеть птицу, бегающую свободно по комнатам, привыкли к ее веселому крику и как-то мало обращали на нее внимания. Живет и живет птица, никому не мешая, — вот и все. Вероятно, так же относился перепел к окружающим его людям и к нашей охотничьей собаке Маркизу. Людям он старался не попадать под ноги, и если кто-нибудь из посторонних хотел взять его в руки, он пытался взлететь в воздух. Птица делала сильный прыжок вверх, взмахивала единственным крылом и, перевернувшись несколько раз в воздухе, беспомощно падала на пол. Маркиза перепел совсем не боялся. Вскочит, бывало, на спящую на полу собаку, примет соответствующую позу и громко прокричит свою звучную песню.
Поднимет голову собака, посмотрит на птицу сонными глазами и, сладко потянувшись, вновь задремлет. И только в тех случаях, когда бесцеремонный перепел слишком надоест собаке, умный пес уйдет и уляжется в более спокойном месте.
Глава одиннадцатая
НЕИЗВЕСТНОЕ ГНЕЗДЫШКО
Смена погоды часто происходит на вечерней и утренней зорях. Иной раз после непогожего дня, при заходе солнца, вдруг стихнет ветер, поднимутся тучи и наступит тихая, безмятежная ночь. В этот же раз, напротив, на заре погода как-то сразу испортилась. Заходящее солнце потонуло в тяжелых клубящихся тучах, наступила гнетущая тишина. Когда же совсем стемнело, внезапно под порывами ветра глухо зароптали вершины елей, зашелестели листвой молодые осинки. Надвигалась гроза.
Предвидя дождь, я с особенной тщательностью выбрал место, настлал лапника и растянул над ним свою маленькую походную палатку. И не напрасно. Не успел я закончить приготовление к ночевке, как налетел ураган, ветер завыл, закачались, заскрипели деревья. Я поспешил в свое убежище, прилег и, прикрывшись курткой, с тревогой стал вслушиваться в дикие звуки непогожей ночи. Ветер усиливался с каждой минутой, блестела молния, грохотал гром. Мне было досадно, что, охотясь, я опять ушел далеко от дома и в такую погоду вынужден буду ночевать в глухом, негостеприимном лесу. Да, хороша грозовая ночь дома, когда непогода бушует за окнами, а вас окружают близкие люди, уют и тепло. И невольно мне пришли на память детские стишки: их я часто слышал от моей первоклассницы-дочки.
В поздний вечер буря
за окном шумела.
Мать, качая сына,
тихо песню пела:
— Ах, уймись ты, буря!
Не шумите, ели!
Мой малютка дремлет
сладко в колыбели.
А впрочем, сколько гроз провел я среди природы, а потом всегда вспоминал их с большим удовольствием. Гроза с детских лет производила на меня сильное впечатление. Она одновременно привлекала, восхищала и пугала меня. Что-то чудное и жуткое кроется в ней.
В эту ночь я долго не мог заснуть — лежал и слушал, как свистит ветер, как скрипят и стонут старые ели. И под эти звуки мне с особенной ясностью вспоминалась одна из гроз, пережитых когда-то на Дальнем Востоке. Страшная была эта гроза и особенно запомнилась мне потому, что во время нее в мои руки не совсем обычно попало гнездышко неизвестной мне маленькой птички. Смешно вспомнить, но много хлопот позднее доставило мне оно.
Лежа в палатке в грозовую ночь, я и решил написать этот рассказ, назвав его «Неизвестное гнездышко». Однако, чтобы он был понятнее, я должен рассказать сначала о некоторых моих поездках, во время которых собиралась моя коллекция.
— Нашел время возиться со своим гнездом, — ворчал мой приятель. — Надо закусить да выспаться после бессонной ночи.
Но я не обращал внимания на слова Сергея. Удобно усевшись на полу у открытого чемодана, я неторопливо уложил в него сначала сухую осоку с пухом, взятую вчера из гнезда утки, а затем шесть ее крупных белых яиц. Перед тем как положить каждое яйцо, я внимательно осматривал его скорлупу — нет ли на ней трещинки или вмятины. Это особенно раздражало моего приятеля.
— Ты будешь завтракать или нет? — вышел он наконец из терпения.
— Сейчас уложу и тогда буду, — заканчивая укладку и сдерживаясь, ответил я. — Ну вот и все, теперь могу быть спокоен, что яйца будут целы. — С этими словами я закрыл чемодан и уселся за стол против Сергея.
— Знаешь, Женя, — продолжал он, — если бы ты был во всем так аккуратен, как со своими гнездами, я бы считал тебя замечательным человеком.
Но, несмотря на иронический тон приятеля, на усталость и болевшие ссадины, у меня было прекрасное настроение, и я предпочел отмолчаться. «Слово олово, а молчание золото». Что тут поделаешь? Ведь у каждого человека есть свои слабости. Есть, конечно, слабость и у меня: уже давно я начал собирать коллекцию птичьих яиц.
Как только я поступил в университет и стал часто предпринимать далекие выезды на полевую работу, моя коллекция стала расти. После каждой проведенной в природе весны я привозил несколько новых для меня кладок. Но уже тогда я строго придерживался известных правил научного коллекционирования. Я позволял себе взять гнездо с яйцами лишь в том случае, если оно безусловна представляло научную ценность и могло способствовать изучению жизни той или другой птицы. Обязательным условием при этом я считал точное определение вида. И так как многие птицы ведут себя у гнезд чрезвычайно осторожно, то и добыча их кладок давалась мне нелегко и требовала от меня много времени и терпения. Однажды, например, пытаясь точно установить, какому виду принадлежали найденные мной яйца, я часов пять просидел среди высоких кочек в болоте. Меня кусали комары, обжигала мошка, но я продолжал неподвижно сидеть в своей засаде, в бинокль рассматривая странную птицу.

— Зачем вы себя так мучите? — удивлялась хозяйка, когда я с распухшим лицом и шеей вернулся домой и во время обеда рассказал ей, как это случилось.
— Да ведь это, хозяюшка, редкая птица, — уверял я ее. — Через три дня у меня уже все пройдет, опухоль как рукой снимет. А редчайшее гнездышко у меня уже есть. Да и над птицей мне удалось сделать интересные наблюдения, и об этом я обязательно напишу небольшую заметку.
Но я так и не сумел убедить свою собеседницу.
— Все это хорошо, — продолжала она, — но посмотрите, на кого вы похожи. — Она протянула мне зеркало.
Да разве мало таких случаев было в моей жизни при собирании коллекции — всего не расскажешь! Вот и на этот раз мы с Сергеем два дня просидели на озере, где, к моей великой радости, я наконец нашел гнездо одной замечательной утки, которое долго не мог найти. Эту утку называют белолицей савкой. Она значительно меньше дикой утки кряквы, обладает длинным хвостом, состоящим, как у баклана, из жестких перьев, и странной формой головы и клюва. Ко всему этому клюв самцов белолицей савки окрашен совсем необычно. Он ярко-голубого цвета. Но не только своей внешностью замечательна савка, она интересна и своей биологией. Например, яйца этой сравнительно маленькой утки необычно велики — они немного мельче яиц небольшого дикого гуся. Вероятно, утка сидит на яйцах только самое короткое время — в начале насиживания. Позднее зародыш развивается за счет собственного тепла.
В то время я ничего не знал о размножении савки и, естественно, когда нашел в маленьком гнезде такие крупные яйца, был до крайности поражен и поставлен в тупик. Вот тут-то и начались мои мучения. Много часов на маленькой лодчонке просидел я среди тростников, издали наблюдая за гнездом незнакомки, но, увы, безуспешно: к гнезду не приблизилась ни одна птица. На чистом участке этого озера, недалеко от гнезда, плавали только савки, но не им же принадлежат эти огромные яйца. Так я думал в первые часы наблюдения.
«Неужели это гнездо савки?» — после пяти часов сидения в лодке появилась у меня догадка…
«Несомненно, эти яйца принадлежат савке», — решил я под вечер и, радуясь своему открытию, взялся за их упаковку. Для этого я использовал все бывшие со мной пригодные вещи: носовые платки, носки и портянки. Тщательно завернув каждое яйцо, я уложил их в маленькую корзинку, а пустоты между ними заполнил гнездовым материалом, состоящим из сухой осоки и утиного пуха.
Солнце опустилось уже к самому горизонту, когда я причалил лодку к берегу и, повесив корзинку себе на плечо, направился к нашему лагерю.
— Когда же мы теперь домой доберемся? — встретил меня этими словами приятель. И хотя до дома было не более десяти километров, вопрос был уместен. Этот мучительный переход я буду вспоминать в течение всей своей жизни.
Вдоль сухого русла, носившего название Сурк-арык, пышно разрослись колючие тугайные заросли. Уже в полной темноте мы добрались до этого места. Бесчисленные соловьи без умолку пели в зарослях, где-то жалобно кричали птенцы ушастой совы, да вдали, вероятно в ауле, лаяли собаки. Мы хорошо знали тропинку, пользуясь которой было нетрудно пересечь в общем неширокую полосу колючих порослей. Но в эту темную ночь нам не удалось ее обнаружить. Отыскивая ее, мы окончательно сбились с дороги и, наверное, часа полтора продирались то в одном, то в другом направлении сквозь колючую чащу.
Однако всему бывает конец — кончились, казалось, и наши мучения. Лес остался позади; мы выбрались наконец на открытое место. Это было для нас настоящим торжеством. К сожалению, оно продолжалось недолго. Из колючего тугая мы попали на казахские огороды. Небольшие участки земли оказались разделенными живыми колючими изгородями. Продираясь сквозь них и топчась в темноте в надежде найти выход из этого колючего окружения, я в конце концов провалился в сухой колодец. Когда с помощью Сергея я выбрался из глубокой ямы, меня интересовали не ушибы, не ссадины, а только корзиночка с утиной кладью.
Чуть брезжил ранний утренний рассвет. Мы с Сергеем, измученные и голодные, возвратились домой. Но, как знает уже читатель, вместо того чтобы утолить голод и улечься спать, в первую очередь я занялся осмотром яиц и их укладкой в более надежное место.
Об этом случае я рассказал для того, чтобы показать читателям, как собиралась моя коллекция. Она потребовала многих лет, настойчивости и большого терпения. Зато в ней нет неправильно определенных кладок. Приложенная к каждому гнезду этикетка расскажет вам, чьи это яйца, где, в какой обстановке и когда они собраны, а специальная карточка в картотеке поведает о поведении птицы у гнезда. Но для меня эта коллекция представляет не только научную ценность. Она дорога мне и тем, что по ней я, как по книге, читаю о прошлых своих путешествиях. И когда мне приходится еще раз просматривать гнезда, собранные в различных частях нашей Родины, в моем воспоминании попутно воскресают то снеговые горы с сизыми скалами, то шуршащие на ветру тростниковые заросли, то пустыни и степи с ярким голубым небом и поющими жаворонками. Когда-то, изучая птиц, я побывал здесь и достал ту или другую кладку, которая и сейчас хранится в моей коллекции.
И вот однажды случилось необычайное происшествие. В моей коллекции вдруг появилось совсем неизвестное для меня гнездышко. С тех пор уже двенадцать лет оно лежит в картонной коробочке со стеклянной крышкой; сквозь стекло видны пять маленьких яичек. Чьи же эти яйца, как они попали ко мне и почему, несмотря на существующие жесткие правила, они продолжают занимать место в моей коллекции? Вот об этом я сейчас и расскажу моим читателям.
Неизвестное гнездышко попало мне в руки в Уссурийском крае в 1939 году. В ту весну, изучая местных птиц, я поднялся вверх по реке Иман и поселился в небольшом русском селении Вахумбэ. Отсюда я ежедневно предпринимал экскурсии то на острова реки, поросшие шумливым лиственным лесом, то в молчаливую хвойную тайгу сопок. Однажды я поднялся на ноги еще до рассвета. Уложив в заплечный мешок завтрак и взяв ружье, я свистнул собаку и тропинкой направился вверх по Иману. Еще царил полумрак, когда я, поднявшись на перевал невысокой сопки, остановился, чтобы сверху получше осмотреть окрестность. Сегодня мне хотелось использовать ясную безветренную погоду, чтобы исследовать горную территорию, расположенную к северу от маленького селения Санчихеза.
С перевала, где я находился, мне было хорошо видно реку. Светлой лентой она извивалась среди неподвижного, величавого леса и уходила на запад. Впереди, в глубокой туманной низине, едва виднелся небольшой открытый участок, а на нем разбросанные в беспорядке домики Санчихезы. В этот ранний час природа еще не успела проснуться, дремал лес, не было слышно дневных голосов. Только внизу, на каменистых перекатах реки, журчала вода, в хвойном лесу куковала ночная кукушка, да где-то вдали глухо кричал рыбий филин. Вволю насмотревшись сверху на эту картину, я спустился к селению, перешел лесной ручеек и, придерживаясь его, стал подниматься по склону. Когда я наконец достиг вершины сопки, стало совсем светло, над лесным простором поднялось солнце — наступал яркий веселый день.

Хорошая погода позволила мне во всех направлениях исследовать этот лесной участок. Сначала я углубился в темную и глухую тайгу. Но птиц там оказалось так мало, а комаров такое множество, что я поспешил выбраться оттуда на более открытое место. Для этого я вновь поднялся на вершину сопки и, придерживаясь ее гребня, стал медленно спускаться по направлению к речной долине. Хвойная тайга осталась ниже по склонам, ее сменил смешанный веселый лес. Небольшие участки мелколесья чередовались с темными группами елей, высоко поднимали над лесом свои вершины великаны тополи и кедры. Отсутствие сплошного полога здесь позволяло всюду проникать солнцу, тянул освежающий ветер, отгоняя от лица назойливых насекомых.
Наблюдая за птицами, я не заметил, как солнце перевалило за полдень. «Пора закусить», — подумал я и только хотел выбрать место для отдыха, как из-под самой моей ноги выпорхнула маленькая птичка и тут же исчезла среди валежника. «Как странно вылетела! Так обычно вылетают птицы с гнезда». С этой мыслью я наклонился и, отодвинув рукой папоротник, среди мха у основания большой ели заметил маленькое гнездышко с пятью голубыми яичками. Чьи же это яйца? Голубые и на земле — наверное, какой-нибудь завирушки? Впрочем, что гадать? Я отошел в сторону, расстелил куртку, вытащил завтрак, то есть расположился надолго. Прошло более получаса, а птичка не появлялась. Мне показалось это несколько странным. Я поднялся и подошел к гнезду. Когда между гнездом и мной оставалось не более шага, птичка выпорхнула опять, но и на этот раз с такой быстротой исчезла среди хвороста, что я не смог рассмотреть ее окраски.
«Что за странность? — пожал я плечами. — Почему я не заметил ее, когда она подлетела к гнезду?» Я собрал вещи, отозвал лайку и, удалившись от этого места, наверное, минут двадцать ходил по лесу, а потом вновь подошел к гнезду, но уже с той стороны, куда неизвестная птичка улетала при прежних моих приближениях. Я подходил к гнезду особенно осторожно, едва переставляя ноги, всматриваясь в папоротник. Я надеялся увидеть сидящую на гнезде незнакомку. Но птичка, слетая, опять лишь на одно мгновение мелькнула перед глазами.
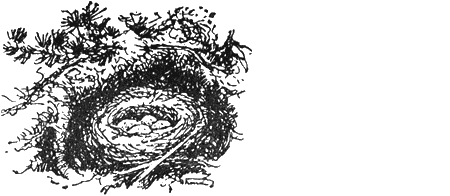
Тогда я опустился у гнезда на колени и в бинокль стал рассматривать хворост — должна же она наконец появиться на открытом месте. Мое внимание отвлекла большая черная белогрудая белка. Она появилась на соседней ели, суетливо бегала по ее веткам, подергивая своим пушистым хвостом, чокала, выражая всем своим поведением необычное возбуждение. «Ну чего она суетится?» — с досадой подумал я.
Вдруг в лесу стало сумрачно, звуки стихли. Я невольно повернул голову и увидел на небе грозовую тучу. Она медленно наползала в моем направлении; в ней было что-то необыкновенное. Край черного облака был оторочен угловатой багровой линией. Ниже ее четко вырисовывался овальный клочок голубого неба. Этот клочок и изогнутая оторочка тучи удивительно напоминали глаз и бровь рассерженного человека. Глаз смотрел с неба с такой зловещей угрозой, что у меня сжалось сердце, мне захотелось поскорее уйти отсюда, куда-то спрятаться. Но в эту минуту ко мне шарахнулась моя собака, шерсть ее поднялась дыбом. Я повернулся и недалеко от себя увидел большого медведя. Он несколько приподнялся на задних лапах, тянул носом, с удивлением вертел головой, видимо желая выяснить, что за непонятное существо копошится под елью среди высокого папоротника. Я почувствовал себя в ловушке, затравленным. Сзади надвигалась гроза, сквозь страшное облако глядел угрожающий глаз, впереди стоял крупный медведь.

«Что ты там делаешь, зачем обижаешь маленькую беззащитную птичку?» — казалось, вопрошало небо. «Зачем ты разбойничаешь в моих владениях, какое право ты имеешь трогать в лесу гнездо птички?» — выражала вся фигура медведя, недружелюбно смотревшего на меня — непрошеного гостя. Но, вместо того чтобы признать свой поступок несправедливым и с миром уйти из лесу, я поспешно взвел курки своего ружья и, держа его наготове, осторожно извлек из мха гнездо с голубыми яичками. Пятясь назад и продолжая держать наготове ружье, я отступил от этого места. Когда фигура медведя исчезла за хвоей, я большими шагами, вернее прыжками, стал спускаться по крутому склону все ниже и ниже.
А в это время уже бушевала гроза. Среди мрака сверкали молнии, грохотали, перекатывались громовые удары, из стороны в сторону метались молодые березки, глухо роптали, размахивая мохнатыми потемневшими ветвями, старые кедры. Жутко было в лесу. Казалось, вся природа, недавно такая ласковая и веселая, сейчас враждебно относилась ко мне за мой поступок и старалась выразить это в сильных движениях и звуках. Я же сквозь непогоду спешил уйти из враждебного леса, как можно скорее спуститься с сопки. Вот и знакомый ручей, но во что он превратился за такое короткое время! Мутный, ревущий поток отрезал мое отступление. Наскоро я уложил в коробочку, а затем в заплечный мешок взятое гнездышко, потом снял с плеча ружье и плашмя перебросил его на высокий кустарник противоположного берега. Следом за ружьем воздушный полет совершила и моя собака. Пытаясь сохранить равновесие, она лишь повертела своим пушистым хвостом в воздухе. Менее удачно совершилась моя переправа. Поток сбил меня с ног, но я ухватился за нависшую ветвь прибрежной ивы, и силой воды меня выбросило на противоположный берег. Когда я шел уже знакомой тропинкой к селению Вахумбэ, кругом было так темно, как в поздние сумерки. Порой ослепительно сверкала молния, грохотал гром, ревела вода, потоками низвергаясь с серого неба, катясь по оврагам к мутному руслу Имана.
Зачем я разорил это гнездышко? Ведь я не знаю, чьи это яйца, а при этих условиях они не представляют для меня никакой ценности. Впрочем, гнездо все равно бы погибло. Обнюхивая мои следы, медведь нашел бы его и, конечно, съел бы все содержимое. Да кроме того, я обязательно выясню, какой птице принадлежит гнездо, и тогда мой поступок будет оправдан.
«Но все-таки — чьи же это яйца? — ломал я голову. — Наверное, какой-нибудь завирушки». И я написал на этикетке это название птицы, поставив, однако, большой вопрос. «Выясню, когда возвращусь в Москву», — решил я и старался больше об этом не думать. Но невольно мое сомнение в правильности определения с каждым днем возрастало. Завирушка ли это? Почему они не попадаются мне во время экскурсий? Ведь это заметные птички и пропустить их довольно трудно. Когда же я возвратился в Москву и внимательно осмотрел несколько гнезд завирушек моей коллекции, мне стало ясно, что я допустил ошибку. В гнездах этих птичек совершенно не было конского и прочего волоса, и, напротив, его было много в неизвестном гнездышке, добытом мной в Уссурийском крае. «Значит, это не завирушка, а какая-то другая птичка», — приуныл я.
Прошло около года. Копаясь в старой специальной литературе, я прочел однажды интересную для меня заметку. В ней было указано, что одна из птичек Уссурийского края — белокрылая горихвостка — устраивает свои гнезда на земле среди горного леса и откладывает яркие голубые яйца. Не этой ли горихвостке принадлежат голубые яички, которые мне удалось найти в июне 1939 года в Уссурийском крае? Ведь эти птички часто попадались мне во время экскурсий в окрестностях Санчихезы и Вахумбэ.
И вот я вновь обратился к своей коллекции и сравнивал неизвестные яйца с яйцами обыкновенной горихвостки. По моим расчетам, у этих близких видов яйца должны иметь много общего. И я не ошибся — между ними не оказалось почти никакой разницы. Наконец-то мне удалось добиться точного определения. Воспользовавшись этим, я уничтожил старую и написал новую этикетку.
Одно меня только смущало: кладки обыкновенной горихвостки были собраны без самих гнезд, и потому у меня не было возможности сравнить и их строительный материал. «Сделаю это в первую весну, — решил я, — ведь гнезда обыкновенной горихвостки под Москвой не представляют никакой редкости».
Под названием «Белокрылая горихвостка» с маленьким вопросом кладка продолжала сохраняться в моей коллекции до тех пор, пока мне не удалось осмотреть целую серию гнезд обыкновенной горихвостки. Представьте же мое разочарование: гнезда при сравнении оказались различными. В гнездах обыкновенных горихвосток было много перьев и отсутствовал конский волос; в неизвестном гнездышке отсутствовали перья, но зато было много конского волоса. Неужели и на этот раз я допустил ошибку в определении? И вновь на злосчастной этикетке появился большой вопросительный знак.
С тех пор прошло много лет. Совсем недавно один из московских орнитологов, возвратившись из Уссурийского края, показал мне кладку замечательной птички — синего соловья. Маленькие ярко-голубые яички его оказались чрезвычайно похожи на когда-то добытые мной в сопках у Санчихезы. «А вдруг неизвестное гнездышко принадлежит синему соловью?» — мелькнула у меня догадка. Когда же Константин Александрович (так звали орнитолога) рассказал мне, в какой обстановке он нашел гнездышко и как осторожно вела себя птичка, я перестал сомневаться в правильности своей догадки.
— У меня нет самого гнезда, — продолжал Константин Александрович, — но зато в дневнике есть подробное описание того материала, из которого оно было построено. Я покажу его вам, как только выберу время.
Возвратившись домой, я весь вечер копался в своей коллекции. В ней были представлены несколько соловьиных гнезд, принадлежавших различным видам, собранных в средней полосе, на Сырдарье, в Тянь-Шане и в Уссурийском крае. И знаете, что оказалось — все гнезда содержали довольно много конского волоса и волоса диких животных. Это облегчило мою задачу. Чтобы точно определить, какому виду принадлежит неизвестное гнездышко, и снабдить его верной этикеткой, мне оставалось только получить сведения от Константина Александровича.
И вот наконец 19 апреля 1951 года я получил нужные для меня данные. В двух гнездах, осмотренных Константином Александровичем, оказалось довольно много волос местных оленей. Конский волос отсутствовал, вероятно, по той причине, что гнезда найдены в глухой тайге, вдали от селений и домашних животных. Таким образом, пока мне удалось точно установить, к какому виду принадлежит добытое мной на Имане гнездышко, прошло много времени: я его взял 14 июня 1939 года, а точно определил 19 апреля 1951 года.
В заключение необходимо сказать несколько слов о вреде собирания птичьих яиц ребятами. Без определенной цели многие ребята увлекаются отыскиванием птичьих гнезд и собиранием коллекций. Они соревнуются между собой — каждый старается за весенний сезон разыскать и собрать как можно больше птичьих яичек. Это быстро сказывается на численности пернатого населения: в садах городов и в их ближайших окрестностях птиц — друзей человека — вскоре становится мало. Вредное это дело; стоит ли им заниматься?
Необходимо отметить, что в настоящее время яйца почти всех наших птиц хорошо известны ученым; не описаны только немногие редкие виды, населяющие отдаленные и труднодоступные уголки нашей обширной страны. Таким образом, собирая птичьи яйца, даже ученому бывает трудно обогатить новыми сведениями нашу орнитологию. Что же при этих условиях может дать собирание птичьих гнезд ребятами? Безусловно, один только вред. И в то же время надо сказать, что образ жизни многих птиц и в наше время остается слабо изученным. Нам плохо известно, сколько дней насиживает яйца та или другая птица, кто (самец или самка) строит гнездо, чем вскармливаются птенцы, на какой день жизни они покидают свои гнезда. Не лучше ли ребятам направить избыток своей энергии не на разорение гнезд, а на полезное дело — охрану птиц и на тщательное изучение их образа жизни и размножение!
Глава двенадцатая
КУНЧИК
Однажды в холодный декабрьский день ко мне приехал из Калининской области знакомый охотник. Перед тем я несколько раз останавливался у него при поездках в глухую деревеньку, расположенную километрах в двадцати от Вышнего Волочка.
— Степана из Заболотной помнишь? — обратился он ко мне, едва переступив порог и развязывая шарф на шее. — Подарок тебе от него привез. — С этими словами он расстегнул полушубок и извлек оттуда привезенный для меня подарок, но такой необычный — совершенно ручную лесную куничку.
Но не только сам подарок произвел на меня впечатление. С большим удивлением я смотрел также на своеобразную «клетку», в которой мне привезли зверька. Представьте себе свернутую из бересты трубку. Оба ее конца были затянуты металлической сеткой. Когда я взял ее в руки, желая выяснить, что же в ней скрывается, оттуда, несмотря на крайнее неудобство и тесноту, глянули черные и такие ласковые глаза веселой молодой кунички. Зверек, видимо, с нетерпением ждал, когда же наконец его выпустят на свободу. Я заспешил. Мне хотелось как можно скорей освободить бедного пленника из той страшной тесноты, в которую он попал по моей вине, но куда его поместить хотя бы на первое время? Правда, у меня была клетка, но я так давно ею не пользовался, что никак не мог вспомнить, где она сейчас и цела ли вообще. Совет приятеля облегчил мне эту задачу.
— Не надо никакой клетки, зачем она? Ведь куница совсем ручная и с лета живет в избе на полной свободе.
Руководствуясь его словами, я с величайшим удовольствием сорвал решетку и выпустил зверька прямо в комнату. С этого момента без всякой клетки моя новая пленница под именем Кунчик прожила у меня дома более трех лет. Во всех отношениях она не походила на двух куниц, живших у меня до ее появления. Вероятно, она попала в руки людей в раннем возрасте и искусственное кормление отразилось на ее росте. К середине зимы она едва достигла самого мелкого размера для лесной куницы. К этому времени она успела закончить линьку и надеть пышное зимнее одеяние, но мех был слишком светлый, а желтое горловое пятно слишком бледно.
«Грош цена такой кунице», — пожалуй, сказал бы любой меховщик, осматривая мех животного. Однако для меня это не имело никакого значения. И верно, какое мне дело до качества ее меха, когда она нравилась мне во много раз больше самого красивого соболя.
Прошло не более месяца со времени появления у нас кунички, и она стала не только моей, но и общей любимицей. «Удивительно симпатичный, веселый и смышленый зверек», — думалось мне, когда я иной раз подолгу наблюдал за ее поведением. Ручная куничка вела себя среди людей как настоящее домашнее животное. Вот она неторопливым, бесшумным галопцем приближается к стулу, вскакивает на него и, опершись своими широкими передними лапками на край стола, с любопытством заглядывает вперед. Дальше нельзя — это ей хорошо известно, и куничка исследует стол издали. Она смешно морщит свою подвижную мордочку, щурится, ее влажный нос вздрагивает, улавливая вкусные запахи.
— Нельзя, Кунчик! — негромко, но резко говорю я и тихонько ударяю рукой по столу. Этого вполне достаточно. Зверек нехотя прыгает на пол и бежит в другую комнату.
Вскоре я выяснил, что моя куничка большая лакомка. Она до странности любила варенье, мед и сладкую манную кашу. Используя эту слабость, мне и удалось многого достичь в отношении ее приручения. Терпеливо, помногу раз сряду я заставлял Кунчика прибегать на мой зов и вскакивать на руки и плечи. Только здесь он получал вознаграждение. «Кунчик, Кунчик», — не видя зверька в комнате, бывало, крикну я, и он, в надежде получить лакомство, тотчас появится около. Спустя несколько месяцев я уже брал ручную куничку во двор, где она бегала на полной свободе, копалась в снегу и вскакивала на меня, как только я ее звал по имени.
Одновременно с куницей в небольшой вольере у меня жила белка, и я невольно сравнивал поведение этих двух древесных животных. Изредка я запирал куничку в кухне и на короткое время выпускал белку в комнату. Каждая такая прогулка обязательно кончалась хотя бы маленьким огорчением. Иной раз зверек свалит с полки фарфоровую статуэтку и, перепуганный звоном разбившейся вещи, прыгает на другую полку, откуда на пол также летят безделушки. И как же в этом отношении безупречна была куничка! За три с лишним года жизни в моей квартире она не разбила ни одной вещи.
Славный был зверек Кунчик — веселый, понятливый и, как ни странно для хищника, удивительно добрый. Разозлить его, казалось, не было никакой возможности. Мнешь, бывало, его пушистую шкурку, тискаешь руками, а он даже не догадается пустить в ход свои острые, зубы. Разве такого ручного зверька не приятно держать в неволе? Он, вероятно, полностью утратил стремление к свободе и, живя в нашей квартире, заменял домашнюю кошку.
Никогда бы я не расстался с ним, но одна беда — ручной зверек ненавидел кошек. Это крайне осложняло содержание куницы и в конце концов заставило меня расстаться с ней. При всяком удобном случае она бежала в кухню, где сталкивалась с соседскими кошками и затевала жестокие драки. Большой серый кот, принадлежавший соседке, вскоре стал настоящим моим несчастьем. Он был вдвое больше куницы и, конечно, мог ее задушить при первой же схватке. Однако лесной хищник нападал на него с такой стремительностью и так ловко увертывался от когтей и зубов противника, что кот всегда терпел поражение. В таких случаях он пытался спастись бегством через открытую форточку. Этим путем он нормально пользовался для посещения крыши соседнего флигеля. Однако, спасаясь от своего врага, он часто срывался с форточки, падал на подоконник и кухонный стол и бил посуду. Квартира наполнялась звоном бьющегося стекла, оханьем хозяек и кошачьим фырканьем.

Взъерошенный кот с горящими злыми глазами забивался в узкий промежуток между двумя столами и с шипением, размахивая когтистой лапой в воздухе, пытался защитить себя от зубов противника. Желая предупредить драки, я перестал выпускать зверька в кухню. Но это не избавило меня от неприятностей. Ведь куница сталкивалась с кошками в нашем дворе, куда я иногда брал ее погулять. И вот однажды она разорвала ухо белой кошке, жившей в соседнем флигеле. Ранка была ничтожная и совсем неопасная, но из нее обильно сочилась кровь, пачкая пушистую шкурку. «Посмотрите, что наделал ваш хищный зверь», — трагическим голосом обратилась ко мне ее хозяйка, показывая действительно сильно окровавленную кошку. Что при этих условиях я мог возразить в защиту Кунчика?
И вот после этого случая я наконец решил расстаться с моей драчуньей куничкой, выпустить ее на волю. Осуществить это мне хотелось как можно скорей, до выезда в намеченную экспедицию, но я ждал окончания весенней охоты. Мало ли что может случиться с ручным зверьком на свободе, когда на лесных опушках вечерами гремят частые выстрелы. Ждать оставалось недолго, а пока я решил выбрать хорошее место для Кунчика и при каждом выезде за город на вальдшнепиную тягу до наступления вечера бродил по лесу.
Глухой ельник с примесью лиственных деревьев, разросшихся по обрывистому берегу небольшой речушки, особенно понравился мне. Здесь было уютно и тихо. Высоко к небу поднимали свои остроконечные вершины мохнатые ели, дремали толстые дуплистые осины, доживая свой век; у речки росла ольха и рябина. В самой чаще не было солнца, пахло грибами и сыростью, вокруг полусгнивших пней росла брусника. «Спокойный уголок — зверьку будет здесь привольно», — решил я и прекратил поиски.
Наступил май — кончилась весенняя охота. В одно прекрасное утро я посадил свою ручную куничку в маленькую корзинку и отправился к выбранному месту. Вот и знакомый участок леса — все здесь как будто по-старому, только душистые ландыши всюду пробились наружу сквозь лесной валежник. Поставив корзинку на пень, я открыл ее и выпустил зверька на волю. Бедный, смешной Кунчик! Он никогда не был в лесу и, попав сюда, вел себя в высшей степени странно. Видимо, масса новых запахов поразила его значительно больше, чем прочая обстановка. Он ознакомился с гнилым пнем, потом осторожно спустился на землю и, наткнувшись на стебель какой-то травы, стал исследовать его со всех сторон. Зверек нюхал его, лизал, и все это делал с таким заразительным наслаждением, что я невольно последовал его примеру и, сорвав стебель, поднес к лицу. От него исходил запах молодой зелени и какой-то чудной свежести. А Кунчик тем временем знакомился с молодым деревцом. Он обнюхивал нежную кору, дотянулся до нижней веточки и, пригнув ее к земле, стал объедать липкие душистые почки. Потом его привлекла лесная подстилка: он засовывал в нее мордочку, разгребал лапами опавшую хвою и, наконец, среди нее обнаружил навозника. Спасая свою жизнь, жук попытался забраться обратно, но это ему долго не удавалось. Кунчик же с удивлением сначала издали наблюдал за его движением, затем коснулся своим носом, резко отдернул назад голову и, вероятно убедившись наконец, что жук съедобен и совсем безопасен, съел его со страшной жадностью. Наблюдая за поведением куницы, я ясно понял тогда, что при содержании в неволе я лишал ее многих вещей, в которых, вероятно, нуждался организм животного. Однако съеденного жука для Кунчика оказалось мало. Зверек, усиленно втягивая в себя воздух, стал шарить кругом, копаться в опавшей листве, заглядывать под валежник. Сначала поиски ограничивались самым небольшим участком, где была обнаружена первая добыча. Однако второй жук, как нарочно, нигде не попадался, и Кунчик расширил поле своей деятельности. Бегая кругом и исследуя почву, он вдруг обнаружил что-то совсем новое и непонятное — недалеко от него среди мха и травы сидела небольшая травяная лягушка. Кунчик прижался к земле, вытянулся во всю длину и, осторожно передвигая ноги и вздрагивая, пополз к неизвестному для него животному. Я с интересом наблюдал, что будет дальше. Лягушка подпустила хищника совсем близко. Когда между ними осталось не более десяти сантиметров, лягушка сделала один за другим несколько прыжков в сторону, а смешной Кунчик — я не мог удержаться от смеха — подпрыгнул с такой силой и так высоко, как будто его подбросила какая-то неизвестная сила. Когда лягушка исчезла из виду, пораженный зверек вновь стал подползать к ней и вновь высоко подскочил, когда она, спасая свою жизнь, запрыгала вновь.

Пользуясь этим, я осторожно отошел в сторону, потом вброд перешел речку и, едва заметной тропинкой углубившись в лесную чащу, остановился. Не бежит ли за мной куничка? Но кругом было тихо. Вероятно, любопытный зверек заинтересовался лягушкой до такой степени, что не заметил моего отсутствия, иначе он, конечно, побежал бы за мной следом.
Неужели я больше никогда не увижу веселого Кунчика? Мне стало грустно. Не позвать ли его и, если он прибежит на мой зов, отказаться выпускать его на волю и ограничиться только прогулкой? «Кунчик, Кунчик!» — захотелось мне крикнуть на весь лес. Но вместо этого я быстро зашагал по тропинке в том направлении, где, по моим расчетам, была железнодорожная станция.
Волюшка-свободушка всем милей всего,
С волюшкой-свободушкой не нужно ничего,—
вспомнил я простые слова и уже с облегчением взглянул кругом — на молодую зелень берез, на темные ели, на весеннее голубое небо. Хорошо в мае в нашем лесу!
Глава тринадцатая
СОБАКИ
Некоторым из моих приятелей кажется, что я очеловечиваю животных. Например, любя собак, я будто бы допускаю у них настоящее сознательное мышление, а в связи с этим и поступки, присущие человеку. Не могу с этим вполне согласиться. И в то же время я утверждаю, что от высокоодаренных животных, и в частности от собак, а из птиц — от различных видов ворон, можно ожидать таких поступков, которые на первый взгляд кажутся нам совершенно невероятными. Я уверен, что это проявление большой сообразительности, а не только привычек.
В первую очередь это касается собак. Ведь на них, на спутниках нашей жизни, в течение целых тысячелетий особенно сказывалось влияние человека. На сообразительность собак я обратил внимание уже в детстве. Как сейчас помню курьезный случай с моей нянькой. Звали ее Васильевной. В нашем доме Васильевна была своим человеком. Когда мы подросли, она незаметно и постепенно забрала в свои руки хозяйство. Очень любила она всевозможную домашнюю птицу и, когда мы жили на маленькой железнодорожной станции Ахтуба, развела кур и индеек в несметном количестве. Осенью и зимой птиц кормили отрубями, замешивая их теплой водой в продолговатых деревянных корытцах с длинной продольной перекладиной в середине. Эта перекладина мешала птицам забраться с ногами в корыто и была удобна для переноски кормушки.
В одно зимнее утро, поставив полное корытце с отрубами против кухни, Васильевна открыла форточку, выставила через нее половую щетку и стала следить, как кормятся домашние птицы. Когда к корму подлетали вороны, Васильевна возможно дальше высовывала щетку наружу и начинала ее крутить.
Озадаченные этим, осторожные вороны медленно отлетали в сторону. Вдруг во двор забежала большая дворняга и, вероятно будучи чрезвычайно голодна, засунула морду в корытце и стала с жадностью глотать отруби.
Конечно, при появлении чужого пса птицы разлетелись в стороны. По понятиям моей няньки, собака совершила преступление и невероятную дерзость. Энергично выдернув щетку из форточки, Васильевна бросилась с ней в сени, а оттуда во двор. Вот тут-то и произошел замечательный случай, вызвавший среди нас, ребят, бурю восторга и невольные аплодисменты, а у Васильевны бурю негодования.
Только одно мгновение собака не знала, что делать. Она униженно, с мольбой смотрела на старуху и вдруг, видимо сообразив, что, кроме побоев, от нее ничего не дождешься, зубами схватила корытце за перекладину и, напрягая все силы, быстро исчезла с ним за воротами. Отбежав с корытцем метров на двести от нашего дома, находчивая собака на этот раз совершенно спокойно закончила свой весьма внушительный завтрак.

Раздраженная Васильевна еще долго кричала, что она найдет управу на этих разбойников, что у моего отца зря на стене висит ружье и что она попросит какого-то Прохора или Сидора перестрелять всех собак на станции. Но я хорошо знал, что все это одни слова — Васильевна все забудет, как сядет пить чай, и не со зла кричит, а просто от скуки. И хотя, любя Васильевну, я ничего не сказал ей, но был целиком на стороне сообразительной голодной собаки. Этот случай, вероятно, был началом моей симпатии к собакам.
О проявлениях сообразительности у собак и вообще о случаях с собаками мне и хочется рассказать ребятам. Если же мою книгу будут читать взрослые, то пусть они не подумают, что я страстный, увлекающийся собачник. Собачьих пород, например, я совсем не знаю и могу не обратить внимание на самого чистокровного медалиста. Но мимо некоторых собак, независимо от их породы, не знаю почему, не могу пройти равнодушно. Болит мое сердце также, когда я вижу страдания этого умного и совершенно по-особому самоотверженно преданного человеку животного.
Мне исполнилось шестнадцать лет, когда я был свидетелем одной немой сцены, оставившей неизгладимый след в моей памяти. И хотя эта сцена — самое обычное, повседневное явление в нашей жизни, я уж позволю себе рассказать о ней читателям.
И рассказать не так, как будто это давно прошло и поблекло от времени, а как будто я вижу эту сцену сейчас и мне не полсотни, а шестнадцать лет.
Было теплое летнее утро. Солнце уже довольно высоко успело подняться над горизонтом и бросало ласковые лучи на тихий город, на дощатые заборы улиц, блестело в окнах. На освещенном солнцем клочке деревянного тротуара у двухэтажного дома, совсем рядом, сидели два живых существа — толстый и уже сильно подросший щенок и мальчик. Ему было лет пять. Опустившись на корточки, мальчик неумелыми ручонками разворачивал бумажный пакетик, доставал из него кусочки хлеба и кормил ими щенка. По розовому личику мальчика текли крупные слезы.
Вероятно, совсем недавно упитанный и такой симпатичный щенок с ласковыми детскими глазами жил в тепле и холе. И вдруг капризная судьба изменилась. Безжалостная чесотка или стригущий лишай изуродовали его блестящую низкую шерсть, голая кожа покрылась гнойниками и красными пятнами. И баловень стал никому не нужен, опасен. Его сторонились, отводили глаза при случайном взгляде — он всюду мешал, стал лишним во всем мире. И щенок уже не лез к людям, не ждал от них ласки. И только сейчас, греясь на солнце под чужим забором, вероятно, в последние дни своей жизни, в лице ребенка нашел участие.
А вот Цыган, по моим понятиям, был самой обыкновенной дворняжкой. Впрочем, эту породу собак как будто называют южнорусской овчаркой. Но уж поскольку данный вопрос для меня малоизвестен, я лучше опишу внешность собаки, предоставив решать самим читателям — дворняжка Цыган или овчарка.
Представьте себе черного кудлатого пса среднего роста, с висячими ушами. Хоть шерсть у него и вьется, как у барана, но она неопределенного, не то черного, не то бурого, цвета, без всякого блеска и такая жесткая, как щетина. Посмотришь на невзрачного пса — нет в нем ничего замечательного: кудлата, и только! Одно привлекает ваше внимание — глаза. Сквозь завитки и клочья грубой побуревшей шерсти — блестящие выпуклые карие глаза смотрят на вас как будто из глубины самого собачьего сердца. Проходя мимо, вам вдруг захочется сказать собаке несколько ласковых слов, потрепать ее за грубую шерсть, и за это кудлатый пес проводит вас теплым, благодарным взглядом.

Я столкнулся с Цыганом совсем недавно на Дамчинском участке Астраханского заповедника. Он сам избрал себе хозяйку в лице доброй и симпатичной пожилой женщины. Звали ее Марусей; она готовила обеды для сотрудников и гостей заповедника. Около кухни, в тени мостков, ведущих к столовой, и протекала незатейливая жизнь Цыгана; здесь его можно было найти большую часть суток.
— А где же Цыган? — однажды, закончив ужин, спросила приехавшая на практику девушка. В руке она держала тарелку с остатками жареной рыбы.
— Ой, не знаю, где наш Цыган, — разведя руками, ответила с улыбкой Маруся. — Вчера Саша из винтовки стрелял — так после этого Цыгана дня два не увидишь. Отсиживается где-нибудь.
— Почему же это, Маруся? — вмешался я в разговор. Меня заинтересовали слова женщины.
Ужин был кончен, все разошлись из столовой, сгустились вечерние сумерки. Пользуясь свободной минуткой, Маруся присела у столика и рассказала мне историю жизни своего любимца — кудлатого пса.
У Цыгана не было хозяина; вместе с другими дворнягами он принадлежал Дамчинскому кордону Астраханского заповедника. В общем, собакам жилось неплохо. И вдруг, как всегда неожиданно, случилась беда. В тростники Дамчинского участка из прилегающих степей забежал волк. Однажды в окрестностях кордона он набросился на шедшую по дороге женщину; каким-то чудом ей удалось отбиться от серого хищника. В тот же день волк ворвался в группу жавших тростник рабочих и при этой схватке расстался с жизнью. Убитый зверь оказался бешеным. Несколько дней спустя из Астрахани пришел страшный приговор. На всякий случай, чтобы предупредить распространение опасной болезни, предлагалось уничтожить всех собак заповедника.
За этим распоряжением последовало несколько ружейных выстрелов, и собак на Дамчинском кордоне не стало. Но как же остался Цыган, почему он и сейчас здравствует? Чудом каким-то уцелела эта собака. Направленные в пса четыре выстрела не отняли у него жизни и заставили спасаться бегством. Быть может, только напуганный, но, возможно, и раненый, Цыган исчез из селения. С этого страшного дня его больше никто не видел. «Погиб, наверное, бедный раненый пес среди тростниковых зарослей», — решили в поселке и вскоре перестали об этом думать. И только впечатлительным детям в непогожие вечера, когда под порывами ветра стонали потемневшие ветлы и шуршал тростник, как-то жутко было выходить из дому. Им казалось, что в глубине тростниковых зарослей, далеко от кордона, жалуясь на свое страшное одиночество, на свою судьбу, тоскливо воет собака.
С тех пор без особых перемен прошло около полугода.
Однажды наблюдатель участка обратил внимание на следы какого-то зверя, удивившие его своими размерами. «Крупнее лисицы, крупнее енотовидной собаки — не волк же это?» — ломал он над следами голову. Прошло еще несколько дней, и в одну лунную ночь удалось убедиться, что крупный черный зверь — наверное, собака, посещает кордон, подбирает близ жилых построек рыбьи головы и другие отбросы. Неужели это уцелевший Цыган? Но скрип двери и мужской человеческий оклик отпугнули Цыгана, заставили его временно прекратить посещение поселка.
— Ни в коем случае не трогать собаку, — распорядился директор, узнав об этом случае.
— Цыган, Цыганушка, подойди сюда, ну иди же ко мне, собака, не бойся, — в другую ночь манил отверженного пса ласковый женский голос. Виляя хвостом и повизгивая, Цыган осторожно подполз к Марусе и лизнул ей руку. С тех пор собака возвратилась в Дамчинский поселок.
Никто не обижал Цыгана с этого времени. Он поселился под мостками у столовой, где целыми днями суетилась Маруся. И поняв своим собачьим умом, что ему простили какую-то большую вину, помиловали его, он ласковым, благодарным взглядом провожал каждого прохожего человека. Всеми силами он старался не мешать людям, перестал лаять, чтобы не навлечь на себя новой невзгоды. Но больше всего он боялся ружейных выстрелов, скрываясь на день, на два, когда кто-нибудь стрелял на кордоне.
Ну а теперь в заключение этой повести я расскажу читателям о том случае, когда чувство самосохранения чуть было не заставило меня убить замечательную киргизскую овчарку.
Это произошло в горах Киргизии неподалеку от озера Сары-Чилек. Не могу понять, почему его так назвали? «Сары-Чилек» в переводе на русский язык — «желтое ведро». Хотел бы я, чтобы мои читатели взглянули на «желтое ведро» своими глазами. Они увидели бы такую величественную красоту, что о ней рассказать почти невозможно, а нарисуешь — никто не поверит, что художник передал на полотне те самые краски.
По пробитой скотом тропинке, по крутым увалам я в тот безоблачный день медленно поднимался к белым вершинам. Пройду немного, остановлюсь, чтобы отдышаться, и не могу глаз оторвать от чудной картины. Внизу — бирюзовая гладь большого продолговатого озера, над ним — серые и черные скалы, потом бархатистая зелень горных лугов, а выше искристый белый снег на ярком голубом фоне южного неба. Жжет солнце, холодком тянет с горных перевалов, блестит, извиваясь вдали, пенистый горный поток.
Приблизительно после часовой ходьбы добрался я наконец до вершины холма и здесь решил отдохнуть перед новым подъемом. Почти ровная вершина холма, разукрашенная пестрыми цветами по яркому зеленому фону трав, примыкала к причудливым скалам, к седым осыпям. Под ними росли последние деревца арчи. Само собой разумеется, для отдыха меня потянуло к этой группе деревьев. Но не успел я сделать и сотни шагов в этом направлении, как замер на месте. Только теперь я заметил светлую юрту. Она стояла на зеленой лужайке и терялась на фоне седой осыпи. От юрты, пересекая зеленый луг, прямо на меня неслась пестрая киргизская овчарка. Такой красавицы, такого олицетворения силы и ловкости, как эта почти белая с редкими черными пятнами собака, я давно не встречал.
Никогда я не боялся собак. Кусали они меня в детстве, штаны без конца рвали, но нет у меня к ним страха, и только. Но на этот раз что-то серьезное, внушительное было в фигуре, в движении быстро бегущего ко мне животного. Я снял с плеча ружье. Секунду спустя я взвел курок, а еще через мгновение, ощутив явную опасность, взвел и второй. От юрты ко мне в долгополом белом платье, с распущенными черными косами, бежала киргизская женщина. Она кричала и размахивала руками. И хотя я не мог слышать отдельных слов, но и без них мне стало все ясно. Она боялась и за меня, и за жизнь своей любимицы.
Когда собака приблизилась шагов на восемь, я прицелился и выстрелил мимо головы животного. По моим расчетам, выстрел должен был оглушить, остановить собаку, но на этот раз мне стало страшно — он почти не оказал никакого действия. Кое-как я успел увернуться от прыгнувшей на меня собаки, ее челюсти щелкнули в воздухе. Сосредоточив все свои силы, я нанес прикладом ружья страшный удар животному. Но ни визга, ни замешательства. Сбитая ударом собака покатилась по траве, но тотчас вскочила на свои упругие ноги и повторила еще более стремительное нападение. Я нанес новый удар ногой, потом вторично сбил собаку прикладом на землю. Четверть минуты спустя я отбил еще два яростных натиска и, наконец, видя, что выхода нет, перебросил в руках ружье, чтобы успеть в любой момент выстрелить.

Неожиданно собака изменила приемы своего нападения. Вместо смелых стремительных натисков, между которыми у меня были кратковременные передышки, она вдруг быстро закрутилась вокруг меня и, увертываясь от моих ударов, пыталась схватить меня за ногу. Для меня это было во много раз хуже. Один раз я запнулся и чуть не упал на землю и в конце концов почувствовал сильное головокружение. Игра становилась опасной и подходила к концу. «Довольно», — мелькнуло в моей голове страшное решение, и, ожесточенно отбиваясь стволами ружья, я указательным пальцем нащупал гашетку. К счастью, в этот критический момент подоспела киргизская женщина. Я испытал еще один невероятный натиск, и все вдруг прекратилось. Женщина обхватила собаку за шею руками, и та покорно легла на траву, без всякой злобы следя за мной глазами. С ее разбитых губ на белоснежную мохнатую грудь, на мощные лапы капала кровь.
— Ките-ките, — кивком головы указала мне киргизка на соседнее ущелье. Я понял, что нужно возможно скорей уйти отсюда, и пошел, спотыкаясь о камни, но не быстро, а медленным шагом. Я боялся, что, увидев мое поспешное отступление, собака вырвется из ненадежных рук ее владелицы.
В этот день я отказался от подъема к снеговым вершинам. После всего пережитого я неуверенно стоял на ногах, сильно болели руки. Собака ни разу не схватила меня зубами, но, вероятно, от ее когтей на моем теле были глубокие ссадины, а рубашка висела клочьями. Я вспомнил своего проводника на Киргизском хребте Уразовского. Избегая встречи с овчаркой, которая издали мне казалась чуть крупнее барана, он пересек такое ущелье, где, по моим понятиям, невозможно было пройти человеку. Тогда я смеялся над ним, но теперь его выходка мне стала понятна. На эту лужайку я не приду ни за что, пока у темных деревьев арчи под седой осыпью будет стоять юрта.
И вдруг мне стало как-то особенно легко на сердце и весело. Я был счастлив, что и в трудную минуту не убил лучшего друга человека — собаку.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассказывая в этой книге о своей жизни, большую часть которой я провел с ружьем и записной книжкой, о жизни зверей и птиц на свободе и в неволе и о наших друзьях — собаках, я, конечно, делал это с известной целью. Мне хотелось привить юным читателям любовь к нашей замечательной стране, к нашей богатой природе, к животным.
Не скрою, для того чтобы написать эту книгу, я отрывал время от своей основной работы и, вторично переживая прошлое, иной раз просиживал над рукописью до поздней ночи.
Кончая книгу, я надеюсь, что она принесет пользу моей Родине, способствуя сохранению ее природы. Пусть мальчуган-подросток, прочтя мои простенькие рассказы о совке Тюке, о смешном Трушке и о собаках и продумав их, станет более серьезно относиться к животным и к своим поступкам по отношению к ним, пусть он научится заботливо и бережно относиться к природным богатствам своей страны.
