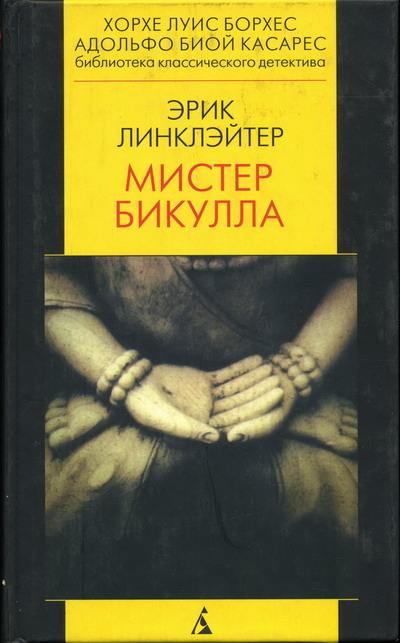
Эрик Линклэйтер
«Мистер Бикулла»
От издателя
Серия «Библиотека классического детектива „Седьмой круг“» — собрание лучших интеллектуальных, психологических детективов, написанных в Англии, США, Франции, Германии и других странах, — была составлена и опубликована за рубежом одним из самых известных писателей XX века — основателем чрезвычайно популярного ныне «магического реализма», автором психологических, фантастических, приключенческих и детективных новелл Хорхе Луисом Борхесом (1899–1986). Философ и интеллектуал, Борхес необыкновенно высоко ценил и всячески пропагандировал этот увлекательный жанр. В своем эссе «Детектив» он писал: «Современная литература тяготеет к хаосу… В наше хаотичное время существует жанр, стойко хранящий классические литературные ценности, — это детектив». Вместе со своим другом, известнейшим аргентинским писателем Адольфо Биой Касаресом, Борхес выбрал из безбрежного моря детективной литературы наиболее, на его взгляд, удачные вещи, и составил из них многотомную библиотеку, которая в течение без малого трех десятилетий выходила в Буэнос-Айресе. Среди ее авторов и знаменитые у нас писатели, и популярные писатели-криминалисты, которых знает весь мир, но еще не знают в России.
Борхес нашел разгадку истинной качественности и подлинной увлекательности детектива: роман должен быть интеллектуальным и фантастичным, то есть должен испытывать читателя на сообразительность и будоражить его воображение, а также делать читателя активным участником волнующих событий. Сам писатель так определял свой критерий: в настоящем детективе «…преступления раскрываются благодаря способности размышлять, а не из-за доносов предателей и промахов преступников».
Детективы из серии Борхеса — это тонкая игра ума и фантазии, оригинальная интрига и непредсказуемая развязка, вечные человеческие страсти: любовь и ненависть, предательство и жажда возмездия, но никакой пошлости, звериной жестокости и прочих эффектов бульварной литературы. Торжество разума и человечности — таково назначение детективного жанра, по Борхесу.
Мистер Бикулла
(роман)
Глава I
— Пожалуй, можно допустить, — говорил размеренно и четко доктор Лессинг, — что человек сохраняет свои так называемые внутриутробные воспоминания. Разум, как и тело, развивается постепенно. Никогда не наступает такой момент, когда бы мы смогли сказать: отныне существует сознание. Познавательные способности должны пройти в своем развитии начальную стадию, и есть смысл предположить, что еще незрелые, несформировавшиеся органы чувств способны воспринимать определенные ощущения, которые откладываются в нашей памяти и, как могилы доисторических предков, станут впоследствии будоражить наше воображение и, возможно, подогревать устремление взрослых людей к разгадке, к познанию неведомого. Вероятно, эти таинственные впечатления прошлого, окутанного мраком, который никогда полностью не развеется, будут беспокоить нас вновь и вновь.
Растянувшийся на кушетке мистер Бикулла приподнял руку. Его крупные пальцы, обезображенные желтыми плоскими ногтями, не могли не обращать на себя внимания. Прикрыв рот, он шумно зевнул. На мгновение левый уголок рта доктора Лессинга дрогнул: его губы исказились в почти комической гримасе, и несколько последующих фраз были произнесены с заметно более длинными паузами. Но дикция по-прежнему оставалась четкой. Он уже давно излечился от заикания, причинявшего ему мучительные страдания в юности. Все, что осталось от этого недуга — как шрам от старой раны, — это судорожное подергивание губ в минуты внезапного расстройства или смущения.
— Существует, — продолжал он, — определенное соотношение, точнее, обратное соотношение между реальными воспоминаниями взрослого и их воссозданием во сне. Я сам неоднократно убеждался в этом. Чем более примитивны и неопределенны первоначальные впечатления, тем более изощренны и детализированны рожденные ими фантазии. Чрезмерно изощренные и детализированные воспоминания, по-моему, указывают на то, что некоторые, если не все, компоненты сновидения берут начало в очень давних временах. Возможно, в эмбриональном периоде. Растущий эмбрион определенно испытывает ощущения скованности в движениях и может сохранить их на уровне так называемого клеточного сознания. Зародыш чувствует сдавленность, стесненность и затрудненность движения. Но затем воля дает о себе знать, и вполне естественно, что зародыш изо всех сил старается найти выход из своего тяжкого заточения.
— Моя мать, — сказал мистер Бикулла, — была очень крупной женщиной.
— Я не уверен, — смешался доктор Лессинг, — что физические кондиции родительницы здесь играют большую роль. Главное, чтобы устанавливалось взаимопонимание между плодом и матерью…
— Да, она была очень большая, — твердил свое мистер Бикулла с характерной интонацией уроженца Уэльса или жителя Индии. Он произносил некоторые слова так, что они взрывали речевой ритм. — Мать была неохватна, как винная бочка, и мне даже порой казалось, что внутри она пустая. Ребенком я думал, что она не могла бы передвигаться, если бы не была внутри полая. Иногда из нее исходили какие-то звуки — «бульк!» или «шлеп!», словно кто-то кидал камешки в полупустой бочонок с водой. Мне то и дело слышались отголоски молочных бидонов, катящихся по пустынной железнодорожной станции. Уверяю вас, это были поразительные звуки. При этом она всегда очень хорошо одевалась, хоть и старомодно. Она, например, носила черное атласное платье. А еще у нее были черные усики. Мне это очень не нравилось.
Сам мистер Бикулла был плотным, но не толстым. И хотя он лежал на короткой и узкой кушетке, казалось, ему на ней удобно: у него был вид человека, везде чувствующего себя как дома. Мистер Бикулла был одет в серый костюм в белую полоску, сшитый у дорогого портного, на нем были дорогие ботинки. У него были хорошие волосы — густая светлая шевелюра, отдельные рыжеватые пряди которой были тщательно уложены и приглажены маслом с легким запахом нарцисса. Человек с тонким чутьем мог уловить и в его дыхании слабый аромат какого-то алкогольного напитка.
Губы доктора Лессинга снова дрогнули, но его высокий голос не выдал никаких эмоций, когда он, набросав несколько строчек и просмотрев свои предыдущие записи, осведомился у пациента:
— Сколько вам было лет, когда умерла ваша мать? Пятнадцать?
— Пятнадцать лет и один месяц, — сказал мистер Бикулла. — Мы с отцом были потрясены ее смертью; отец, принимавший все близко к сердцу, впал в депрессию, из которой он так бы и не выбрался, если бы не нашел спасения во втором браке. Вам, безусловно, известно, что вздорная жена — лучшее средство от депрессии; это отвлекает от страданий. Отцу стало легче, как только он женился на состоятельной румынке из хорошей семьи. В то время мы жили в Салониках… Я же страдал всего три дня, даже впал в истерику. Но сразу же после похорон — этой нелепой церемонии — мне стало легко, как никогда прежде.
— Думаю, — сказал доктор Лессинг, сперва надо проанализировать ваши ранние воспоминания, а потом уже говорить о более поздних. Отрочество — очень важный период, и я вовсе не собираюсь им пренебрегать. Но давайте все по порядку. Вернемся к вашему сновидению. Эта фантазия заинтересовала меня своей запутанностью и сложностью, и если моя теория об обратном соотношении между простотой причины и сложностью следствия верна, то сновидение явно связано с каким-то впечатлением или событием вашего раннего детства. Записи, которые я сделал в прошлый вторник, достаточно подробны и, надеюсь, точны, но, возможно, я что-нибудь пропустил или вы что-то забыли, так что расскажите еще раз ваш сон… Часто повторяется это сновидение?
— Нет, — сказал мистер Бикулла, — я давно его не видел.
Доктор Лессинг взглянул на одну из исписанных аккуратным почерком страниц, лежавших перед ним, и сказал:
— Это сновидение часто повторялось в возрасте примерно от семи до пятнадцати лет. И, насколько вы помните, с тех пор как двадцать три года назад умерла ваша мать, вы видели его лишь трижды, причем последний раз — десять лет назад. Да, я думаю, мы можем расценивать этот сон как единственный в своем роде, а не как типичное явление. И еще припомните, всегда ли он начинался одинаково, и не менялось ли место действия — этот завод или фабрика?
— Я карабкаюсь по лестнице, — принялся рассказывать мистер Бикулла, — к люку, ведущему на последний этаж какого-то высокого здания с тяжелыми допотопными механизмами. Передо мной огромное железное колесо, его внешняя часть отполирована до блеска, но мне не видно, на чем оно держится и для чего служит. Вот я вижу замершие шкивы, болтающиеся без надобности приводные ремни и свисающую с потолка паутину. Сам потолок частично взломан, а на верхний этаж, где еще больше механизмов, ведет винтовая лестница. Пол подо мной довольно прочный, но некоторые доски источены червями, и везде валяются железки и обрывки веревок. Я оглядываюсь вокруг, но не вижу, где здесь можно спрятаться.
Этажом ниже перешептываются какие-то люди. Ходят они очень тихо, но я знаю, что они там, и они внушают мне страх. Не теряя самообладания, но с нарастающим беспокойством ищу укрытие, чувствую — времени остается все меньше, а затем совершенно случайно задеваю какой-то рычаг и пускаю в ход механизм. Едва не попадаю под приводной ремень, неожиданно начавший со скрипом и треском двигаться. Несмотря на весь этот шум и гам, я слышу ругань снизу.
Теперь мое настроение меняется. Я не хочу прятаться, я хочу бежать. Я должен бежать! И в тот момент, когда я уже близок к отчаянию, я замечаю нечто такое, чего раньше не видел: выход.
— Вы не помните, — спросил доктор Лессинг, — как он выглядел?
— Узкая дверца под стрельчатой аркой, — выпалил мистер Бикулла, — английский перпендикулярный стиль. Дверь висела на двух миниатюрных причудливых петлях, а на пазухе свода красовался четырехлистник.
— И вы разглядели все это и сумели определить стиль? Вы говорите, вам было семь лет?
— Сон повторялся до пятнадцатилетнего возраста, а к тому времени я, конечно, успел ознакомиться с основными архитектурными стилями. Конечно, мои родители были далеки от идеала, но отсутствием вкуса не страдали. Мой отец коллекционировал русские иконы, и у него был Пикассо «голубого» периода.
— Да, конечно, — сказал доктор Лессинг, — приношу свои извинения. Не у всех моих пациентов такой широкий кругозор. Продолжайте, пожалуйста. Вы открыли дверь, и что же вы там увидели?
— Короткий коридор со стенами кремового цвета, на которых в позолоченных рамках висели акварели с изображением тропических цветов. Коридор вел к крохотной комнатке, где стояли диван в стиле ампир и несколько атласных стульев в синюю и белую полоску. Далее следовала анфилада комнат. Встречались дверные проемы и украшения в мавританском или арабском стиле. За одной комнатой следовала другая, на манер сказок «Тысячи и одной ночи», и некоторые из них были воплощением безвкусицы. В одном помещении был мраморный фонтан, а в другом… Вы когда-нибудь были в Ватикане?
— Нет, — ответил доктор Лессинг.
— В Ватикане, — продолжал мистер Бикулла, — есть залы, выдержанные в очень строгом стиле. В одном конце — трон, в другом — распятие, и больше ничего. Я оказался в таком зале. Я стоял на холодном мозаичном полу, мой страх перерос в панику, и я разразился рыданиями. Мои преследователи подходили все ближе и ближе, двери, одна за другой, захлопывались за ними, а впереди меня подкарауливали другие. Я их еще не видел, но знал, как они выглядят. У них были длинные ноги, а их головы… Вы знаете, что такое упла?
— Боюсь, что нет.
— Жители Индии называют так большие лепешки из коровьего навоза, которые служат топливом. Я был в отчаянии, но неожиданно мне удалось ускользнуть от «уплаголовых»: справа от себя я заметил другую дверь, а за ней — еще одну. Но воздух становится все тяжелее, в комнатах царил полумрак и спали какие-то люди.
В одной из комнат со спертым воздухом спал старик, старый как мир, я знал, что он скоро умрет. В другой храпел толстый торговец рыбой, а рядом с ним — жена. В третьей хрипло дышали две старые девы, тощие и озлобленные. В четвертой — девушка с глазками как у свиньи, толстенная и пышная. Я очень боялся их разбудить и на цыпочках вышел на площадку, с которой вниз вела лестница с белыми крашеными перилами. Теперь я чувствовал себя лучше, потому что лестница привела меня в теплую светлую комнату, надежное убежище. Но слишком поздно! Со всех сторон с протяжным скрипом открываются двери, и я понимаю, что окружен. «Уплаголовые» вот-вот схватят меня, спящие вскакивают с кроватей и взывают к моей матери, а я теряю сознание!
— Обморок был глубоким? — спросил доктор Лессинг.
— Это было похоже на смерть, — сказал мистер Бикулла. — После пробуждения я долго не мог поверить, что еще жив.
В кабинете становилось душно, доктор Лессинг поднялся и открыл окно. Мистер Бикулла, по старинке носивший носовой платок в левом рукаве, за наручными часами на золотом браслете, вынул его и промокнул лоб и щеки. Он тяжело дышал, будто после подъема в гору.
Доктор Лессинг, вдохнув свежий воздух, сказал:
— Вы в превосходной физической форме. Результаты всех анализов удовлетворительны.
— У меня очень крепкий организм, — согласился мистер Бикулла.
— Вы темпераментный человек? Пьете много?
— Нет. Очень мало, рюмку бренди по вечерам. И очень люблю ликеры. А вот это тоже очень вкусно. Попробуйте.
Мистер Бикулла достал из кармана бумажный пакетик, в котором остались две или три шоколадные конфеты с ликером.
— Французские, просто восхитительные, — сказал он и достал из пакетика одну конфету.
Поколебавшись немного, доктор Лессинг взял предложенную конфету и положил на стол.
— Может быть, попозже, — сказал он и стал обсуждать распорядок дня своего пациента. Затем, снова взглянув в свои записи, доктор спросил: — А вы не страдаете от неуверенности в себе? Как вы вообще себя чувствуете?
— На все сто, — сказал мистер Бикулла. — Я в прекрасной форме. Вот только немного разволновался, когда пересказывал вам свой сон, но теперь это прошло. Мне никогда не было так хорошо, как сейчас.
— Тогда давайте распрощаемся до следующего вторника. Не буду больше вас задерживать.
— И я вас тоже, — отозвался мистер Бикулла, с вежливым поклоном вставая с кушетки.
Он был на пять-шесть дюймов выше доктора и, улыбнувшись, обнажил ряд прекрасных зубов. У него были правильные и крупные черты лица, и его внешность портили только нездоровый цвет и шершавость кожи и желтоватые крапинки в глазах.
Из сафьянового бумажника с золотыми инициалами он извлек сложенную пополам пятифунтовую купюру, распрямил ее на столе доктора и с улыбкой сказал:
— Вот вам счастливая купюра. Видите, какой на ней номер?
— О 13 575310,— прочитал Лессинг. — Значит, говорите, она приносит удачу? Тогда я пошлю ее сэру Симону. Я как раз должен ему пять фунтов, а он уже, наверное, позабыл, что такое удача.
— Это наиболее благоприятное сочетание цифр, — ответил мистер Бикулла, вынимая из кармана брюк две монетки по полкроны. — Давайте разыграем остальное.
— Знаете ли, — растерялся доктор Лессинг, — это не совсем обычно, я…
— Ваши пациенты тоже не вполне обычные. Так в чем же дело? — проговорил мистер Бикулла, подбрасывая монетку к потолку. — Орел или решка?
— Гм… Орел, — сказал Лессинг.
— Выпала решка, — ответил мистер Бикулла и положил монеты в карман. — До вторника, доктор.
Глава II
Клэр Лессинг обводила ярко-красным карандашом контуры своих тонких и бледных губ. Она стояла перед зеркалом в стареньком шерстяном халате, скрывавшем атласные трико и по-гречески дерзкий бюстгальтер — в нем ее маленькие тощие груди гордо торчали, придавая ей вид высокомерной жительницы Крита. Она провела помадой по губам и увеличила их в объеме: теперь — при плохом освещении и с некоторого расстояния — она будет выглядеть пикантнее. Уверенность в этом внутренне раскрепощала ее, помогала преодолеть природную робость. Правда, яркая помада не гармонировала с ее внешностью, но хотя ей самой не нравился этот узкий лоб и острый подбородок, еще более заострившийся с годами, она всегда любовалась своим римским профилем, увы, плохо сочетавшимся с красными губами.
Она повернула створку трельяжа так, чтобы увидеть себя в профиль, и черным карандашом подрисовала изгиб левой брови… А как украшала ее щегольская фуражка медсестры Добровольной вспомогательной части в те незабываемые годы войны, когда она с профессиональным спокойствием гнала по дорогам на своей санитарной машине и втайне наслаждалась восхищением офицеров, ехавших по долгу службы — рядом с ней или позади нее — в Колчестер и Нетли, в Бат и Шрусбери, Ливерпуль и Йорк. Ее служба в госпитале была ей приятна, к тому же она нередко позволяла себе маленькие шалости, доставлявшие ей огромное удовольствие. Она любила танцевать, зная, что многочисленные партнеры ждут своей очереди, обожала пить джин перед обедом и виски с содовой поздно вечером. Ей нравились робкие ухаживания старших офицеров, их небольшие подарки по праздникам, отчаянное желание молодых совратить ее, разочарование и унижение тех, кому это не удавалось. Впрочем, никому, кроме ее кузена Ронни Киллало, не посчастливилось добиться своего, а если она и шла на некоторые уступки мужчинам, то вовсе не из слабости, а лишь для того, чтобы, подав надежду, вдруг оставить их с носом. Такие игры придавали особую прелесть летним вечерам, а зимой помогали коротать время в холодных гостиницах.
На комоде стояли большие фотографии в серебряных рамках. На них красовались одетые по-военному Клэр и Джордж Лессинг. В мундире подполковника медицинского корпуса он выглядел просто нелепо. Она встала, сняла халат и, не глядя на фотографии, выдвинула один из ящиков. Подполковник Лессинг никогда не интересовал ее всерьез, но когда война, а вместе с ней и приятная служба в госпитале окончилась, Клэр назло судьбе согласилась выйти за него замуж. Она была зла на весь мир, отнявший у нее санитарный автомобиль и занятных пассажиров, и затаила обиду на самого Лессинга за то, что с 1940 года, с тех пор как началась вся эта вакханалия, ей никто, кроме него, не сделал предложения. Клэр не раз отказывала ему, ибо он нагнал на нее скуку на первом же свидании и ему так не шла военная форма, что она даже немного стеснялась появляться с ним в обществе. Но когда, к ее неудовольствию, воцарился мир, большинство ее самых многообещающих знакомств утратили былую значимость. В штатском ее ухажеры выглядели намного скромнее, и шансы Джорджа Лессинга возросли, тем более что его доходы не снизились. Он возобновил деятельность психоаналитика, как только у его потенциальных клиентов появилось время вспомнить о своих неврозах.
Закончив макияж, одевшись и надушившись, миссис Лессинг зашла на кухню за графином воды, взяла стаканы и бутылку джина из бара в гостиной. Она пила, нетерпеливо поглядывая на часы.
— Неужели твой пациент ушел только сейчас? — спросила она, когда наконец появился Лессинг с загадочным и одновременно лукавым выражением лица — ученый муж, понявший то, что доступно пониманию лишь психоаналитиков.
— Мне надо было кое-что записать, — ответил он. — Мой нынешний клиент — на редкость занятный субъект. Ты ведь, кажется, с ним не знакома? Я, пожалуй, приглашу его как-нибудь. Перед тем как уйти, он…
— Извини, Джордж, но сейчас у меня нет времени слушать тебя. Ты так задержался…
— Ты куда-то уходишь?
— Думаешь, я разоделась, чтобы остаться с тобой дома?
— Я не обратил внимания. Прости, думал о своем. Так куда ты идешь?
— Обедать с Ронни. Я говорила тебе в воскресенье.
— Но я же просил тебя отказаться от этой затеи.
— Видишь ли, на то нет никаких оснований, я решила все-таки пойти.
— Основание у меня как раз есть, и любой здравомыслящий человек сочтет его достаточно веским. А если ты…
— Ничего у тебя нет, кроме эгоизма и твоей извечной глупой ревности. Возможно, когда-то я давала тебе повод для этого, но только не сейчас.
— Дело вовсе не в ревности. Я берегу твою репутацию, а не свои нервы.
— Не будь таким дураком, Джордж. Ты рассуждаешь так, будто нынче тысяча девятьсот четырнадцатый год на дворе.
— Даже в тысяча девятьсот сорок девятом году люди, по крайней мере в этой стране, достаточно серьезно относятся к убийствам.
— Но Ронни не убийца! Есть неопровержимые доказательства, что в тот момент он был в Хайгейте!
— Он встречался с этой девушкой немного раньше в тот же вечер. Он был ее другом. А когда происходит убийство, страдают не только злодей и жертва. Тень падает на всех, кого это коснулось. Я не хочу, чтобы твое имя было замарано, и предпочел бы, чтобы ты прекратила все отношения со своим кузеном.
— Ты говоришь правду, Джордж? Ты действительно так считаешь или просто нашел новое оправдание твоей давней ревности к Ронни?
Лессинг колебался с ответом, его губы дрогнули.
— Я так считаю, — сказал он. — По-моему, я абсолютно откровенен с тобой. У меня есть серьезные причины на то, чтобы так говорить, и, даже если я предвзято отношусь к твоему родственнику, убийство есть убийство.
— Но Ронни же не убийца!
— Я только что тебе объяснил…
— Почему бы тебе сразу не признать, что ты хочешь одного — владеть мной, и душой и телом, заставить меня быть в твоем полном распоряжении с утра до вечера?
— Твои мысли бы прояснились, ты бы лучше понимала суть вещей, если бы избегала cliches…
— Пошел ты к черту, Джордж, не будь таким старомодным! Ты говоришь о понимании, но сам-то что понимаешь? Будь я твоим пациентом, ты бы мне посочувствовал, но я всего лишь твоя жена и потому слышу от тебя одни жалобы и нравоучения. Ты готов оскорбить меня подозрением по любому поводу! Ты думаешь, Ронни сейчас счастлив? Ты думаешь, что, если человеку не везет, нужно бежать от него, как от прокаженного? Он так одинок, у него нет никого, кроме отца, которому он не нужен! Его отцу вообще ни до чего нет дела, кроме как до книжного хлама в Британском музее! К тому же Ронни — мой кузен.
Сраженный тирадой, от которой звенело в ушах, Лессинг упал в глубокое кресло и закрыл глаза. Ее пронзительный голос, бесконечные повторения угнетали его, он чувствовал усталость. Подобные аргументы приходилось выслушивать не впервые. Своей настойчивостью, безграничным эгоизмом, легкомыслием и полнейшим безразличием к логике она повергала его в прах. Он не находил, что ей ответить.
— Раньше ты меня понимал, — продолжала она. — Кроме тебя, меня никто не понимал, за это я тебя и полюбила. За это, а еще за твою щедрость. Господи, до чего же скупы мужчины! Ни одной женщине не нужен скряга. Это знает каждая. Но к тебе это не относится. И если ты хочешь знать, именно потому я и сказала, что обедаю сегодня с Ронни. Он сейчас на мели, но я знала, что могу на тебя положиться. У тебя непростой характер, видит Бог, очень непростой, но ты не жадный и никогда таким не был. Когда ты в хорошем настроении и не страдаешь от переутомления или излишней подозрительности, ты прекрасно знаешь, что я тебе верна. Ты можешь верить мне, как самому себе.
— Я полагал, ты знаешь, — мрачно сказал он, — что мы и так живем не по средствам.
— Но это же временно. У тебя хорошая работа, и денежки идут. Все эти пациенты приходят каждую неделю и платят гинею за прием…
— Не все. Среди них есть и такие, кто вообще ничего не платит.
— Но остальные возмещают убытки. Ах, Джордж, ты сейчас так плохо выглядишь! На тебя жалко смотреть, когда ты не в настроении. Я тебе немного налью, чтобы ты приободрился.
Она взяла его стакан, плеснула туда горьковатой травяной настойки, долила джин и добавила воды.
— Сколько тебе нужно?
— Дай мне пять фунтов. Вряд ли я потрачу все, но на всякий случай надо иметь при себе побольше денег. Я верну тебе сдачу.
Сейчас ему хотелось только одного — поскорее избавиться от нее, не было ни малейшего желания спорить. Он достал из бумажника сложенную вдвое пятифунтовую купюру.
— Впрочем, нет, не эту, — сказал он. — Я дам тебе другую, почище. Эту я приберегу для Киллало-старшего.
— Ты ему должен?
— Я купил у него ту картину. Он как раз отдавал свою коллекцию «Сотбиз»[1] на продажу, чтобы собрать деньги на защиту твоему кузену.
— Сколько она стоила?
— Недорого.
— Ты потратил деньги на такую чепуху, а еще говоришь о моей расточительности!
— Но мне она нравится.
— Конечно, каждому свое, но, по-моему, она просто отвратительна. — Клэр наклонилась и подставила ему щеку для поцелуя. — Спасибо, Джордж. Я ненадолго, — сказала она, — ложись без меня, если притомишься. Я дала Клариссе порошок час назад — у нее разболелся зуб. Вряд ли она проснется до моего возвращения. Не скучай.
Он дождался, пока хлопнет входная дверь, а затем встал и взглянул на небольшое полотно, купленное у сэра Симона Киллало два дня назад.
Четко выписанная антилопа удивленно глядела из-за кустов в джунглях на сцену убийства. Узкая тропа под темнеющим небом, антилопа, пестрые цветы, желтый плащ и ярко-синий тюрбан жертвы придавали самому пейзажу очарование невинности, но широко раскрытый рот мертвеца, казалось, еще кричал перед лицом смерти, а свирепые убийцы в религиозном экстазе выглядели настоящими орудиями уничтожения.
— Кангрийская школа, конец восемнадцатого века, — пояснил сэр Симон. — Это был период непродолжительного подъема индийского искусства, совпавший по времени с возрождением секты тхагов.
Лессинг, не знакомый с искусством Индии, был потрясен этой красивой и вместе с тем полной смысла картиной. Художник не стремился ни осмеять, ни осудить двух тхагов, написанных так же искусно и выразительно, как и антилопа, и цветущие растения. Лишь в изображении убитого мастер дал выход своим чувствам и не смог скрыть презрения к мертвецу, о чем явно говорила нелепая поза последнего.
— Или я вижу то, чего нет на самом деле? — пробормотал Лессинг. — Может, это мое субъективное ви́дение?
Когда он вернулся к своему недопитому джину, его опять стали мучить сомнения. От природы Лессинг был добрым человеком и не мог подавить в себе доброту, объясняя ее своим малодушием. Он не умел пренебрегать интересами окружающих. После ссоры или перебранки с женой он всегда сокрушался о том, что расстроил ее, и перебирал в памяти свои приведенные в споре аргументы, пытаясь определить, справедливы ли они. Он с легкостью признавал, что ревновал или ревнует к Ронни Киллало, а сомнительная биография Ронни еще больше возбуждала его ревность. Но теперь произошло убийство, и Ронни причастен к нему, и потому к личным чувствам это не имеет никакого отношения: любой нормальный мужчина на его месте сказал бы то же самое. Но, возможно, многие абсолютно нормальные женщины заняли бы ту же позицию, что и Клэр. Стремление поддержать обаятельного и одинокого молодого человека обрело силу инстинкта, необходимость избегать его общества из-за и без того дурной, а теперь еще и запятнанной судом репутации юного джентльмена, стала для таких женщин не более чем социальным ограничением, не стоящим внимания. Отвергнутый обществом, Ронни превратился в их глазах в чужака или изгнанника, что, видимо, делало его еще более привлекательным.
— Женщины экзогамны,[2] — сказал Лессинг бутылке с джином. — И я ссорился с ней потому, что она женщина. Мы, люди одного племени, изобрели законы и ревностно относимся к их исполнению. Но если бы законы всегда исполнялись, племя бы выродилось. Женщины от природы не склонны к соблюдению закона. Так имею ли я право винить ее за то, что она такая?
Из соседней комнаты послышался капризный плач младенца, привыкшего подавать голос, чтобы привлечь к себе внимание. Плач становился громче, дошел до яростного крика, а затем вдруг прекратился, будто ребенок прислушивался, идут ли к нему… Затем приглушенное хныканье снова перешло в неистовый рев, который то стихал, то опять достигал апогея.
— С другой стороны, — произнес Лессинг, встав и направившись к двери, — возможно, я слишком снисходителен к ней. Наверное, она того не стоит.
Глава III
Клэр Лессинг и Ронни Киллало вышли из ресторана на Шарлот-стрит и в теплых сентябрьских сумерках побрели в западном направлении. К ее удивлению, он сам заплатил за обед, заплатил без всяких комментариев, без кривляний и усмешек, нередко означавших, что ей следует достать свой собственный кошелек. И теперь, когда она прошла рядом с ним с полмили, опираясь на его руку и слегка прижимаясь к нему плечом, он удивил ее еще раз, остановив проезжавшее мимо такси и дав водителю адрес своей квартиры в мансарде на Батавия-стрит, неподалеку от Ворвик-авеню.
— В последние годы ты не располагал такими средствами, — сказала она. — Едва ли у тебя могла появиться достойная работа.
— У меня нет работы, — ответил он, — но порой появляются неплохие идеи. Иногда мои собственные, иногда чужие. Эту мне подкинула одна из воскресных газет.
— Что за идея?
— Написать биографию Фанни Брюс, две тысячи слов.
— И ты написал?
— Конечно. Они предложили мне пятьдесят гиней. Возможно, это не так много, но все-таки больше, чем ничего.
— А тебе не приходило в голову, что писать подобные вещи бестактно?
— Но бедняжка мертва. Ей теперь уже все равно.
— И тебе это, видимо, тоже… Ведь ты не слишком скорбишь?
— Я не могу себе этого позволить.
— Есть люди, которые…
— Умолкни. Я не терплю критики в свой адрес.
— И ты это подпишешь? Своим именем?
— «Ронни Киллало. Лучший друг покойной».
— Боже мой, Ронни! Что скажет твой отец?!
— Он этого не увидит. В его клубе не читают подобных газет.
— Но если бы он…
— Ну и что? Его теперь ничто не трогает, в этом нет моей вины.
— Раньше тебе были свойственны человеческие чувства, Ронни…
— Только не к нему. Он дьявольски гордился двумя моими братьями, пока их не убили, а ко мне он всегда относился как к собаке, подобранной на улице. За что и был наказан. Теперь у него остался только я. Я и эта горластая интеллектуалка, на которой женился Эдуард, но ее он тоже терпеть не может. Она будет воспитывать его внуков без всякого уважения к прошлому, без благоговения перед старыми добрыми временами, когда он был счастлив. Отец не сможет ей этого простить, потому что не в силах смириться с тем, что его пора давно прошла. Ему шестьдесят три, но выглядит он на все семьдесят пять, — и все из-за своей гордыни и нежелания взглянуть правде в глаза. Впрочем, и мы сами моложе не становимся. Я уверен, что наши маленькие хитрости когда-нибудь выплывут наружу. Как у вас с Джорджем?
— По крайней мере, он мне верит, — нашлась она.
— Он из тех психоаналитиков, к которым я обратился бы, если бы мне понадобилась такого рода помощь. Я приветствую тех, кто верит в других… Здесь сверните налево и остановите у того светофора.
Когда она поднималась за ним по длинной неудобной лестнице, одна из ступенек последнего пролета скрипнула. Клэр зашла в ванную и подправила макияж. Из туалета донесся звук сливаемой воды, и минуту-другую она ждала в маленькой пыльной гостиной под покатым потолком, тихо возмущаясь беспорядком и грязью. Вскоре появился Ронни с бутылкой бренди в одной руке, двумя бутылками имбирного эля в другой и бокалами в карманах пальто.
— Как бы это ни называлось, — сказал он, — «Хеннесси», «Корвуазье», «Бисквит», «Дюбоше» или просто бурда, мне все равно нравится. Поздно вечером или завтра в десять утра этот напиток поможет мне достойно встретить удары судьбы, будь она трижды проклята! Похоже, ты не в духе, но это исправимо. Пей, Клэр, только не дегустируй, а пей как лошадь.
— Я не хочу, — сказала она.
— Вот так незадача. Почему же?
— Мне не нравится, что ты зарабатываешь статьями об этой девушке.
— Я написал только одну статью.
— Ты написал правду?
— До некоторой степени.
— А ты кому-нибудь рассказывал всю правду?
— Безусловно.
— И я хочу знать.
— Ты разве не читаешь газет?
— Читаю. Я читаю их уже много лет. И именно поэтому я прошу тебя рассказать мне все, как было.
— Я ее не убивал, если ты это имеешь в виду.
— Ну, хорошо. Скажи мне тогда, кто это сделал.
— Я и сам хотел бы знать. Я был почти влюблен в нее.
— В самом деле?
— Да.
— Какая она была?
— Всегда разная, — сказал он, и Клэр усмехнулась. — Да, я понимаю, — воскликнул он, — звучит странно, не так ли? Но это правда.
Ронни расположился в зеленом засаленном вельветовом кресле, которое под ним жалобно застонало. Он был привлекательным молодым человеком и стал бы еще привлекательнее, если бы следил за собой и вел более здоровый образ жизни. У него были правильные черты лица, в меру широкие плечи, длинные ноги, но при том давно не стриженные густые черные волосы. Складки у носа выглядели глубокими морщинами, а белые квадратные зубы чередовались с гнилыми и явно нуждались в лечении. Светло-карие зрачки поблескивали под отекшими веками, а пальцы были в табачных пятнах. Его костюм — двубортный пиджак и неглаженые брюки в узкую темно-синюю полоску — ничем не отличался от сотен других таких же лондонских костюмов, а ботинки давно уже требовали смены подметок.
— Я не хочу с тобой ссориться, — грустно сказала Клэр. — Ты знаешь, как я к тебе отношусь. Но ты должен рассказать мне о ней. И еще…
— Что?
— Не хочу возвращаться к прошлому, но мне не известно, как долго вы были знакомы и где ты с ней познакомился.
— Ты выпьешь?
— Пожалуй.
— Это случилось в феврале, — начал Ронни. — Какое-то время стояла хорошая погода, будто весна наступила раньше срока, ты помнишь. Она была в серой фланелевой юбке и белой вязаной кофте. Шапки на ней не было, и выглядела она лет на семнадцать. С ней была собака — эрдельтерьер, кажется. Она свернула к Берлингтон-гарденс со стороны Корн-стрит и сказала: «Не хотите ли вы подружиться со мной и моей собакой?» Конечно, это была только видимость, но она выглядела чертовски юной. Она действительно была молода! Ее приспособили к делу не более двух-трех месяцев назад.
— А потом?
— Я пошел с ней, и через несколько дней мы снова встретились. Это была моя ошибка. Встречи вошли в привычку, и она в меня влюбилась. Как я сказал, она была молода.
— Ты ее везде водил, а я тем временем платила за тебя!
— Ну, ты знаешь, как это бывает, черт побери!
— Да уж… черт побери. Что же случилось дальше?
— У нее возникли неприятности с теми, кому она подчинялась. Ведь они не свободны, эти девушки. Им приобретают приличные квартиры и модную одежду, а весь свой заработок они сдают и получают определенный процент, весьма небольшой. Она стала вздорить с клиентами и заявила, что не может больше так работать.
— Почему?
— Она хотела, чтобы я забрал ее оттуда. Обычное дело. Она влюбилась в меня, а я… ну что я мог поделать? У меня совсем не было денег, у меня никогда их не было. Я себя-то не мог содержать, а уж ее тем более. Но как-то вечером — это был последний вечер — мы с ней встретились, и она сказала, что утопится, если я ей не помогу. Я чертовски разволновался, но за день до этого я как раз выиграл одиннадцать фунтов в Харрингее и дал ей половину того, что у меня было, а также хороший совет. Я порекомендовал ей в ближайшие две недели работать как можно больше и не отдавать выручку тем, кому она подчинялась. Я сказал, что если у нее будет семьдесят или восемьдесят фунтов, то отвезу ее на юг Франции, и мы сможем зарабатывать на американских туристах… Только, Клэр, это между нами. Мы сидели в небольшом кафе в конце Болтон-стрит — в бар мы не пошли, она ведь не пила — и разговаривали до половины одиннадцатого или до одиннадцати…
— До одиннадцати?
— Что-то вроде того.
— Но на суде ты сказал, что расстался с ней в девять!
— Ну, я встретил приятеля, с которым познакомился в Каире, журналиста, и он отвел меня в Хайгейт. Мы с ним опрокинули пару рюмок. А так как дело могло для меня обернуться плохо, он согласился подтвердить, что мы встретились с ним в половине десятого и провели вместе остаток вечера.
— Неужели на свете не осталось ни одного честного человека?
— Таких мало, — сказал Ронни, — среди наших знакомых их нет.
— Не говори за других, — ответила Клэр.
— Самое время налить тебе еще виски, ты не считаешь?
— Не знаю. Пожалуй, я откажусь. Мне пора.
— Нет, еще рано.
— Я не останусь, если ты не поклянешься мне, что она была жива, когда ты с ней расстался…
— В этом нет необходимости. Я сказал тебе правду.
— И ты больше ее не видел? Она вправду была жива?
— Она была в полном порядке. Спрятала в чулок пять фунтов, которые я ей дал, высморкалась и сказала: «Смерть француженкам!» Сейчас развелось много бельгийских проституток, которые выдают себя за француженок, и, по ее словам, они зарабатывают лучше других. Согласившись с моим планом, она была готова на все, чтобы заработать побольше. А потом я ушел.
— В одиннадцать?
— Незадолго до одиннадцати.
— А через час полицейский обнаружил ее тело на той улице или в переулке, всего в нескольких ярдах оттуда, к северу от Баркли-сквер…
— Джонс-стрит.
— Со сломанной шеей.
— Вряд ли она долго мучилась. Смерть была мгновенна, кто бы это ни сделал.
— А где была ее собака, эрдельтерьер?
— Ей пришлось от него избавиться. Пес громко лаял, и какому-то клиенту не понравилось.
— Пес мог спасти ей жизнь. У меня когда-то был фокстерьер, он никого ко мне близко не подпускал.
— Будь у тебя ее профессия, с такой собакой ты бы карьеру не сделала.
— Не стоит шутить по этому поводу. Нехорошо.
— Ладно, хватит об этом, давай лучше выпьем. Где твой бокал? Когда еще у меня дома будет такая выпивка!
— Нет, я больше не хочу. Мне пора.
— Никуда ты не уйдешь. По крайней мере, сейчас.
— Я хочу домой, Ронни.
— Нет, ты хочешь того же, что и я, и не делай вид, будто это не так. Дай мне свой бокал. Мы не можем всегда быть честными, особенно в таких случаях, как этот, и давай сделаем все, что в наших силах, чтобы быть честными хотя бы друг с другом. К тому же не стоит изменять старым привычкам.
Глава IV
— Для чего я живу? — переспросил сэр Симон. — Что ж, раз вы прямо ставите этот вопрос, то мне придется на него ответить: жить мне, в общем-то, незачем. Я еще не разучился наслаждаться хорошим кофе, если бывает такая возможность; по утрам мне нравится ощущение свежести после бритья; я с удовольствием говорю об Индии с терпеливым и сколько-нибудь осведомленным собеседником и так далее. В мире существует множество приятных мелочей, и я полагаю, что все вместе они дают мне повод или хотя бы импульс, чтобы жить изо дня в день. Но я понимаю, что в моей жизни больше нет никакой конкретной цели и, возможно, — смысла.
— Вам явно не по вкусу прозябание в этой гостинице, — заметил мистер Бикулла, глядя на исцарапанный шкаф в викторианском стиле, выцветший зеленый ковер, умывальник, кровать, покрытую стеганым одеялом из искусственного шелка.
— Вероятно, я слишком избалован. С детства привык к большим комнатам и к тому, что их много. Но когда начинал служить, жил в очень скромных, даже суровых условиях, и меня это нисколько не смущало. Мне было не до этого, к тому же молодые люди не придают большого значения роскоши; по крайней мере, так было в мое время. Позже я, разумеется, стал жить на широкую ногу и даже, пожалуй, шикарно. И переход от той жизни к этой, переезд из Индии, где еще живы старые британские традиции, в дешевую гостиницу в нынешнем пуританском духе был для меня очень болезненным. Нет, мне решительно не нравится жить в аскезе на просторах Кенсингтона.
— Мне тоже здесь не очень нравится, — сказал мистер Бикулла, — но я примирился с этим бытом, чтобы позволять себе другие удовольствия, — иначе у меня не хватило бы на них средств. Я всегда неохотно отказывал себе в наслаждении, а вот без комфорта я вполне могу обойтись. Я легко приспособился к жизни в «Бовуар Приват Отеле», потому что, в отличие от вас, не привык к роскоши и не могу шутить и иронизировать по этому поводу.
В шатком плетеном кресле мистер Бикулла казался более громоздким, чем был на самом деле; удивительно, как он вообще мог в этом креслице уместиться. Но и у себя, и в комнате сэра Симона он всегда уступал большое кресло своему почтенному собеседнику; в одной комнате кресло было кожаное, обтрепанное, в другой — обитое ситцем с цветастым узором, и постоянные перемещения своего шаткого кресла из комнаты в комнату не причиняли мистеру Бикулле особых неудобств. Как кавалерийский офицер, он всегда был в седле и, по обыкновению, держался прямо.
Они были знакомы около двух месяцев, и дружба их постепенно крепла. В читальном зале Британского музея, куда время от времени заходил мистер Бикулла, его внимание однажды привлек пожилой человек с изысканными манерами, который со смирением обычного школяра еле тащил дюжину огромных ветхих и потрепанных томов. Он был высок и седоволос, лицо цвета слоновой кости выражало то терпение, какое иногда скрывает аристократическое высокомерие, — терпение человека, многие годы судившего других и повелевавшего всеми, бесчисленное число раз видевшего преступные и безрассудные поступки людей и прекрасно знавшего, чего можно ожидать от человечества. И вот теперь он, непривыкший к физическим нагрузкам, с великим трудом нес свои книги. Ныне терпимость властелина свелась к усердию скромного ученика. Этого человека, думал мистер Бикулла, заинтригованный увиденным и продолжавший размышлять, в свое время, наверное, охраняли гвардейцы на черных лошадях, ему, вполне возможно, внимали толпы и судьи, а теперь он, как мастеровой, несет кипу пропыленных книг, кирпичи, из которых еще не выстроилось здание…
Две книги, а затем еще одна упали на пол и раскрылись. Мистер Бикулла наклонился, чтобы поднять, и незнакомец пробормотал слова благодарности. Мистер Бикулла с любопытством посмотрел на заглавия этих томов, а примерно через час сумел мимоходом заглянуть в школьную тетрадь, где делал записи этот джентльмен. Из того, что там было написано, он понял больше, чем можно было ожидать:
Тхори.
Происхождение Раджпута — традиционное. Результаты переписи населения княжества Марвар (1891) не убедительны.
Кайкады.
Каматхи: мужчины плетут корзины, женщины занимаются проституцией.
Бхамты: воры-карманники.
Что сближает кайкадов и колхатов? — И те и другие занимаются разведением ослов. Колхатским девушкам предоставляется выбор: замужество или акробатика + проституция.
Поклонение Махадеве[3] и воинственным марутам,[4] но их идолы — «барабан, канат и вбитый столб».
Манги.
Среди сарнайков самый высокий уровень преступности. Вдовы выходят замуж повторно в безлунную ночь. Колдуны, умельцы плести веревки и палачи (Post hoc, ergo proper hoc?).[5]
Все наследственные грабители, кроме дакалваров. Софачи занимаются разведением собак. Менестрели и поэты, воспевающие мангов…
— Вас это интересует? — спросил пожилой джентльмен, бесшумно вернувшийся на свое место.
— Приношу вам свои извинения, — сказал мистер Бикулла, смутившись от неожиданности. — Да, меня это интересует, что нисколько не умаляет моей вины…
— Напротив, это почти комплимент. Вам незачем извиняться.
Тем не менее мистер Бикулла ждал около получаса, пока незнакомец не закончил своих занятий и не направился к выходу; догнав того, он еще раз попросил прощения за свою бестактность. Мистер Бикулла объяснил, что тоже очень интересуется Индией, особенно низшими кастами и беднейшими из их представителей.
— Моя прабабушка по материнской линии, — сказал он, — была девадаси, танцовщицей-проституткой в храме Тричинополи. Мой прадед, служащий Ост-Индской компании, похитил ее.
— У вас имеются доказательства?
— Я могу показать вам семейные документы, — с легким поклоном ответил взволнованный мистер Бикулла. Он протянул вперед свои большие руки и склонил голову с медно-желтой шевелюрой и сразу стал похож на огромную ожившую статую, стоящую у входа в Британский музей. — О своих предках я знаю не мало, среди них были индусы в разных поколениях.
— Хорошо, — сказал его собеседник, все еще колеблясь. — Завтра я опять приду в читальный зал.
— Очень любезно с вашей стороны, — отозвался мистер Бикулла, — я тоже там буду, и, если это представляет для вас интерес, я принесу семейные реликвии. Могу я узнать ваше имя?
— Киллало…
Через десять дней мистер Бикулла снял комнату в «Бовуар Приват Отеле», где сэр Симон Киллало, кавалер ордена Индийской империи и «Звезды Индии», провел уже несколько месяцев в тягостном одиночестве, давно ставшем его естественным образом жизни. Империя, которой он служил, больше не существовала, и, казалось, только седовласое меньшинство населения жалело о ее развале. Без особых переживаний, не оборачиваясь назад, англичане распрощались с былым могуществом, как всегда, безразличные не только к своим завоеваниям, но и ко всему содеянному в прошлом и неудавшемуся в настоящем. Сэр Симон, испытавший попервоначалу множество душевных мук, убедился в их бесплодности, а также в относительности понятия «возраст»: он выглядел старше своих лет, ибо пережил собственную эпоху. Он остался в живых, но подобные ему, словно жертвы кораблекрушения, выброшены на необитаемые острова. Он пережил даже тех, кто носил его фамилию: жена умерла много лет назад, а война отняла у него двух старших сыновей: один погиб в Керене, а другой — в море неподалеку от Матапана. Остался только младший — полное ничтожество, незаживающая рана сэра Симона — да внучки — две девочки, чья мать была излишне современна и поверхностна, чтобы служить ему утешением. Эта странная дружба с мистером Бикуллой, как ему иногда думалось, скрашивала его безрадостную жизнь.
Изучение родословной мистера Бикуллы, предмета нескрываемой гордости последнего, стало основным увлечением сэра Симона. Прабабушка, девадаси в Тричинополи (ее принадлежность к женщинам этой профессии была доказана), родила от укравшего ее служащего Ост-Индской компании и с его помощью воспитала юношу по имени Деверо, будущего машиниста Великой индийской железной дороги, который, в свою очередь, женился на ирландке, вдове сержанта легкой горной пехоты, и неслыханно преуспел благодаря своему ростовщическому таланту, после чего покинул железную дорогу и приобрел плантацию индиго в Бенгалии. Его единственный ребенок — дочь, воспитанная в монастыре, — стала матерью мистера Бикуллы.
Таковы его предки по женской линии. Родословная отца восходит к купцу из общины Марвари, уроженцу Джайсалмера, в поисках фортуны приехавшего в Сингапур и какое-то время жившего там с армянкой, дочерью торговца коврами. После того как муж ее покинул, она стала сдавать меблированные комнаты, а позже открыла небольшой ресторан. Их дочь — ее и купца — выросла настоящей красавицей и завоевала сердце мистера Маккиллопа, судового инженера из Говена, что на реке Клайд. Маккиллопы-младшие, семь энергичных и предприимчивых молодых людей, разъехались чуть ли не по всему свету, от Александрии до Манилы, и один из них, отец мистера Бикуллы, поселился в Бейруте, где скопил значительное состояние, импортируя различные товары. Приехав по делам в Калькутту, он встретил и взял в жены дочь плантатора из Бенгалии… Их единственным оставшимся в живых отпрыском стал мистер Бикулла, чьи две сестры умерли в младенчестве.
— Значит, ваше настоящее имя Маккиллоп, — заметил сэр Симон, услышав обо всех этих необычных предках. — Почему же вы называете себя мистером Бикуллой?
— Чтобы постоянно, каждый день напоминать себе о тщетности человеческих желаний. Но такое объяснение, наверное, только собьет вас с толку. Позвольте мне рассказать вам о несбывшемся желании моего несчастного отца. Он был крайне честолюбив и стремился во всем отличаться от других. Преуспевал в делах, однако время от времени поддавался религиозному психозу. Он принимал то одну, то другую веру исключительно для того, чтобы узнать, в чем ее суть, чем вызывал крайнее недовольство моей матери, убежденной католички. Мой отец отличался еще и немалым снобизмом. Приехав в Бомбей для расширения деловых контактов, он поставил себе цель стать членом самого престижного и элитарного заведения — «Бикулла-клуба». Он предпринял все возможное, чтобы вступить туда. Раздавал крупные суммы денег на благотворительность, больницам, в государственный фонд во время кризиса и т. д. и т. п. Затем он написал секретарю клуба письмо с обещанием построить на свои деньги самый современный и оснащенный по последнему слову техники бассейн для клуба, если станет членом этого клуба.
— Бедняга, — сказал сэр Симон. — Он получил ответ?
— Секретарь клуба ответил гробовым молчанием. Но когда отец пожаловался на невнимание, его безжалостно осмеяли, и он, оскорбленный в своих лучших чувствах, горько пожалел о средствах, пожертвованных больницам и фондам. Он не смог забыть об этой жестокой несправедливости и к концу жизни разочаровался во всем на свете. Но умер отец все же в Бейруте. В Бомбее он провел недолгое время.
— Печальная история, — заметил сэр Симон, — вы, должно быть, тоже разделяли его чувства, если взяли себе такое имя.
— Вовсе нет, — сказал мистер Бикулла. — Во время войны меня впутали в одно щекотливое дельце, и я решил, что не лишним будет взять псевдоним.
— Что вы делали?
— Я был тайным агентом. Зарабатывал немного, зато мне доверяли и меня ценили. Благодаря тому, что моя юность прошла в Бейруте, у меня было много преимуществ. В Бейруте мальчик может получить лучшее образование, чем в Англии, где его воспитанием начинают заниматься слишком поздно. Я говорил на нескольких языках и уже имел некоторый жизненный опыт. Вначале я служил в Анкаре, потом в Констанце, в Бухаресте, в местечках типа Дедигача и Плевны и немного в Граце. Но прежде чем взяться за работу, я решил назваться мистером Бикулла. Это имя должно было ежедневно напоминать мне, что не стоит повторять отцовских ошибок и становиться рабом честолюбия, губительного для тайного агента.
В своем одиночестве сэр Симон счел мистера Бикуллу весьма интересным собеседником и даже попросил у него копию его экзотического семейного древа, а когда узнал, что мистер Бикулла обладает обширными, хотя и несистематизированными сведениями об индийских преступных группировках, их случайное знакомство переросло в дружбу. Изучению запрещенных и полулегальных каст и сект Индии сэр Симон посвящал весь свой досуг и все еще надеялся дописать книгу, над которой давно работал, и доказать, что эти слои представляли собой важную и неотъемлемую часть общества древней Индии. Обсуждение с мистером Бикуллой, к примеру, свадебной церемонии ламанов, среди которых немало воров-профессионалов, и сравнение этого ритуала с брахманистской практикой доставляло ему истинное удовольствие. Вскоре после того как мистер Бикулла переехал в «Бовуар Приват Отель», у них появилась привычка удаляться после обеда в одну из их комнат, варить там кофе и выпивать по паре рюмок бренди. У сэра Симона был миниатюрный деревянный ларчик черного дерева с медной инкрустацией, в котором хранились три графина и шесть хрустальных рюмок; в восемнадцатом веке такие полезные сундучки нередко возили с собой капитаны морских судов. Эта вещица так восхитила мистера Бикуллу, что он обошел все антикварные лавки, пока не отыскал нечто подобное. Теперь он мог угощать сэра Симона на своей территории.
Именно сэр Симон посоветовал мистеру Бикулле проконсультироваться с доктором Лессингом, когда тот пожаловался на дурные сновидения.
— Сам я ничего не смыслю в психоанализе, — сказал он, — но сейчас к психоаналитикам ходят все, и, пожалуй, они не принесут вреда, если у вас есть голова на плечах и вы не слепо им доверяете. Я познакомился с доктором Лессингом, когда он женился на родственнице моей супруги, и встречаю его время от времени. Думаю, он слишком эмоционален, но и я, наверное, не смог бы обуздать эмоции, если бы связал свою жизнь с такой женщиной. Он немного рассеян, но определенно умен и, надо сказать, честен. Как бы то ни было, кроме психоаналитиков, никого всерьез не интересуют наши сны.
Мистер Бикулла побывал на приеме у доктора Лессинга и по непонятным причинам вернулся оттуда очень довольный своим новым знакомством.
— Вы были правы, когда сказали, что доктор слишком эмоционален. У него масса поводов для волнений. По-моему, он никогда не был счастлив, но сейчас он просто несчастный человек, потому что прочитал слишком много книг, но так и не насытился чтивом.
Увлечение Индией, землей, несравнимой с богатым и грязным континентом, который был их общей родиной, сближало их. Индия стала надежной основой их дружбы, знание ее культов и храмов, правителей и аскетов, быта цыган, ростовщиков, тхагов, пребывающих в божественном опьянении, и самих богов — в том числе вечно танцующей в экстазе Кали,[6] и Ганеша[7] с маленькими глазками — связало их паутиной тонких, но прочных нитей.
Заходящее солнце Индии, вопреки всем ожиданиям, так сплотило их, что мистер Бикулла, не боясь обидеть своего благородного собеседника, позволил себе задать ему такой вопрос:
— Для чего вы живете — вы, сэр Симон, при нынешних-то обстоятельствах?
Глава V
Состоятельная вдова, опечаленная бессмысленностью своего существования, лежа на кушетке в кабинете доктора Лессинга, сначала поведала ему о сходной природе своих переживаний по поводу смерти мужа и страданий после гибели своего силхемтерьера, а затем с убитым видом призналась в своей неразделенной страсти к парикмахеру средних лет из Стритэма. Доктор Лессинг терпеливо выслушал ее и устало распрощался с пациенткой. От переутомления у него пульсировало в висках.
Лессинг открыл окно и сделал глоток холодного искрящегося воздуха. Утром были первые осенние заморозки, и красное солнце выглянуло из-за горизонта в дымке. А позже, днем, неподвижный воздух позолотился слабым сиянием солнца. Оконные стекла заискрились цветом опавших листьев. Осенние дары природы доставляют тому, кто способен их оценить, больше удовольствия, чем буйное великолепие весны, думал он. Весна-переросток обманывает наши ожидания: разгулявшись, она становится вульгарной. Октябрь же никогда долго не держится и не раздает никаких обещаний, он радушно одаривает нас своими богатствами, высокие деревья кланяются на прощание, а проливные дожди обрушиваются на мертвые поля, чтобы омыть их перед зимней траурной церемонией. Но думать о зиме еще рано и неблагодарно по отношению к щедрой на дары осени. Впереди у доктора был целый час свободного времени, и дома никого сейчас нет, кроме австрийки-служанки; Клэр обещала повести ребенка на прогулку…
Он открыл дверь в гостиную и увидел расположившуюся на диване Клэр. Туфли валялись там, куда она их бросила, на полу рядом с кроватью. Подложив под спину пару подушек, она читала библиотечную книжку, американский полицейский роман.
— Привет, — сказала она. — Много денег сегодня заработал?
— Ты вроде бы собиралась отвести Клариссу в парк, — ответил Лессинг.
— Да, я хотела, но она закапризничала, и я уложила ее в постель.
— Но в такую хорошую погоду…
— Ты видел ее за обедом и прекрасно знаешь, что, когда она в таком настроении, ничего с ней не поделаешь.
— Она плохо ела, но это потому, что ты накормила ее шоколадом за час до обеда.
— Значит, опять я виновата?
— Ты должна отвечать за свои поступки, только и всего. Но дело не в этом, а в том, что в такой прекрасный день Клариссе не повредила бы прогулка в парке.
— По-твоему, я должна была насильно тащить ее туда, как бы она ни упиралась и ни хныкала?
— Она вполне… У нее ничего не болит? Ей, может быть, хотелось спать?
— Я дала ей успокоительное.
— Так проще, да? Кому же нужно лекарство, пациенту или няне?
— Я же говорю, ребенок плакал…
— Это, прежде всего, потому, что ты не подчиняешься моим простым правилам.
— Неужели ты всерьез думаешь, что я буду жить по твоим законам и правилам? Ты что, решил расписать мою жизнь по пунктам, как тебе заблагорассудится? И думаешь, я подчинюсь и буду жить по твоим командам? В таком случае я поищу себе другого психоаналитика!
Щеки Лессинга побледнели, губы и подбородок задрожали, но он сдержался, хотя Клэр уже почти кричала на него, стоя на полу в одних чулках. Он сказал дрогнувшим голосом:
— Если ты не понимаешь, что нельзя, ни в коем случае нельзя пичкать ребенка наркотиками, то твою жизнь просто нужно подчинить правилам.
— Ради Бога, не говори глупостей и не устраивай сцен! Я не пичкала ребенка наркотиками! Я дала ей успокоительное, только и всего.
— Успокоительное, которое содержит хлоралгидрат, — его, между прочим, британская фармакопея[8] признала наркотиком.
— Я не знаю и не хочу знать ничего об этой британской… как ее там… Достаточно того, что мне известно о тебе: ты всю свою жизнь занимаешься тем, что делаешь из мухи слона, и готов подвергнуть критике все, что не выудил из книг. Я сыта по горло твоим нытьем.
— А тебе никогда не приходило в голову, что я могу быть прав?
— Не приходило, потому что я знаю, отчего ты ноешь!
— Не надо, Клэр! Неужели ты в самом деле считаешь, будто все, что я говорю, — предвзятые суждения, направленные против тебя, и все мои доводы — это аргументы ad hominem?[9]
— Иди к черту, Джордж! Ты на своем-то родном английском языке мудрено выражаешься, а когда переходишь на латынь… о, пошел ты к черту!
В ее голосе было столько ненависти, будто она хотела выплеснуть на него весь свой гнев. Раздражение Лессинга, слабое, как плохой пловец в разбушевавшемся море, уступило место отчаянию, и он с позором покинул поле битвы.
— Это не так далеко, как тебе кажется, — сказал он и некоторое время наблюдал за Клэр. Она вернулась на свой диван, поправила подушки, пригладила волосы и опять раскрыла книжку и, все еще задыхаясь от злости, постаралась принять холодный и безразличный вид.
Он вернулся в свой кабинет и закрыл окно, потому что на улице похолодало. Становится все хуже, думал он, хотя и не сразу, постепенно. Так не может продолжаться до бесконечности, но это надолго. Я не знаю, куда деваться, и даже если бы знал…
Склонив голову и ссутулив плечи, он метался по комнате, пока неожиданное решение не привело его к письменному столу. Лессинг сел и нервными дрожащими пальцами открыл свой внушительных размеров дневник. Препарат, сказал он себе, не внесен в список британской фармакопеи, а между тем это сильнейший наркотик, который, к несчастью вызывает привыкание. Он достал массивный отрывной блокнот в черном переплете и стал искать последние записи о мистере Бикулле. Блокнот сразу открылся на нужном месте, и Лессинг увидел конверт, на котором он сам написал адрес сэра Симона Киллало, после того как мистер Бикулла ушел, а Клэр отправилась в ресторан. В конверте лежала пятифунтовая купюра, каковой он собирался расплатиться за картину с изображением тхагов и их жертвы; он забыл отправить это письмо.
От собственной беспечности его бросило в жар — что мог о нем подумать сэр Симон? Вскрыв конверт, Лессинг поспешно набросал записку с извинением, наклеил марку на новый конверт и уже собирался отправить письмо, когда служанка доложила о появлении очередного пациента. Мистер Бикулла, уверенный в том, что он желанный гость, бодро вошел в кабинет.
— Вот мы и встретились снова! — с улыбкой воскликнул он. — Как я ждал этого момента! У меня для вас есть кое-что интересное. Как вы поживаете, доктор Лессинг? Надеюсь, у вас все в порядке?
С усталой улыбкой Лессинг небрежно протянул ему руку. Мистер Бикулла ответил рукопожатием и, слегка наклонившись, с дружеским участием заглянул в лицо доктору. В его голосе появились сочувственные нотки.
— О, — протянул он, сложив губы трубочкой, — вы устали! Вы слишком много трудитесь, много волнуетесь. Вам нужен отдых!
— Не стоит об этом, — сказал Лессинг, — здесь пациент вы, а не я. Мне разрешено волноваться, если так хочется.
— Но вы явно злоупотребляете этим, — настаивал на своем мистер Бикулла. Отойдя на пару шагов назад, он окинул доктора Лессинга критическим взглядом, будто оценивал лошадь на скачках. — Вы мучаете себя.
— В конце концов, это мое дело, — вспылил Лессинг. — Британский медицинский совет пока еще не внес личное счастье в число обязательных достижений профессионала, и далеко не все врачи могут им похвастаться. Возможно, я неправильно распоряжаюсь своей жизнью, но обязан быть полезен другим.
— Да, конечно, — сказал мистер Бикулла, — я это прекрасно знаю и понимаю вас. Простите меня. Я не хотел вас обидеть, напротив…
— Очень любезно с вашей стороны, — ответил доктор Лессинг и немного помолчал, после чего продолжил с напускной бодростью: — А теперь самое время поговорить о вас и о ваших проблемах. Должен заметить, они не подорвали ваше здоровье. Да и выглядите вы превосходно. Вам все еще снятся кошмары?
— Почти неделю они меня не мучили. Но в ночь на субботу мне все же приснился дурной сон, а в воскресенье я видел еще более страшный сон. Сегодня ночью я вообще проснулся в холодном поту. Но вместе с тем это было очень интересное сновидение. Вы согласитесь со мной, когда услышите. Но давайте все по порядку, сначала — первый сон.
Мистер Бикулла сел на край кушетки, уперев локти в колени и соединив пальцы рук. Он был настроен на серьезный лад, его голос звучал приглушенно.
— Мое сновидение началось с того, — сказал он, — что я вошел в лифт. Это был маленький лифт, где могли разместиться два человека, не более. Я закрываю внешнюю дверь, потом внутреннюю, стальную. Щелк! — вот я и в кабине. Пока еще горит свет. Нажимаю на кнопку третьего этажа, а всего их в здании пять. Лифт медленно, очень медленно поднимается, останавливается между вторым и третьим этажами. Какое-то время я спокоен. Но не надолго. Вот в кабине гаснет свет, и я начинаю звать на помощь. Но успеваю крикнуть лишь раз, ибо лифт опять приходит в движение, и мне становится стыдно за себя. В кабине все еще темно, но на этаже горит свет, и я уже приготовился покинуть кабину. Но лифт не останавливается! Он проезжает мимо третьего этажа, мимо четвертого, и снова делается темно, теперь я кричу, не помня себя от страха, и налегаю на стальную дверь. Мне очень страшно. На пятом этаже…
— Вы проснулись? — спросил Лессинг, потому что мистер Бикулла заколебался.
— В здании было пять этажей, — сказал мистер Бикулла, — но на пятом лифт тоже не остановился и проехал мимо каких-то освещенных этажей, и вдруг стало темно. Он двигался быстрее, так быстро, что я не успевал перевести дух. Я стонал и задыхался, как утопающий в море, только морем была темнота, окутавшая весь мир! А потом я внезапно почувствовал себя пристыженным ребенком, спрятавшимся в углу, — я услышал: тук-тук. В дверь стучали. Я кричал так громко, что кто-то пришел узнать, все ли в порядке. Кто-то подошел к моей двери.
— На самом деле? — спросил Лессинг. — Или это вам тоже приснилось?
— Достаточно одного кошмара, доктор Лессинг. В дверь действительно стучали. Я разбудил даму из соседней комнаты, и она была сильно напугана. Должен вам сказать, я чувствовал себя крайне неловко, когда объяснял ей, почему издавал такие странные звуки. Но в ночь на воскресенье, когда я увидел второй кошмарный сон, я не издавал никаких звуков. Я контролировал себя, потому что не спал, когда все это случилось.
— Вы не спали и видели сон? Как это понять?
— Я проснулся в тот самый момент, когда началось сновидение. Проснулся и не знал, где я нахожусь! Ощущения были очень странные, я не мог найти шнур, чтобы включить свет. Я рвался из комнаты наружу, но дверь была загорожена какой-то громоздкой мебелью. Я знал, что, если не выберусь, случится несчастье; кто-то очень потрудился, чтобы я не смог выйти. Но я сумел очень осторожно отодвинуть мебель от двери. И тут новое разочарование! За дверью оказалась сплошная стена! Я был поражен, но сохранял спокойствие духа и стал двигаться вдоль стены. Вскоре моя рука нащупала какое-то отверстие, туда и провалилась. Тут вдруг я понял, где очутился. Да, я нашел свои ботинки там, где их снял, а в следующий миг, когда включил свет, увидел, что в моей комнате кавардак. Оказалось, что я сам отодвинул комод от стены, а вот постель была в таком беспорядке, как если бы я лежал поперек кровати. Мне стало стыдно за себя, когда я увидел, что нахожусь в своей комнате, но вместе с тем я обрадовался, осознав, что это был всего лишь сон.
— Думаю, — сказал Лессинг, — второе сновидение не представляет трудности для толкования.
— Но желание спастись бегством меня не оставляло, даже когда я окончательно проснулся и стал ставить мебель на место!
— Возможно, вы все же не совсем проснулись. Этому есть простое объяснение…
— Ладно, ладно. Если все так просто, не будем больше говорить об этом. Но объясните мне, пожалуйста, почему прошлой ночью я пытался помочь бежать какому-то существу!
— Это было в третьем сне?
— В последнем, и самом неприятном из всех. При этом моя жизнь не подвергалась никакой опасности. Нет, ничего подобного не было. В этот последний раз я был снаружи! Я находился у ограды какого-то муниципального парка или ботанического сада, а внутри металось какое-то существо, отчаявшееся выбраться оттуда. Я пробовал помочь ему. Ходил туда-сюда, бился об ограду, как о дверь лифта в том сне, и тщетно искал выход. Но выхода не было, а существо внутри — не знаю, человек или животное — кричало, скулило и стонало, продираясь через кусты. Это было ужасно!
— Что же дальше?
— Я вытащил несколько прутьев из ограды и упал. Неведомое существо перепрыгнуло через меня. Я так и не смог разглядеть, что это было, но оно оказалось крупнее, чем мне представлялось.
— Однако, — сказал Лессинг, — третье сновидение не так уж сильно отличается от первых двух, как вы полагаете. Во всех случаях ситуация повторяется, хотя основное различие состоит в том, что в первых двух снах ваша роль была преимущественно пассивна, а в третьем вы были активным действующим лицом. А теперь…
— Вы хотите сказать, что тем существом, которое я пытался спасти, был я сам? Но я этого не почувствовал.
— Между тем это не исключается. Сны, правда, не могут рассказать нам всего того, что мы хотим знать. Они очень интересны и, конечно, содержат ответы на многие вопросы, но мы до сих пор не научились правильно их толковать. Чтобы понять, на что они указывают, нужно прибегать к иным средствам. А сейчас я бы хотел сделать кое-какие заметки в тетради, а вы… вы ведь курите? Можете взять сигарету, если хотите.
Через несколько минут Лессинг снова заговорил:
— В день нашей первой встречи вы сказали, что во время войны были тайным агентом в Восточной Европе и Средиземноморье. Насколько я понимаю, вам постоянно грозила опасность?
— Вовсе нет, — сказал мистер Бикулла, — бо́льшую часть времени я изнемогал от скуки.
— Но иногда вы подвергали себя опасности.
— Случалось, но не часто. Один раз, когда я был в тюрьме, меня пытались припугнуть, но я не поддался.
— Вы долго находились в тюрьме?
— Десять дней в Граце и три месяца в Плевне. В обоих случаях меня арестовывали по подозрению. Они ничего не знали. Все сошло с рук.
— Но вы, наверное, волновались?
— Вовсе нет. В тюрьме я крепко спал по ночам.
— Это достойно истинного философа, должен сказать. А потом, когда война закончилась, вы решили ни от кого не зависеть и жить на собственные средства?
— Да, у меня имеется небольшое состояние. Но такая сумма не дает мне оснований считать, что я сам себе хозяин.
— Тем не менее это неплохая опора. То, что я сейчас попрошу вас сделать, не требует никаких усилий. Надо только немного потренироваться. Я хочу, чтобы вы прилегли вот на эту кушетку и полностью расслабились, как перед сном, а затем позволили себе говорить все, что приходит вам в голову.
— Вы хотите, чтобы я раскрыл шлюзы и выпустил наружу поток сознания, — сказал мистер Бикулла, устраиваясь поудобнее.
— Да, — в замешательстве проговорил Лессинг, — вот именно.
— У меня это хорошо получается. Это самый удобный способ быстро заснуть, я изобрел его, когда был в тюрьме, и делал так каждый вечер. Но подскажите, с чего мне начать. Ну?
Лессинг в некоторой растерянности осмотрелся вокруг и заметил на столе конверт с адресом сэра Симона Киллало.
— С пятифунтовой купюры.
— Почему именно с нее? — спросил мистер Бикулла, приподняв с кушетки голову.
— Это первое, что пришло мне в голову, — объяснил Лессинг. — Начать можно с чего угодно.
— Деньги, — заговорил мистер Бикулла, опять укладываясь, — это корень всех зол. Так принято говорить. Но это неточное определение, употребляя его, подразумевают безудержную страсть к деньгам или их катастрофическую нехватку…
— Боюсь, так дело не пойдет, — перебил его Лессинг. — Вы приводите доводы, это сейчас не нужно.
— Невозможно расслабиться, думая о деньгах.
— Давайте возьмем что-нибудь другое. Совсем другое. Тюремную камеру.
— Там был полицейский, — сказал мистер Бикулла, — с бородавкой на щеке. Я никогда больше не видел такой большой бородавки. Бородавка в форме вулкана, темно-коричневого цвета. Как вулкан Этна на Сицилии. И этот вулкан дымился и один раз даже выпустил колечко дыма, будто внутри сидел великан и курил гигантскую сигару — сигару с фирменной маркой. «Сидит в вулкане великан…» Меня в детстве очень забавлял этот каламбур, чего не скажешь о моем отце: ему эта шутка быстро надоела. У него был тонкий вкус во всем, и в литературе тоже, так что каламбуры он просто не переваривал. Раз уж мы заговорили о пищеварении, то надо вспомнить о моей матери, — живот у нее был просто удивительных размеров…
— Нет! — воскликнул Лессинг. — Так дело не пойдет! Вы здесь не для того, чтобы развлекать меня! Вы вообще не должны думать. Говорите первое, что придет вам в голову, не задумываясь. Ну-ка, попытайтесь снова и на сей раз начните с вашего отца.
— С отца, — послушно повторил мистер Бикулла. — Мой отец с трудом умирал. Для него это было очень нелегко. Он был религиозным человеком, но часто менял веру. И вот он умирает и не может вспомнить, к какому вероисповеданию принадлежит. Он много раз принимал христианство. Буддизм раза два. Однажды он уверовал в Баба[10] и бабизм.[11] Это длилось больше года. Затем был Герберт Спенсер,[12] потому что тот объявил наслаждение этическим принципом. Отец разочаровался в коптской церкви и на какое-то время обратился к философии Бергсона,[13] а еще он был политеистом и с благоговением читал Ригведу.[14] И вот на смертном ложе он сомневается, не мусульманин ли он. Не может вспомнить и говорит, что религия должна быть как жена в древней Индии: с тобой в жизни и с тобой в смерти…
Около получаса Лессинг слушал его с любопытством, но и с явным недоверием. Любой психоаналитик мог только мечтать о таком пациенте: весь внешний вид мистера Бикуллы говорил о том, что он полностью расслабился, забыл о присутствии постороннего и не контролировал своих слов. Пиджак расстегнут, руки покоятся на животе. Землистого цвета лицо было спокойным и безмятежным, как будто он засыпал, а медленная речь сопровождалась глубокими вздохами. Но многое из того, что он говорил, было слишком интересно; нельзя сказать — слишком интересно, чтобы быть правдой, но все же намного логичнее и занимательнее обычного потока сознания. Это говорило о сознательном пользовании своим талантом рассказчика и о преобладании обработанных воспоминаний над спонтанными и почти бессознательными. Но когда Лессинг решил, наконец, прекратить эти подозрительные откровения, поток фраз вдруг превратился в ручеек бессвязных слов, а потом и вовсе иссяк, булькнув на прощание, как вода, выпущенная из ванны. Мистер Бикулла заснул и стал слегка похрапывать.
Лессинг разбудил его через пять минут. Пациент сел и зевнул.
— Именно так я засыпал в тюрьме, — сказал он. — Теперь я чувствую себя посвежевшим, хотя в горле пересохло от всех этих разговоров. Вы не скажете, который сейчас час?
— Пять минут седьмого.
— Сегодня я ваш последний пациент?
— Да.
— Тогда пойдемте опрокинем стаканчик-другой. Я слишком долго говорил, вы слишком долго слушали, к тому же, видимо, успели устать к моему приходу. Нам сейчас просто необходимо немного освежиться. Соглашайтесь, доктор Лессинг!
— Хорошо, — промолвил Лессинг, взглянув на дверь гостиной и снова мысленно вернувшись к недавней ссоре с Клэр: да, предстоит одолеть нелегкий путь к перемирию. — Хорошо, не возражаю.
— Тогда пойдемте! Я отведу вас в один очень приятный ресторанчик.
— Подождите всего минуту, — сказал Лессинг, откладывая в сторону дневник и блокнот и опуская письмо в карман. — Мне нужно вымыть руки. Может быть, вам тоже стоит это сделать?
— Нет, благодарю вас, — сказал мистер Бикулла. — Я готов к выходу.
Глава VI
Мистер Бикулла остановил проезжавшее мимо такси, открыл дверь и дружески похлопав Лессинга по плечу, усадил его в машину.
— В «Ритц», — сказал он водителю.
— В «Ритц»? — повторил Лессинг. — Не слишком ли роскошный ресторан?
— У меня своя теория на этот счет, — сказал мистер Бикулла. — В наши дни выгоднее всего пить в самых лучших заведениях. В дешевых барах стало далеко не дешево, к тому же вас там могут надуть, да и качество напитков не всегда на высоте. А в лучших ресторанах, хотя сейчас они стали дороже, чем раньше, вас никогда не обманут. Так что я довольно часто хожу в «Ритц» — не поесть, но выпить. Насчет еды у меня другая теория. Возможно, вы в свое время узнаете, справедлива ли она.
Немного задержавшись на Оксфорд-стрит, таксист беспрепятственно выехал на Дэвис-стрит, затем на Баркли-сквер, но, после Хей-хилл, он неожиданно повернул на Албемарль-стрит и поехал по Графтон-стрит. Мистер Бикулла нетерпеливо качнул головой и посмотрел на часы.
— Никогда эти таксисты не ездят по прямой, — пожаловался он. — У них есть свои любимые маршруты, и с пассажирами они не считаются.
— Но на Дувр-стрит одностороннее движение, — возразил Лессинг.
— Да, знаю. Но это только способствует их самоуправству. Не люблю, когда мне не дают вовремя выпить коктейль. Уже двадцать минут седьмого.
В баре отеля «Ритц» мистер Бикулла попросил два бокала сухого мартини и распорядился:
— Будьте любезны, принесите попозже еще два.
Когда официант принес им по второму бокалу, мистер Бикулла удовлетворенно вздохнул и воскликнул:
— Теперь полчаса мы можем чувствовать себя так же непринужденно, как ваши пациенты на кушетке, доктор Лессинг! Впрочем, не будем о них говорить, вы сыты ими по горло. Скажите лучше, вы знаете кого-нибудь из здешних посетителей? Люблю послушать про людей.
— Боюсь, я никого здесь не знаю, — сказал Лессинг. — Это совсем не то milieu,[15] какому я привык…
— Не совсем так, — возразил мистер Бикулла. — Например, те двое. Не аристократы, хотя у них, кажется, много денег.
— В том-то и дело. У моих друзей их нет.
— А ваши пациенты? Разве среди них нет богатых людей?
— От силы один или два. С большинством из них я встречаюсь в клинике, где они платят совсем немного, а то и вовсе не платят.
— Да, знаю, вы хороший человек. Я это с самого начала заметил. Расскажите мне о себе. Как вы стали психоаналитиком?
— Думаю, — медленно произнес Лессинг, — стремление к познанию было во мне с детства. Я не был счастлив…
— И я не был! — заявил мистер Бикулла. — Люди со счастливым детством не стоят внимания таких, как мы с вами. Я не был счастлив в детстве, и вы тоже! Вы ненавидели своего отца?
— Нет, я его уважал. Заикание, ужасное заикание, мешавшее мне членораздельно говорить, — вот что делало меня несчастным…
Он допил второй коктейль, и обстановка, как по волшебству, стала вдруг уютной и дружеской. Время от времени он оглядывался вокруг и не мог вспомнить более доброжелательных и милых лиц. И тут он поведал историю своей нелегкой юности человеку, который из пассивного в общении пациента превратился в друга и теперь наводящими вопросами помогал ему восстановить в памяти неприятные детали и обстоятельства, все до единого преданные решительному забвению. Лишь после того как появился третий бокал мартини, правда на сей раз небольшой, Лессинг стал слабо, почти шутя, протестовать:
— По-моему, мой дорогой друг, это заходит слишком далеко!
— Вовсе нет, — сказал мистер Бикулла, — это ровно столько, сколько нужно. Перед обедом неплохо выпить два-три коктейля. Так что спокойно допивайте, а потом мы пообедаем вместе. Давайте посвятим сегодняшний вечер себе!
— Но мне надо домой. Меня жена заждалась.
— Вы, надеюсь, не подкаблучник?
— Нет, ничего подобного, уверяю вас. Но знаете, как бывает…
— Я знаю, как должно быть! Мужчина — хозяин в собственном доме, вот так. Он звонит жене и говорит: я приду к обеду! Она встречает его с радостью. Или он говорит: сегодня я буду поздно, не жди меня. Она очень расстроена, но отвечает: хорошо, дорогой. Разве не так должно быть?
— В идеале, возможно, так, но на практике не всегда получается. Не совсем.
— Сегодня, — настаивал мистер Бикулла, — реальность должна совпасть с идеалом. Позвоните жене, что обедаете со мной.
Лессинг допил свой коктейль.
— Пожалуй, я так и сделаю! — произнес он, подавив нервный смешок. — Это ее изрядно удивит.
Мистер Бикулла показал ему, где находится телефон, и сказал:
— Когда закончите разговор, встретимся снаружи, на ступеньках главного входа в «Пиккадилли». Хочется подышать вечерним воздухом. И не торопитесь, у нас масса времени. Сейчас без четырех минут семь.
Лессинг, расправив плечи и собравшись с духом, сообщил жене по телефону о своем из ряда вон выходящем решении и с необычайным равнодушием выслушал жалобы Клэр о том, что он испортил ей вечер и зачем же она тогда готовила ему ужин… Он настоял на своем с непоколебимой и удивившей ее твердостью, положил трубку и пошел за пальто и шляпой. Лессинг встретился с мистером Бикуллой на ступенях «Пиккадилли» в тот момент, когда северо-восточный ветер донес до них приглушенный бой Биг-Бена.
— Ну как, быстро я управился? — бодро проговорил Лессинг. — Но посмотрите-ка! Вы его не узнаете?
Высокая фигура проскользнула мимо них в полутьме и проворно нырнула под арку.
— Это был сэр Симон!
— Возможно. Я не рассмотрел. Но нам пора, давайте прогуляемся и немного разомнемся. И я продемонстрирую вам свои взгляды на еду.
У мистера Бикуллы был эклектичный вкус. От гостиницы «Ритц» он повел Лессинга в восточном направлении, к Пиккадилли-серкус, а оттуда через Шафтсбери-авеню и Чаринг-Кросс-роуд на Оксфорд-стрит, где с гордостью человека, обнаружившего истоки Брахмапутры, подвел его к семейному ресторану «Лайонс».
— Я сам его обнаружил, — похвастался он. — Мне никто о нем не рассказывал. Никто! Кормят здесь вкусно и — вы сами в этом убедитесь — обслуживают великолепно! И к тому же не так накладно, как в «Ритце». Поторопимся, я очень голоден.
Хотя в ресторане было шумно и людно, мистер Бикулла, казалось, не обращал внимания на многочисленных соседей, и, когда их провели к свободному столику, он с довольным видом по-хозяйски осмотрелся вокруг.
— Взгляните, — сказал он, протягивая Лессингу меню. — Вы можете выбрать все, что угодно. Например, жареное филе камбалы с лимоном и соусом тартар за два шиллинга девять пенсов, затем «Рисотто Болонез» за шиллинг три пенса или баранье жаркое с бобами и печеной картошкой за шиллинг восемь пенсов. И не обращайте внимания на цены, это моя забота. А потом вы, возможно, пожелаете шоколадное мороженое «Маршмэллоу» или кофе «Маршмэллоу», а возможно, и то и другое. Сам я неизменно заказываю оба блюда. Обожаю сладкое!
Мистер Бикулла непрестанно о чем-то говорил во время обеда, а затем предложил пойти во второй зал «Палладиума», куда он, разумеется, уже купил билеты. Лессингу не хотелось домой, и он, хотя и не без колебаний, согласился и, заразившись веселостью своего спутника, от души смеялся над клоунами и жонглерами, получая истинное удовольствие.
Стояла прекрасная ночь, и Лессинг решил пойти домой пешком. Он поблагодарил мистера Бикуллу за щедрость и радушие. Их прощание затянулось, они еще долго стояли и разговаривали у входа в метро на Оксфорд-серкус. Мистер Бикулла расставался с ним тоже неохотно.
— Мне нравится делать людям приятное, — сказал он. — Я сам от этого получаю удовольствие. Надеюсь, мы с вами еще куда-нибудь сходим. Быть может, в следующий вторник, если все будет хорошо и погода не испортится. Вы ведь свободны во вторник, доктор?
— Да. Только в следующий раз моим гостем будете вы.
— С удовольствием.
— Хорошо, спасибо вам еще раз, — и спокойной ночи!
— Спокойной ночи, доктор. Спокойной ночи!
Глава VII
На следующий вечер после обеда в «Бовуар Приват Отеле» мистер Бикулла поднялся в свою комнату вместе с сэром Симоном Киллало и снова уговорил его занять место в кресле. Мистер Бикулла с присущей ему церемонностью сварил кофе в стеклянном кофейнике и, открыв свой недавно обретенный матросский сундучок для хранения бренди, поровну наполнил две рюмочки. С легким поклоном он протянул одну из них своему почтенному гостю.
— Сегодня я опять читал Слимэна, — сказал сэр Симон. — Я не перестаю восторгаться его трудами.
— Вы имеете в виду сэра Вильяма Слимэна? Офицера, разоблачившего всех тхагов в Индии?
— Да. Вы читали его книгу?
— Конечно. Это одна из интереснейших книг.
— У него несомненное дарование при необычайном терпении. Думаю, эти качества необходимы всем реформаторам. Но сами тхаги…
— Они были не менее терпеливы, чем сэр Вильям Слимэн.
— Интересно, их жертвы когда-нибудь подозревали о страшном конце? Вспомним типичный случай. Путешественник, скажем, паломник неторопливо, в духе своего времени едет к Назику или Бенаресу. По пути он встречает двух незнакомцев, очень любезных и славных людей. По их словам, они направляются туда же, во всем помогают путнику и удивительно добры к нему…
— В Индии, — сказал мистер Бикулла, — добротой никого не удивишь. Путешественник или паломник будет тепло принят в любом селении. В Индии никто не заподозрит злоумышленника в доброжелательном и щедром незнакомце.
— Даже во времена тхагов? Но вы помните, тхаги нередко втирались в доверие к будущим жертвам. Тхаг убеждал несчастного в своем расположении к нему и иногда даже становился его закадычным другом. Между тем самым главным для тхага было выбрать наиболее подходящее время и место для намеченного убийства и ограбления.
— Все не так просто, — вздохнул мистер Бикулла. — Существовал также и религиозный мотив, и, хотя мои познания в этой области скудны и поверхностны, я все же убежден, что тхаг относился к так называемой жертве с подлинной сердечной теплотой и искренностью.
— И все же это всегда заканчивалось убийством и ограблением, — сказал сэр Симон. — Я не отрицаю, что убийство носило религиозный характер, я даже не сомневаюсь в этом. Но не только религиозный. Так тхаги зарабатывали себе на жизнь.
— Возможно, они считали, — сказал мистер Бикулла, — что достойны вознаграждения за свои действия. Я ко всему этому отношусь точно так же, как и вы, но сами тхаги относились к своим действиям как-то иначе. Я их не защищаю, а просто пытаюсь разобраться.
— Тхаги поклонялись богине Кали. Я бы не сказал, что мне симпатична эта богиня.
— Тем не менее она символизирует одну из важнейших сторон жизни. Разрушение так же естественно, как созидание. Шива, ее муж, олицетворял жизненную силу, а черная богиня Кали, танцующая на его спине, — смерть. Они неотделимы друг от друга, сэр Симон.
— По-моему, не стоит так красиво изображать смерть.
— Но почему же? Вы, англичане, представляете смерть костлявым стариком с длинной бородой, который незаметно подкрадывается к человеку. А индусы видят смерть в образе темнокожей женщины, танцующей, смеющейся и болтающей ногами в воздухе. Разве ваш седобородый старик более правдоподобен?
— Мы с детства привыкли к этому образу.
— А в Индии люди с детства привыкали к тхагам, пока Слимэн их не уничтожил. И тхаги не были бородатыми стариками, ковыляющими по дорогам, напротив, они были молоды и здоровы. Например, на вашей картине…
— Я ее продал в числе других, хотя денег за нее все еще не получил.
— Очень жаль. Но вы, несомненно, помните, что делает предводитель тхагов на этой вашей картине: он бросается на жертву сзади, накидывает петлю из своего пагри на голову несчастного, а босой ногой упирается в его спину, одним резким движением натягивает пагри и сворачивает жертве шею. Ваш седобородый старик, к тому же, наверное, страдающий ревматизмом, вряд ли смог бы так быстро отправить человека на тот свет.
— Думаю, обычный метод убийства был более простым. Тхаги душили врагов, используя тюрбан, тетиву или веревку.
— Чтобы ловко и безболезненно свернуть человеку шею, надо быть профессионалом, — сказал мистер Бикулла немного меланхолично. — Истинные мастера своего дела справлялись голыми руками.
— Откуда вы все это знаете? Я прочитал все книги на данную тему.
— Вы, очевидно, читали «Рамасиану» Слимэна и Фрайра, а он скуп на детали… Или Форбеса, который тоже не лучше…
— Но Шервуд и Торнтон намного интереснее, да и написали они немало.
— Они допустили массу ошибок.
— Почему вы так говорите? — сказал сэр Симон, начав сердиться.
— Во-первых, они не знают того, что я только что вам рассказал, — как тхаги сворачивали шею. Но вы бы и сами смогли такое совершить. Вы худой, и у вас длинные ноги. Длинные ноги — это самое главное. Я вам докажу.
Мистер Бикулла встал и отодвинул стул. Затем поднял левую ногу и согнул ее так, что в колене она образовала прямой угол. Медленно поднял колено вверх, к груди, а его ступня с поджатыми пальцами приблизилась к паху. Он оказался на удивление гибким, его бедра были поразительно узкими и длинными, колено прижатой к груди ноги находилось почти под ключицей.
— У вас тоже получится, — сказал мистер Бикулла. — Встаньте и попробуйте.
— Сорок лет назад получилось бы, — ответил сэр Симон, — но, боюсь, сейчас я слишком стар для таких упражнений.
— Попробуйте, — повторил мистер Бикулла и через минуту воскликнул: — Вот! Я же говорил вам. У вас получилось не хуже, чем у меня. Самое важное — это длинные ноги, бедра. А теперь встаньте позади меня, снова поднимите ногу и прижмите колено к моей спине. Обхватите мой лоб руками и слегка сожмите пальцы.
— Я не могу выполнить все в точности, — смутился сэр Симон.
— Прижмите сильнее колено… Взгляните в зеркало, сэр Симон! Не забавная ли картина, как вы считаете?
В длинном зеркале шкафа красного дерева отражались сэр Симон, немного смущенный, но готовый свернуть шею своему партнеру, и мистер Бикулла, слегка отогнувшийся назад, — зрелище не менее забавное, чем брачные игры лягушек. Сэр Симон, вспыхнув и откашлявшись, поспешно вернулся в свое кресло.
— Это любопытно, но лишь как эксперимент, — сказал он, — однако опыт показал, что я слишком стар для умелого тхага. Моя жертва сбежала бы раньше, чем я успел бы соединить руки на ее лбу.
— Надо суметь одновременно обхватить лоб жертвы руками и поджать колено, — сказал мистер Бикулла. — Но для ловкого и натренированного молодого человека это совсем не сложно.
— Больше всего меня интересует, где вы взяли эту информацию. Я полагал, что знаю все источники.
— Если не возражаете, я налью вам бренди, — сказал мистер Бикулла. — После такой гимнастики вам, наверное, хочется отдышаться.
— Да, пожалуйста, но только немного. Так вы расскажете мне?
С минуту, а то и больше мистер Бикулла потягивал бренди в молчаливой задумчивости. На щеках и на лбу обозначись глубокие морщины, на лице отразилась вся тяжесть его дум. Из груди вырвался вздох, похожий на стон, и он сказал:
— Я нарушу обещание, данное отцу, если расскажу это вам. Но, в конце концов, почему бы и нет? Он запретил мне говорить кому-либо об этой рукописи, но я не знаю, по какой причине. Мой отец, при всей своей религиозности, не брезгал участием в сомнительных предприятиях, если те обещали успех. Так что, может быть, он похитил рукопись. Потому, возможно, и желал, чтобы никто о ней не знал.
— Что же это за рукопись?
— Ладно, — сказал мистер Бикулла, который вдруг снова почувствовал прилив сил, — поставил пенни, ставь и фунт! Я вам все расскажу. Это была небольшая рукопись, всего страниц шестнадцать. Она называлась «Признание приговоренного к смерти Ханумана Чанда, тхага из Санкала. Записано и переведено Ф. Дж. Нисбетом в Джабалпуре, 1832 г.». Основная часть рукописи довольно нудная, в ней перечисляются скучные подробности его знакомства с неким ростовщиком, Сазанкой Моханом Дасом, которого он на протяжении двух недель сопровождал в путешествии, прежде чем совершить убийство. Это было невыгодное дело, потому что Сазанка Мохан Дас оказался тем, что называют rara avis,[16] то есть «гол как сокол». Этого ростовщика обманули клиенты, он был почти нищ. Но затем следует на редкость интересный отрывок: Хануман Чанд описывает сам акт убийства своего друга, и мистер Нисбет прилагает небольшой рисунок, где наглядно показано, что тхаг не пользовался никаким оружием, кроме собственных рук и колена. По словам Ханумана Чанда, этому он научился у отца, который очень ревностно относился к своей профессии и пользовался самым изысканным методом. Вот и все сведения, которыми я обладаю, сэр Симон.
— А у вас сохранилась эта рукопись?
— Она в Бейруте. У меня там небольшой дом.
— Ваш родной дом, не так ли?
— Это место, где я храню книги, ценный ковер из Хорасана и несколько картин, в том числе Пикассо «голубого» периода — отец купил его где-то по дешевке. Но вот это, — мистер Бикулла махнул рукой в сторону старомодного саквояжа и вместительного рюкзака с кожаными ремнями, — для меня такое же пристанище, как и дом в Бейруте. Я не домосед и люблю бродить по свету.
— Жаль, что вы не привезли с собой рукопись.
— Если бы я мог предвидеть, что мне посчастливится встретиться с вами, я бы обязательно ее захватил.
— На чем основывается ваше предположение, что тхаги испытывали определенную жалость к своим жертвам?
— Это не предположение, а факт, сэр Симон.
— Возможно, так и есть, но чем он подтверждается? Это нетрадиционное мнение. Мне оно никогда прежде не встречалось.
— Тем не менее факт достоверен, и раз уж вы настаиваете, скажу вам, что он подтверждается показаниями Ханумана Чанда. Убийство Сазанки Мохана Даса произошло в присутствии нескольких свидетелей, которые уверяют, что Хануман Чанд воскликнул над телом своей жертвы: «Майхе афсос хаи, Сахиб, лекин аб ап сидхе расте мен хаин», что означает: «Простите меня, мой господин, но теперь я наставил вас на путь истинный».
— Да, но перевод не вполне точен.
— Мистер Нисбет, записавший эти показания после того, как Хануман Чанд был задержан и осужден, очень заинтересовался прощанием убийцы с покойным и сумел завоевать доверие осужденного. Хануман Чанд рассказал ему, что так он прощался с каждой из своих жертв, такова была незыблемая традиция тхагов, в том числе и его отца.
— Хорошо, допустим. В это высказывание можно вложить какой угодно смысл, но я не думаю, что суд присяжных назвал бы милосердие основным мотивом этого убийства.
— К рукописи мистера Нисбета, — сказал мистер Бикулла, — прилагался catalogue raisonné[17] с именами семнадцати людей, в разное время приговоренных Хануманом Чандом к смерти. Краткие сведения об этих людях указывают на то, что все они были глубоко несчастны в земной юдоли печали. Карма каждого из них была отмечена горем. Как писал Шекспир, все они были мишенями бесчисленных камней и стрел. И Хануман Чанд, освобождая их от тягот бытия, руководствовался исключительно милосердием. В этом он поклялся мистеру Нисбету.
— Я не верю ни одному его слову, — ответил сэр Симон. — Об Индии я знаю немало, и это признание звучит крайне неубедительно. Я вовсе не хочу вас обидеть, подвергая сомнению то, во что вы искренне верите. Нет, вовсе нет. Но все же выводы мистера Нисбета сомнительны. По-моему, произошло следующее. Мистер Нисбет проникся чрезмерным сочувствием к Хануману Чанду, и тот сообразил, что этим можно воспользоваться, дабы избежать наказания, и изобразил преступление благодеянием. О Господи, да вы никогда не видели в муках умирающую бездомную собаку в индийской деревне? Разве кому-нибудь придет в голову избавить ее от страданий? Нет, никто до этого не додумается. Они так и оставят ее лежать, отдадут несчастное животное на съедение мухам. И если они даже палец о палец не ударят, чтобы избавить собаку от мучений, то неужели они возьмут такой грех на душу, чтобы, рискуя собственной жизнью, оказать последнюю услугу страдальцу? Нет, это не слишком правдоподобно. Мне симпатичны индусы, и я лет сорок прожил в их обществе, но вам не удастся убедить меня, что во всем ими движет альтруизм.
— У человека, — мягко возразил мистер Бикулла, — есть душа, не чуждая состраданию, и в этом его отличие от животного.
— Ну и что, — настаивал на своем сэр Симон. Худощавый старик, защищая свое мнение, встал во весь рост. — Эти молодцы зарабатывают таким гнусным способом деньги…
— Деньги берут священники любой веры, — перебил его мистер Бикулла. — Хотя это не всегда обеспечивает им безбедное существование.
— В известном смысле вы правы, но наш спор может продолжаться до бесконечности, и, думаю, на сегодня хватит. Было интересно поговорить с вами…
— Не уходите. Выпейте еще бренди.
— Достаточно. Нельзя привыкать к излишествам, я и без того боюсь упасть по дороге.
— Я не обидел вас, сэр Симон?
— Ничуть, дорогой друг. Сегодняшний вечер был очень интересным, и наши разногласия могут в конце концов послужить для продолжения этого разговора в ближайшие дни. Но больше не уговаривайте меня изображать тхага. Я слишком стар для этого.
— Всегда рад вас видеть, сэр Симон.
— Спокойной ночи.
— Спокойной ночи, сэр Симон.
Глава VIII
В воскресенье в доме Лессингов привычный ход вещей нарушился. Редкие солнечные лучи медового цвета с трудом пробивались сквозь неподвижные облака пыли. Джордж Лессинг был всем недоволен, брюзглив и рассеян, а Клэр — настороженна, но снисходительна и доброжелательна. Их дочка Кларисса мирно играла.
Утро проходило в безделье и бесцельной домашней суете. Позавтракав, они утонули в ворохе воскресных газет, и их внимание было полностью поглощено политическими событиями выходных дней, театральной жизнью, сплетнями, преступлениями, литературными дискуссиями. Клэр произносила время от времени:
— Надо бы сводить Клариссу в парк.
Лессинг лениво соглашался:
— Да, не мешало бы.
Посуда после завтрака осталась немытой, потому что горничная-австрийка, которая обычно возилась на кухне или с вежливой улыбкой принимала пациентов Лессинга, не работала по воскресеньям. Но она припасла в погребе холодный пирог с почками, и поэтому голова Клэр не была обременена проблемами кулинарии. В пепельнице тихо тлел брошенный окурок, становилось душно. Никто не произносил обидных слов, не размахивал в злости руками, и струйка голубого клубящегося дыма беспрепятственно поднималась кверху и растворялась в воздухе. Клэр с самым безмятежным видом отложила «Санди экспресс» и взяла «Обсервер», и Лессинг подумал: утром, без макияжа, ее черты кажутся более благородными, а голос звучит прямо-таки приятно, когда она не кричит.
Неожиданно зазвонил телефон, но каждый из них безучастно сидел и ждал, пока другой встанет и поднимет трубку. Лессинг сдался первым.
— Междугородный, — произнес он.
— Наверное, это твоя мама, — сказала Клэр.
Он взял трубку:
— Да, это Джордж. Ты не узнаешь мой голос? Это Генриетта, — пояснил он, обращаясь к Клэр.
— Так я и думала, — отозвалась она.
— Что?
— Что случилось? — спросила Клэр.
— Тише! Да, я тебя прекрасно слышу. Продолжай… Расскажи мне все по порядку, и, если доктор еще у вас, я хочу с ним поговорить.
Отложив газеты, Клэр прислушивалась к доносившимся до нее обрывкам разговора Лессинга с сестрой, но он ограничивался короткими и резкими вопросами, по которым невозможно было догадаться, что за происшествие случилось в доме в Шрусбери. Потом он взял сигарету и сказал:
— Сестра вызовет врача по телефону.
— Но что случилось?
— Утром мама упала с лестницы и сломала ногу. Перелом шейки правого бедра.
— Так я и знала! Как только зазвонил телефон, я сразу подумала, что это тебе из дому…
— Алло! Да, это Лессинг…
Деловым тоном он несколько минут обсуждал меры срочной помощи. Положив трубку, заговорил с нескрываемым возмущением.
— Сколько я ей об этом твердил! — негодовал он. — Я раз пятнадцать повторял, что надо быть осторожной с этими ступеньками. Какая-то ловушка, катакомбы, а не лестница. И теперь, когда она все-таки упала, — а я всегда знал, что это когда-нибудь случится, — она закатывает истерику и отказывается ехать в больницу. Пэттерсон, ее врач, не смеет настаивать, он понимает ее состояние, но вряд ли ему удастся найти для нее сиделку. А от Генриетты помощи не дождешься.
— Значит, тебе придется ехать?
— Вечером к нам придет Харроу с женой, и мне нужно с ним побеседовать, а утром — клиника, да еще на завтра записаны два пациента.
— Но перелом бедра в таком возрасте…
— Да, это опасно.
— Мамина тетка Дженет упала точно так же и не выздоровела. Для нее это оказалось слишком большим потрясением. Но ей было уже восемьдесят.
— Мама не умрет, по крайней мере в ближайшее время.
— Но если бы это все-таки произошло и тебя бы не было рядом, ты бы себе этого не простил.
— Да, ехать надо, я понимаю. Но мне чертовски не хочется! Ты знаешь, каким я возвращаюсь, проведя с ней сутки под одной крышей.
— Я посмотрю расписание поездов.
С ловкостью опытной горничной Клэр спокойно собрала разбросанные газеты, аккуратно сложила их и нашла расписание, а Лессинг тем временем лишь негодовал и, казалось, не думал собираться в путь. С тех пор как он переселился в Лондон, оставив мать в Шрусбери, он стал питать к ней глубокое и искреннее уважение, осознав, что по-настоящему привязан к ней. Она обладала талантом обаятельной комедийной актрисы: ее гнев никого не мог обидеть, а ее глупость была непроходима, но иной раз она удивляла всех смелыми догадками, что украшало и разнообразило ее главную роль. С ней было невозможно соскучиться, она писала замечательные письма, выявлявшие всю ее глупость, неизлечимую самоуверенность и такую проницательность, какая порой просто всех поражала.
Лессинг, еженедельно получавший письма от матери, читал их с наслаждением и всякий раз старался сочинить занимательный и остроумный ответ.
Но он не мог пробыть с ней рядом больше двух часов. В течение первого часа общения она была столь же забавна, как и ее письма, но затем, хотела того или нет, становилась просто невыносимой. С непреодолимой настойчивостью она яростно отстаивала свое мнение, а на следующее утро с удвоенным пылом возобновляла вчерашний спор. Она жила в окружении врагов-соседей, которых презирала и которые раза два в год позволяли ей высказать все, что она о них думает. Лессинг, прожив у нее два-три дня, прощал ее быстрее, чем соседи, но всегда, когда возвращался домой из Шрусбери, его вновь начинало мучить заикание, омрачавшее молодые годы.
Клэр, как ни странно, легко поладила с миссис Лессинг, хоть и не питала к ней никакой особой симпатии. Когда Клэр бывала в хорошем настроении, то не обращала никакого внимания на язвительные замечания свекрови, и той приходилось нехотя признавать неуязвимость невестки. Клэр иной раз бывала не менее бестолкова, чем миссис Лессинг, но иногда проявляла и не меньшую прозорливость. Именно Клэр догадалась, а потом осторожными расспросами добилась подтверждения своего предположения, что ее свекровь богата. Она очень удивила Лессинга этой новостью. Лишенный всякой деловой хватки, он вначале отказывался верить в то, что у его матери может быть нечто большее, чем небольшой доход, позволяющий сводить концы с концами. Но доказательства, представленные Клэр, заставили его в это поверить.
Через некоторое время богатство матери стало для Лессинга ее естественной принадлежностью, и он не задумывался о том, чем это может обернуться для него в будущем. Однако Клэр, без конца твердившая сумму, которую ей удалось вывести, и постоянно упоминавшая возраст его матери, выдавала тем самым свой корыстный интерес к ожидаемому наследству. И он осознал, что после смерти мать доставит ему гораздо больше неприятностей, чем доставляла при жизни. Ведь если у него появится счет в банке, жена станет предъявлять ему непомерные требования, и из-за ее любви к показной роскоши ему придется распрощаться со своим привычным образом жизни. Клэр со скромными средствами к существованию еще терпима, но разбогатевшая Клэр станет невыносимой. А теперь ему надо ехать и сидеть с матерью, изображая сыновью заботу, да еще пытаться вывести ее из депрессии. К тому же с ростом его раздражения будет расти и страх, что она умрет и свалит на него свое богатство.
— Твой поезд отходит в одиннадцать десять, — сказала Клэр, — и прибывает в три двенадцать. Тебе надо торопиться. Сложить твои вещи?
Осознавая истинную причину своего недовольства, он заговорил о второстепенных делах.
— Я так хотел повидаться сегодня с Харроу! — пожаловался он. — Собирался обсудить с ним полдюжины разных тем!
— Ты можешь пообедать с ним на этой неделе, когда вернешься.
— Да, но это не то же самое.
— Я знаю, дорогой. Это очень печально, но твоя несчастная мама ждет тебя. Что ты возьмешь с собой?
— Пижаму и чистую рубашку. Вполне достаточно.
— А может быть, стоит захватить чемодан побольше и положить черный костюм, просто так, на всякий случай?
— Пожалуйста, не накликай беды!
— Ни в коем случае, — сказала она, еле сдерживая раздражение, — просто я волнуюсь…
— Да, конечно.
— Хорошо, я уложу кое-какие вещи в сумку, с которой мы выезжаем по воскресеньям, а сейчас надень-ка твидовый костюм. Если тебе еще что-нибудь нужно…
— Мне ничего больше не нужно.
— Надеюсь!
— Я вернусь завтра днем. Переночую в Шрусбери и прослежу, чтобы для мамы все было сделано. Думаю, возможность поиздеваться надо мной будет для нее лучшим лекарством. Главное — найти сиделку и оставить маму на ее попечение. Это все, что я могу сделать.
Клэр сложила вещи, а Лессинг из чувства противоречия не последовал ее разумному совету и сменил фланелевые брюки и домашнюю кофту не на твидовую пару, а на темный лондонский костюм. Часы и бумажник, носовой платок, восемь или десять шиллингов серебром — все это он нащупал в карманах нервными пальцами рассеянного человека, вечно неуверенного, все ли нужные вещи он взял с собой. И тут Лессинг обнаружил письмо, адресованное сэру Симону Киллало.
— О Господи! — воскликнул он, с ужасом осознав, что оно лежит в кармане несколько дней, а именно со вторника, с того самого вечера, когда они с мистером Бикуллой предавались удовольствиям.
— Что случилось? — спросила Клэр.
— Я нашел письмо, которое забыл отправить. Я давно не надевал этот костюм.
— А оно важное?
— Не очень, но… ладно, ничего не поделаешь. Пойду за такси.
Лессинг вышел, держа письмо перед собой как на подносе и решительным жестом опустил его в почтовый ящик на углу. Потом остановил такси и увидел, что Клэр уже вынесла к подъезду его сумку, плащ и пару журналов, чтобы он не скучал в поезде. Она взяла с него обещание передать привет матери и позвонить вечером, если будут новости. И с тревожным видом поцеловала его на прощание.
Вернувшись в дом, Клэр поиграла немного с Клариссой.
— Ты хорошо вела себя, — сказала она. — Хочешь, пойдем гулять в парк?
Она одела девочку и дала ей на растерзание газету. Затем она накрасилась, надела туфли и воскресную утреннюю шляпу. Но прежде чем выйти из дома, немного помедлила, подумала с минуту, повела плечами и подняла телефонную трубку.
— Ронни? — сказала она. — Ты уже встал? Тогда слушай. Джордж уехал в Шрусбери, с его старухой случилось несчастье, а я сейчас иду с Клариссой на прогулку. Но мы вернемся примерно в половине первого. Дома осталось немного джина. Так что, если у тебя нет других дел, заходи на рюмку джина и оставайся на обед…
Глава IX
Педантичный во всем, сэр Симон подчинил свою жизнь правилам, которые стали еще более жесткими, когда его деятельность утратила всякий смысл. Заведенный им распорядок позволял ему подчинять контролю все расходы и постепенно сокращать их, в соответствии с ухудшающимися условиями жизни. Самым важным во всем этом было то, что следование своим правилам наполняло значимостью его бытие и возвращало ему самоуважение. Однообразие не тяготило его, и он негодовал, когда кто-нибудь нарушал установленный им порядок.
Тем не менее в понедельник утром сэр Симон отложил свой визит в библиотеку Британского музея. Он решил встретиться с адвокатом. По почте сэр Симон получил запоздалое письмо от Лессинга с пятью фунтами, а также чек от господ Сотби за проданные ими картины персидских, монгольских и индийских художников. Картины принесли хорошие деньги, но не такие, как ему бы хотелось, и, по его мнению, не смогут покрыть судебные траты. Сэр Симон ждал этих денег с затаенной горечью и со сдержанным нетерпением, желая поскорее расплатиться с кредиторами и покончить с унизительным положением должника, а потому собирался уладить все прямо сейчас или хотя бы узнать, когда можно будет выплатить остаток долга. Он позвонил в адвокатскую контору и попросил срочно назначить встречу. В половине двенадцатого он сидел в сумрачной приемной конторы «Линкольнз Инн»[18] в окружении папок с документами. Разговор получился длинным и сложным, и, когда закончился, сэр Симон стал еще беднее, чем прежде. Адвокат, его давний приятель, пригласил его пообедать в ресторане, и только потом сэр Симон отправился в Британский музей перечитать эссе Слимэна о тхагах.
Сэр Симон вышел из читального зала в половине четвертого, по своему обыкновению доехал на метро от Рассел-сквер до Пиккадилли и пешком добрался до своего клуба на Сент-Джеймс-стрит. Он попросил чай с гренками и до четверти седьмого читал газеты, затем заказал виски с содовой и в течение получаса обсуждал новости с двумя приятелями по клубу, оба были старше его. Без пяти семь он вышел из клуба и добрался до метро на Грин-парк рядом с гостиницей «Ритц». Доехал до Глостер-роуд и в семь шестнадцать поднялся к себе в «Бовуар Приват Отель». Открыв дверь в свой номер, сэр Симон с удивлением и недовольством обнаружил там Ронни.
Ронни с нескрываемым удовольствием рассматривал собственное отражение в зеркале туалетного столика и расчесывал свои черные жирные волосы тяжелой щеткой из слоновой кости. Сэр Симон, раздраженно фыркнув, воскликнул:
— Положи-ка на место. Возможно, я старомоден, но я не собираюсь ни с кем делить свою щетку.
— Не стоит волноваться, — сказал Ронни, — я не прокаженный.
— Не в этом дело. Просто мне это неприятно. У тебя ко мне дело?
— Почему ты не допускаешь, что мне просто захотелось лишний раз увидеть тебя?
— Обычно ты приходишь не из бескорыстных побуждений.
— Ты хочешь сказать, что я прихожу только тогда, когда мне что-нибудь нужно?
— Откровенно говоря, да.
— Я приходил к тебе, когда у меня были неприятности. И ты не раз выручал меня. Я благодарен тебе за это.
— Рад слышать.
— Знаю, что заслужил твое недоверие, но не надо обвинять меня в неблагодарности.
— К чему ты клонишь?
— Зачем ты все усложняешь? Я тебе никогда не нравился, ведь так? Я и не мог тебе нравиться. Тебе всегда везло в жизни, ты безупречен во всем…
— Так не бывает.
— Я совершал поступки, о которых потом жалел, а ты можешь вспоминать о прошлом без сожаления, без стыда…
— Неужели ты и вправду так думаешь?
— Но ведь твоя репутация, в отличие от моей, безукоризненна.
— Возможно, я просто благоразумнее тебя. Но к чему весь этот разговор? Твоей репутации опять угрожает опасность?
— Ничего подобного! Просто к слову пришлось. У меня появился шанс. Очень хорошие перспективы.
— Надеюсь, ты сможешь им воспользоваться.
— Постараюсь. Я буду очень стараться. Именно об этом я и хочу поговорить.
— Тебе нужен мой совет?
— Для начала я хотел бы тебя немного заинтересовать. Видишь ли, есть у меня один приятель, замечательный парень, зовут его Хэй. Он связан с крупной американской компанией по производству аксессуаров для автомашин…
— Каких именно?
— Калориферов, зажигалок, радиоприемников, зеркал и тому подобного. У этой компании огромный рынок сбыта, и они намереваются открыть фабрику у нас, в Англии. Мой друг собирается возглавить их представительство и хочет взять меня к себе.
— Не думаю, что это серьезная работа. Но она хотя бы честная?
— Более чем честная — денежная! Она принесет большие деньги! Я абсолютно уверен, что смог бы расплатиться с тобой за шесть месяцев…
— Расплатиться со мной?
— Чтобы открыть представительство, нам нужно пятьсот фунтов. Хэй может вложить фунтов двести или триста, и если бы ты мог одолжить мне двести пятьдесят…
— Нет, — отрезал сэр Симон.
— В долг! Я через шесть месяцев верну…
— Никаких денег я тебе не дам, даже в долг. Ты и так мне дорого обошелся.
— Но на этот раз все будет иначе. Убытков я тебе не принесу. Уверяю тебя, спрос на американские аксессуары будет колоссальный. У меня наконец-то появилась возможность встать на ноги…
— Послушай меня, Ронни. Я не могу дать тебе двести фунтов, потому что адвокаты только что отняли у меня почти все деньги. Те самые адвокаты, которые отстаивали твою невиновность в суде.
— Но я действительно был ни при чем! Моей вины там не было.
— Нисколько не сомневаюсь. Я поверил тебе и поэтому предпринял все меры, чтобы обеспечить тебе хорошую защиту. Но твоя защита дорого обошлась мне, и я не могу рисковать двумя сотнями фунтов ради проекта, который представляется мне таким же сомнительным и легкомысленным, как и все остальное, что ты когда-либо затевал в надежде на легкую наживу. Нет, не перебивай меня, я еще не закончил. Я хочу сказать, что, даже если бы я имел такие деньги, ты бы их все равно не получил. Я ничего тебе больше не дам, потому что все, что я в тебя когда-либо вкладывал, пропадало. Ты всю жизнь, начиная со школьной скамьи, был пустым, нечестным и лживым лентяем. Ты причинил мне огромную боль, опозорил мое честное имя. Во время войны у тебя была возможность доказать, что ты не такой мерзавец, каким себя зарекомендовал, но ты не воспользовался этим шансом. Тебя изгнали из хорошего полка, ибо усомнились в твоей храбрости, а о твоих моральных качествах и говорить не приходится. Тогда ты завербовался рядовым, чем заслужил мое уважение, но вместо того чтобы исправиться, ты дезертировал. С тех пор…
— Замолчи! Я пришел сюда не для того, чтобы выслушивать лекции. Я уже не ребенок! С меня хватит! Если бы ты сейчас умер, а я прожил бы еще лет пятьдесят, то я помнил бы о тебе лишь то, что за всю жизнь не слышал от тебя ни единого доброго слова! Ничего, кроме проклятых старческих проповедей!
В ту минуту, когда они стояли, с ненавистью глядя друг на друга, их внешнее сходство было очевидным. Ронни, багровый от гнева и разочарования, едва не плакавший от отчаяния, стал похож на отца в его благородном негодовании, а жалкая фигура в костюме из синтетической шерсти выглядела уменьшенной копией высокого и стройного старика. Но гнев Ронни вскоре иссяк, и ярость сменилась полным отчаянием. Он бессильно рухнул в кресло рядом с диваном и зарыдал.
Слегка смутившись, сэр Симон отвернулся, снял и положил на диван пальто и пиджак.
— Тебе пора идти, — холодно сказал он. — У меня не такое уж просторное жилище, как видишь, и мне нужно помыться, иначе я опоздаю на ужин.
— Неужели ты выгонишь меня без гроша в кармане?
— Ты слышал, что я сказал, и я не собираюсь повторять это вновь.
— Я не уйду, пока ты не дашь мне хоть что-нибудь!
Сэр Симон снял рубашку и, отстегнув запонки, бросил их в коробку.
— Если ты так настаиваешь, оставайся, — сказал он, — но тебе придется стать свидетелем такого неприятного зрелища, как мое омовение. Прошу прощения за бестактность, но бедность заставляет меня забыть о некоторых правилах приличия.
— Ты можешь шутить как хочешь, но мне что делать? — взмолился Ронни. — Ты же знаешь, я на мели. У меня осталось всего десять шиллингов.
— Кругом полно работы. Обратился бы лучше в бюро по трудоустройству, — сказал сэр Симон и открыл кран.
— Насколько я понимаю, ты предлагаешь мне стать наемным рабочим?
— У тебя нет технических знаний, да и добросовестный работник из тебя не выйдет. Что же еще я могу тебе посоветовать?
Склонившись над раковиной, сэр Симон стал энергично намыливать лицо и шею. Ронни нагнулся и внимательно смотрел на отца, а его пальцы скользнули во внутренний карман отцовского пиджака, лежавшего на диване. Он нащупал бумажник — из мягкой кожи, без застежки — и с ловкостью карточного шулера вытащил оттуда три новые и хрустящие купюры и одну мятую, сложенную пополам.
— Ты еще горько пожалеешь о своих словах! — воскликнул он и встал, сунув правую руку в карман.
— Напрасно ждешь, — отвечал отец, наполняя раковину холодной водой. — Мне и так несладко, хуже некуда.
— Хорошо, если ты меня выгоняешь, я уйду, — сказал Ронни, задержавшись у порога, — но знай, ты сам довел меня до такой низости и… а впрочем, что говорить!
Он выскочил из комнаты, хлопнув дверью. Сэр Симон тщательно вытер лицо и шею и достал из ящика чистую рубашку. Он услышал звонок к ужину, но мысль о еде и дружно жующих людях вызвала у него отвращение. В зеркале отразилось худощавое и гладкое, словно выточенное из слоновой кости, лицо.
Глава X
Как всегда по вторникам, мистер Бикулла направлялся на встречу с доктором Лессингом. Он шел, вдыхая густой желтый воздух; туман, медленно опустившийся на Лондон вместе с ноябрьскими сумерками, лежал на невидимых крышах домов. Улицы заполнил едкий смог, превративший электрическое освещение в жалкое подобие света. Мистер Бикулла шел бодрым и уверенным шагом по Велбек-стрит и вскоре оказался перед дверью доктора. У входа его с улыбкой встретила австрийка Эльза и сообщила, что Лессинга нет в городе. Она сказала, что доктор уехал за город, к своей тяжело больной матери. Это случилось в воскресенье, продолжала горничная, переходя на немецкий, потому что именно на этом языке мистер Бикулла задал ей вопрос. Она пояснила, что доктор обещал вернуться сегодня утром, но его все еще нет.
— Какая жалость! — воскликнул мистер Бикулла. По-немецки он говорил почти так же бегло, как Эльза. — Вы меня очень огорчили. Я был уверен, что увижу его сегодня.
— Мне тоже жаль, что так вышло, — сказала Эльза. — Да и доктор расстроится, когда узнает, что вы напрасно пришли. Он все принимает так близко к сердцу! И не заставил бы пациента зря приходить.
— Как вы считаете, он еще может приехать позже, сегодня вечером? Например, другим поездом?
— Не знаю, будет ли еще поезд, — засомневалась Эльза, — но могу навести справки. Снимайте пальто и присаживайтесь, а я спрошу об этом миссис Лессинг.
Клэр вышла из гостиной с сигаретой во рту и сказала:
— Мистер Бикулла? Сожалею, что мой муж не приехал. Я не позвонила вам и не предупредила, потому что ждала его к обеду, как он и обещал.
— А теперь он, думаете, уже не приедет? — осведомился мистер Бикулла.
— Боюсь, что так. Он позвонил перед самым вашим приходом и сказал, что останется еще на одну ночь в Шрусбери. Там живет его мать. Она упала и сломала ногу, а в ее возрасте, как вы понимаете, это очень опасно.
— Да, в любом случае хорошего мало, — мрачно проговорил мистер Бикулла.
— Это, видимо, очень болезненно, а кроме того, причиняет столько неудобств!
— Тут все сразу, — согласился мистер Бикулла. — Его отъезд и мне пришелся некстати. Я очень хотел встретиться с ним сегодня! После сеанса психоанализа я собирался пригласить его на коктейль, немного развлечься.
— Если я не ошибаюсь, это вы с ним обедали на прошлой неделе? Он был в восторге. А теперь этот пренеприятный случай расстроил ваши планы на вечер?
— Все самые лучшие замыслы человечества, как правило, не осуществляются, — заметил мистер Бикулла.
— Вам теперь некуда спешить, оставайтесь и выпейте со мной чашку чая! Эльза, принеси нам, пожалуйста, чай!
— Bitte sehr![19]
— Besten Dank, wirklich zu nett von Ihnen![20] — отозвался по-немецки мистер Бикулла, а затем обратился к Клэр по-английски: — Вы очень добры. Я с удовольствием выпью с вами чаю.
— Вы говорите по-немецки? — спросила она. — До появления Эльзы в нашем доме я не понимала ни слова на этом языке.
— В Бейруте, где я жил какое-то время, — ответил мистер Бикулла, — даже уличные мальчишки говорят на двух-трех, а то и четырех иностранных языках. Не слишком бегло, самую малость, самые необходимые выражения.
Минуту, если не больше, она очень громко, чтобы скрыть свое смущение и удивление, смеялась над его рассказом о преждевременном развитии молодежи Восточного Средиземноморья. А через некоторое время он пригласил ее вместо мужа в ресторан.
— Поедемте в «Ритц», — предложил он. — Там смешивают неплохие коктейли. По моей теории, пить надо только в лучших барах. Но я расскажу вам об этом позже. А сейчас вам нужно переодеться, не так ли?
— Но я вас почти не знаю, — сказала Клэр, с неприступным видом поджав губы и окинув его недоверчивым взглядом.
— Я вас и вовсе не знал, когда согласился на чай, — сказал мистер Бикулла, — я же не испугался.
— Еще бы!
— Я не толкаю вас ни на что дурное. «Ритц» — вполне приличное место.
— Не слишком ли шикарное место!..
— Ваш муж сказал почти то же самое. Но потом ему там очень понравилось.
— Но сегодня такой туман!
— Не такой уж страшный. Я хорошо вижу в темноте, и мы быстро найдем такси.
— Ладно, только не надолго, — согласилась Клэр. — На полчаса, не больше!
Снисходительная улыбка школьной учительницы сменилась на ее лице наивным выражением просящего о чем-то ребенка. Клэр удалилась в спальню.
Мистер Бикулла, задумчивый и неподвижный, просидел в одиночестве минут двадцать. Клэр вернулась оживленная и похорошевшая, разодетая и напомаженная, как на парад. Свежеокрашенный флагман захватнического флота, подгоняемый попутным ветерком, — такой образ привиделся ему при ее появлении.
— Я вас не очень задержала? — кокетливо поинтересовалась она.
— Не волнуйтесь, — сказал мистер Бикулла, взглянув на часы. — У нас еще масса времени. Сейчас только без четверти шесть.
— Надеюсь, нам удастся поймать такси.
— Удастся, — заверил ее мистер Бикулла. — Мне все удается.
С легким, чуть насмешливым поклоном он раскрыл перед ней дверь, но на пороге ее задержал телефонный звонок.
— О, черт возьми! — воскликнула Клэр. — Подождите минутку, пожалуйста. Надо подойти, возможно, это Джордж. Наверное, что-нибудь по поводу его матери.
— Алло! — сказала она и вдруг рассердилась. — Прости меня, но я не могу прийти сейчас. Я ухожу… Да, Джордж еще не приехал… Не надолго, но не знаю точно, когда вернусь. Как я могу? О Ронни, не будь таким занудой. Я не злюсь, просто собиралась уходить… Да, перезвони попозже, я скоро вернусь… Не сомневаюсь в этом, сейчас все волнуются, ничего страшного… Хорошо, я не забуду. Пока!
— Телефон — не одно только благо, — заметил мистер Бикулла, вежливо ожидавший в прихожей.
— От него одни неприятности, — сказала Клэр и, увидев туман через раскрытую дверь, воскликнула: — Но ведь совсем ничего не видно!
— Не стоит преувеличивать, — ответил мистер Бикулла, покровительственно взяв ее под руку. — Мы можем поймать такси на Уигмор-стрит. Мне всегда везет.
Его самоуверенность оправдалась в тот же миг, но такси почти всю дорогу передвигалось со скоростью пешехода. До «Ритца» они добрались только в шесть восемнадцать. Посетителей в баре было мало, но мистер Бикулла почему-то волновался и не успокоился, пока официант не принес им два больших бокала сухого мартини, заказанного им сразу же, без согласия Клэр. А затем, как и в тот день, когда он угощал Лессинга, мистер Бикулла потребовал еще два таких же бокала.
— Боже мой! — удивилась Клэр. — Вы случайно не американец? С тех пор как они уехали отсюда, никто здесь не пил с такой скоростью. Да, в военное время чего только не насмотришься, но кое-что полезное из войны я для себя все же вынесла. Я не пью так быстро, мистер Бикулла.
— Быстро и не нужно! Залпом можно выпить только первый бокал, а второй — медленно, по глоточку. Чувство жажды прошло, и вы наслаждаетесь вкусом. Это как жизнь, миссис Лессинг. Когда вы молоды, вам не сидится дома, вы ненасытны, вы с разинутым ртом…
— Нет, нет, я не такова!
— Это метафора, миссис Лессинг. Лучший способ передать свою мысль, самый интересный и понятный. Итак, в молодости хочется всюду успеть, словно вас мучает жажда, для утоления которой вы готовы выпить море. Но вот вы становитесь старше и никуда больше не спешите, а просто наслаждаетесь жизнью. Когда я пью, я размышляю о жизни и о том, что я стал мудрее, чем был раньше. Первый бокал поднимем за молодость и осушим до дна! Второй, за здравый смысл и наслаждение, будем пить rallentando.[21]
— Прекрасная мысль! Не помню, чтобы кто-либо рассуждал о напитках так интересно, как вы. Большинство людей, я думаю, пьют от скуки. Вы же вывели настоящую теорию!
— Вы мне льстите.
— Что вы, ни в коем случае! Льстить мужчине… Да мне бы такое во сне не приснилось! Мужчины в этом не нуждаются, уверяю вас, они сами себе льстят на каждом шагу. Я узнала о мужчинах во время войны предостаточно. Каждый показывал себя в лучшем виде. И если мужчина в чем-то не нуждается, так это в лести.
Возможно, несколько болтливо, но с большим воодушевлением Клэр ублажала мистера Бикуллу воспоминаниями о том славном времени, когда она носила военную форму и день за днем возила по летним английским дорогам старших офицеров, очарованных ее греческим профилем и быстрой манерой езды. Ее рассчитанные на публику истории, похоже, производили на мистера Бикуллу должное впечатление, потому что слушал он с глубочайшим вниманием. Но когда геройские россказни уступили место сентиментальным воспоминаниям об утраченном счастье, он сделал знак официанту и тихо, чтобы не перебивать ее, сказал:
— Два сухих мартини, пожалуйста, только на этот раз маленьких.
Минуту назад он посмотрел на часы — так ловко, что Клэр не заметила.
— Еще мартини? — изумилась она. — Не многовато ли?
— Отнюдь нет. Это же совсем мало, — успокоил ее мистер Бикулла. — А когда мы с этим справимся, вы, надеюсь, не откажетесь пообедать со мной. Это доставит мне истинное удовольствие.
— Но мне надо домой…
— Зачем?
— Я же собиралась домой после коктейля.
— Но невозможно же всегда жить по плану. А так как вы одобрили мою теорию опьянения, вы, вероятно, оцените по достоинству и мои взгляды на принятие пищи. Пообедайте со мной хотя бы раз, чтобы проверить, прав ли я.
Он привел еще несколько аргументов, и без нескольких минут семь они встали, чтобы пойти в ресторан.
— Дамская комната там, — прошептал мистер Бикулла.
— Но мне не…
— Мы не спешим, я подожду, — сказал он, и его голос прозвучал так властно, что она с непривычной для себя покорностью пошла в том направлении, куда указывал его палец. Но потом ждать пришлось ей, потому что по ее возвращении мистер Бикулла был все еще без пальто и шляпы. А тем временем со стороны Биг-Бена сквозь туман донесся призрачный звон.
— Нам надо на Арлингтон-стрит, — заявил он. — Там можно поймать такси.
— Слава Богу, туман не стал гуще, — заметила Клэр, глядя на покрытый влагой тротуар. — Или это после коктейля я вижу все в радужных тонах? За рулем нельзя пить, потому что человек делается сам не свой. На работе я не притрагивалась к алкоголю, разве что немного джина перед обедом…
Мистер Бикулла не ответил, замерев в молчаливой задумчивости. Желтая дымка смога застилала его глаза, а лицо казалось сумрачным, как маска актера в античной трагедии. И когда менее чем через минуту он заговорил, его голос звучал трагически, в полном соответствии с обстановкой:
— Здесь нет такси. Надо идти искать. Пойдем! Идем же!
Он решительно повел ее сквозь тьму, окутавшую Пиккадилли, и дальше, через Беркли-стрит, в безбрежный океан тумана, где не было видно береговых знаков и лишь тускло мерцали огни кораблей, стоящих на якоре.
Хотя Клэр все еще была в состоянии легкого опьянения, она начала понимать, что покладистость мистера Бикуллы обманчива, и к ее страху перед мраком, опустившимся на Беркли-сквер, прибавилось легкое чувство досады.
— Ничего не видно! — жаловалась она. — Не имею представления, где мы сейчас.
— В восточной части, — ответствовал мистер Бикулла. — Пока еще все не так плохо. Но будьте внимательны, мы выходим на дорогу. Пересекаем Брутон-стрит. А сейчас будет тротуар.
— Да, я вижу, — сказала Клэр, недовольная тем, что он обращался с ней как с пожилой дамой. В знак независимости она высвободила руку.
— Свернем за угол, — произнес он в нескольких шагах от нее, и Клэр неуверенно последовала за ним.
— Ой! — воскликнула она, натолкнувшись на ограду, остановилась и стала тереть локоть. — Мистер Бикулла! Я вас не вижу. Где вы?
Ответа не последовало, и, вдруг испугавшись, Клэр стала продвигаться на ощупь, протянув руки в поисках опоры. Сходя с тротуара, она споткнулась. На какое-то мгновение ей почудилось, что она потерялась в тумане, и затем из глубин сознания родился беспричинный страх, от которого перехватило дыхание. По ее расчету, она находилась в том самом переулке к северу от Беркли-сквер, где несколько недель назад обнаружили труп Фанни Брюс. Подружка Ронни, проститутка, выходившая на заработки с собакой на поводке. Девушка, которую нашли со сломанной шеей.
Колени Клэр дрожали, сердце громко билось, густой, непроницаемый туман окутал тело словно саваном, и казалось, вот-вот задушит. Охваченная паническим ужасом, она не решалась оглянуться назад и посмотреть, кто был за ее спиной. С плачем она побежала куда-то наугад, пока возглас «Стойте!» не задержал ее.
— Стойте, остановитесь, — кричал мистер Бикулла. — Куда вы направились, миссис Лессинг?
Протерев глаза, она увидела темные очертания и тусклые фары автомобиля, контуры высокой фигуры возле подножки.
— Я заметил такси издали, когда оно сворачивало с Дэвис-стрит, и поспешил остановить, — пояснил мистер Бикулла. — Я покинул вас на минуту, не больше. Чем вы так расстроены?
— Я вела себя как дурочка, — сказала она, запинаясь, словно ребенок, уставший плакать, но пытаясь держать себя в руках. — Я чуть не упала, а потом поняла, что потеряла ориентацию. Я чуть не лишилась сознания. Сейчас мне уже лучше.
— Да, сейчас все в порядке. Все хорошо! Садитесь в машину и отдыхайте. Мы едем обедать!
Клэр не следила за дорогой, не задавала никаких вопросов и очнулась, когда мистер Бикулла уже вел ее под руку к столику в ресторанчике на углу Оксфорд-стрит. Затем, так и не узнав этого заведения, она осведомилась с деланным недоумением:
— Где мы находимся?
— В ресторанчике, который я сам обнаружил, — гордо заявил мистер Бикулла. — Мне никто о нем не рассказывал, никто! Но здесь замечательная кухня и великолепное обслуживание, и сейчас вы в этом убедитесь!
К мистеру Бикулле окончательно вернулось хорошее расположение духа. С видом радушного хозяина он ознакомил свою гостью с меню.
— Взгляните сюда, — советовал он, — можно заказать, например, жареную рыбу с картошкой фри за шиллинг шесть пенсов, телячьи котлеты с овощным гарниром за шиллинг семь пенсов или ростбиф со шпинатом за шиллинг девять пенсов. Цены здесь умеренные, как видите. А на десерт — шоколадную меренгу, кофе «Маршмэллоу» или шоколадное мороженое «Маршмэллоу». Я всегда заказываю оба лакомства и мороженое. Я так люблю сладкое!
— Пожалуй, — сказала Клэр, — я начну с напитков.
— Непременно! Заказывайте все, что хотите. Итак, на чем вы остановились?
Однако, несмотря на все свои старания, мистер Бикулла не смог восстановить прежнюю непринужденную обстановку. Чтобы не казаться невоспитанной, Клэр поддерживала беседу и с притворным вниманием выслушивала его странные анекдоты и теории о красивой жизни. Он ел с аппетитом, а она не притронулась к еде. Внимание Клэр привлекли его на редкость крупные ногти, два или три раза ее взгляд невольно на них останавливался. Ей почему-то стало не по себе. Но она не подала виду, и, когда мистер Бикулла пригласил ее в «Палладиум», куда уже купил билеты, она устало поблагодарила его и сослалась на головную боль. С нескрываемой досадой он понял, что вечер заканчивается, и оплатил по счету.
Заморосил дождь, туман рассеивался. Мокрый асфальт Оксфорд-стрит блестел в темноте. На этот раз они без труда поймали такси, и Клэр, ощутив почти не знакомые ей прежде угрызения совести, сказала, коснувшись его рукава:
— Простите меня, что я такая скучная. Я старалась развеселиться, но, наверное, слишком устала. К тому же у меня разболелась голова.
— Вы были очаровательны, — заверил ее мистер Бикулла.
— Это не так, но не думайте обо мне плохо. Мы ведь с вами еще увидимся?
— Буду рад навестить вас.
На пороге ее дома он с какой-то неуклюжей учтивостью пожелал ей спокойной ночи.
Клэр, раздосадованная, но все же довольная тем, что наконец осталась одна, поднялась к себе и по дороге зажгла свет во всех комнатах. Ребенок спал, Эльза тоже давно легла. Клэр сняла шляпу, надела домашние туфли и поставила чайник. Она зевнула и хотела открыть новую пачку сигарет, когда зазвонил телефон.
— О Господи! — воскликнула она. — Когда-нибудь закончится этот проклятый вечер?
Она с ненавистью уставилась на телефон, но трубку не снимала. Своей упрямой настойчивостью звонок все-таки одержал верх, и, в ярости подняв трубку, она услышала знакомый голос.
— Да, — сказала она. — Я так и думала, что это ты.
Глава XI
Через десять минут приехал Ронни и обнаружил, что входная дверь открыта. Мокрые шляпу и плащ он повесил на вешалку в прихожей. Возле гостиной он столкнулся с Клэр, выходившей из спальни. Она уже переоделась и была в своем старом домашнем халате. Клэр смыла макияж и будто нарочно, чтобы не выглядеть привлекательной, наложила на лицо жирный крем, отчего ее лоб и щеки неприятно лоснились.
— Ты закрыл за собой дверь? — спросила она.
— Да, конечно.
— Что случилось? — осведомилась Клэр, пристально глядя на него. — Выглядишь ты ужасно.
— Это был самый худший день в моей жизни. Я побывал в аду.
— Так, садись. Чай будешь пить?
— Нет, не буду. Хотелось бы знать, где ты была весь вечер. Я звонил тебе три или четыре раза. Последний раз — из телефонной будки. Я вышел прогуляться. Мне было так плохо, что я ушел из дома.
— Что случилось, Ронни?
— Я не уверен, случилось ли вообще что-нибудь, и это самое ужасное. Где ты была?
— Вышла пообедать, это не имеет к тебе никакого отношения.
— Ладно. У меня нет сил с тобой ругаться.
Ронни сделал нетвердый шаг к столу и плюхнулся на стул. Он откинулся на спинку, и лампа высветила морщинки на его безжизненно-бледном лице. Клэр смотрела на него враждебно и тревожно. Наконец он печально заговорил.
— Я в жизни никогда не питал иллюзий, — начал он, — и представления не имею, зачем мы живем на этом свете. Жизнь бестолковая, грязная и в общем бессмысленная штука, и мы в ней — какие-то мухи или жуки, кружащие над зловонным озером. Но все не совсем так, хотя так думать понятнее и проще. Жизнь гораздо сложнее, потому что иногда в ней встречаются люди, которые вроде бы знают, для чего вся эта возня, и считают такое положение вещей разумным. Как мой отец, например. Эти люди, по-моему, из прошлого, из вымирающего поколения. Я вовсе не считаю, что они правы. Я никогда не возлагал на них особых надежд. Но они существуют, и невозможно от них отмахнуться. В некотором смысле они внушают доверие, хотя мы не верим в то, что они нам говорят. Но когда выясняется, что они врут и лицемерят и, как все остальные, способны на мерзкий поступок, мы испытываем чудовищное потрясение. Ты понимаешь, о чем я?
— Нет, — сказала Клэр.
— Если не захочешь понять меня, то и не поймешь. Значит, я напрасно пришел сюда. Но мне больше некуда было податься.
— Тебе надо выпить, — заметила Клэр. — Я купила утром бутылку джина.
Она вышла и вернулась через минуту с подносом, на котором позвякивали два бокала.
— Есть бутылка джина, полбутылки плохого вермута, якобы французского, и вода, — сообщила она, — больше ничего нет.
Ронни встал, наполнил стакан джином на три пальца, добавил немного воды и выпил залпом.
— Если тебе очень плохо, я тоже выпью, — сказала Клэр.
— Ты знаешь моего отца, — проговорил Ронни. — Как ты считаешь, он способен на… ну, в общем, на преступление?
— Я считаю, что нет ничего невозможного, но его трудно заподозрить в чем-то предосудительном. Нет, ей-богу, вряд ли.
— Нет ничего невозможного, — повторил Ронни. — Именно это выбивает почву из-под ног.
— Ты что-то узнал о нем?
— Я не уверен, — ответил Ронни, наливая себе еще джина с водой.
— Налей и мне тоже.
— Не пей слишком много. Я хочу, чтобы ты слушала. Помнишь, я говорил о Фанни Брюс?
— О Господи, конечно, помню. Я вспоминала ее сегодня в тумане. Хорошо, продолжай.
— В тот роковой вечер, прежде чем расстаться с ней, я дал ей пять фунтов. Да, пятифунтовые купюры под ногами не валяются, по крайней мере у меня, и я обратил внимание на номер, который стоял на той бумажке. Номер был удивительный — 0 13 575310, цифры вначале увеличиваются по восходящей, а затем уменьшаются, и я невольно запомнил их порядок. Но когда велось следствие, не было даже упоминания о деньгах, найденных при ней, и я тоже ничего не сказал, потому что понял — чем меньше говорить, тем лучше для меня.
— Но если ты дал ей пять фунтов, а когда тело нашли и при нем не было денег, это значит, что ее убили и ограбили. Убили ради денег. Это как раз говорило бы в твою пользу.
— Они бы мне не поверили. Они спросили бы, где я взял эти деньги, и мне пришлось бы ответить: в Харрингее. Это стандартный ответ, и никто бы не поверил. Я решил ничего не говорить.
— Но к чему ты вспомнил об этом сейчас?
Ронни извлек из внутреннего кармана потертый сафьяновый бумажник и достал из него сложенную вдвое пятифунтовую купюру.
— Это то, что я ей дал, — сказал он. — Вот номер: 0 13 575310.
— Откуда она у тебя?
— От моего отца. Он дал мне ее позавчера.
— Как это случилось?
— Я пришел к нему, чтобы он помог мне получить работу, которую мне обещали, если я найду двести пятьдесят фунтов. В общем, он отказал, но дал несколько фунтов, чтобы от меня отделаться. И в том числе эту пятифунтовую бумажку. Я ее не разглядывал до вчерашнего дня, а когда увидел номер, то решил, что схожу с ума. Это та же самая купюра, как видишь.
— Но неужели ты думаешь, что…
— Да ничего я не думаю! Но я дал ей пять фунтов, а кто-то ее убил и забрал эти деньги, а теперь они опять у меня. И получил я их от отца!
— Но даже если бы он убил ее — как это нелепо звучит! — и взял деньги, он бы не дал их тебе! Опомнись, Ронни, он все равно останется джентльменом, даже если превратится в убийцу! Он бы так не поступил.
— Ну, так и быть — он их мне не давал, — признался Ронни. — Я сам взял. Вытащил из его бумажника. Он заявил, что не даст мне двухсот пятидесяти фунтов, которые я бы все равно ему вернул, и потому я взял то, что попалось под руку, то есть эту пятерку и три купюры по одному фунту.
— Ты же вор!
— Знаю. Я знаю, что собой представляю, и не о чем тут переживать. Мне он не был симпатичен, но я в него верил. А теперь…
— Но ведь есть и другое объяснение, Ронни! Возможно, ему кто-то дал эти деньги.
— Он мог взять их у нее!
— Только не твой отец. Он — сама честность и порядочность.
— Я сказал ему в тот день: «У тебя есть незаслуженное преимущество. Ты безупречен во всем». «В жизни так не бывает», — ответил он мне. «Ты можешь оглянуться на свою жизнь без чувства вины и стыда», — сказал я, на что он ответил: «Ах, если бы это было так!» Это, конечно, может быть просто позерство, игра в благородство и достоинство. Но меня насторожило другое: он, мол, всегда знал, что я невиновен, — вот что он сказал.
— Но ведь так и есть!
— Разумеется. Но откуда ему это знать, если бы он не знал, кто настоящий убийца? Неужели он поверил мне на слово?
— Твое слово ничего, значит, не стоит?
— Те времена, когда мое слово чего-то стоило, увы, прошли.
— Но зачем ему было убивать? У него нет на то никаких оснований! Не думаешь же ты, что он из тех, кто может убить девушку в надежде на то, что найдет пятифунтовую купюру в ее чулке!
— Я хотел жениться на ней, — сказал Ронни и налил себе еще джина. — Я говорил тебе, что она была влюблена в меня, но не уверен, знаешь ли ты, что я тоже ее любил. Да, представь себе. Я был влюблен в нее, а так как я никогда прежде не хотел ни на ком жениться — даже на тебе! — я решил познакомить ее с отцом. Мне хотелось, чтобы все было как положено, чтобы ничего не оставалось в тайне. Я не сказал ему, что она проститутка, и не предполагал, что он догадается. Но он понял это. Он не подал виду и был вежлив с ней, как аристократ с незнакомой особой, которую игнорируют на званом вечере. Но потом он мне все сказал, и я чувствовал себя как побитая собака. Он спросил меня, уж не намерен ли я жить на ее заработки, и так насел на меня, что мне пришлось поклясться, что никогда ее больше не увижу. Но я, конечно, продолжал с ней встречаться, и однажды мы на него наткнулись. А на следующий день я получил от него письмо. Он писал, что обдумывает шаги, которые можно предпринять, чтобы спасти меня от окончательного падения.
— Это еще ни о чем не говорит.
— Лучшее, что он мог сделать, — это убрать ее с дороги.
— Но не убить же!
— Он приговаривал людей к смерти в Индии.
— Безумие думать, что он способен на такое.
— Меня сводит с ума мысль, что он мог это сделать. Если это не он, то откуда же у него купюра?
— Да откуда угодно. Ему ее мог дать Джордж.
— Каким образом?
— Джордж купил у него картину — вот эту, — и я почти уверена, что он собирался расплатиться за нее пятифунтовой купюрой. Или, возможно, это была часть цены. Не знаю, сколько она стоила.
— И ты думаешь, Джордж послал ему ту самую купюру?
— Ничего я такого не думаю.
— Тогда что ты хочешь сказать?
— То, что я уже говорила: он мог взять ее где угодно.
— Как еще у него могли оказаться пять фунтов, спрятанные в чулке проститутки? Скорее всего, он взял их сам. И если это так… о Боже! Я этого не перенесу!
— Ронни! Бедный Ронни! Выпей еще.
— Что мне делать с этой проклятой купюрой? Я сожгу ее!
— Нет, не делай так. Это глупо.
— Не могу хранить ее у себя.
— Дай мне, я ее обменяю.
— Я не могу держать ее у себя. Я этого не переживу.
— Понимаю.
Клэр встала, нетвердой походкой подошла к столу, где лежала ее сумочка, и сказала:
— У меня три, нет, четыре фунта. Четыре фунта, семь шиллингов и шесть пенсов. Это все, что есть, Ронни. Я отдам тебе остальное в другой раз.
— Хорошо. Я не могу хранить ее у себя.
— Конечно, дорогой, но я не вижу в этом ничего страшного. Абсолютно ничего. Потому что не верю, что твой отец совершил нечто подобное и что он вообще способен на такое.
— Я сидел и думал в полном одиночестве, сидел и думал, пока мне не стало казаться, что схожу с ума. Ты знаешь, что за человек мой отец.
— Я его прекрасно знаю. И считаю, что ты ошибаешься.
— Мне больше некуда было идти и не с кем поделиться.
— Теперь тебе легче, так ведь? Потому что ты совсем, совсем неправ, и сейчас, мой бедный Ронни, я налью тебе еще джина, а потом ты пойдешь домой.
— Джордж приезжает сегодня?
— Нет, он все еще в Шрусбери. Его мама сломала ногу…
— Тогда я останусь здесь.
— Нет, ни в коем случае!
— Не гони меня. Иначе ты потеряешь меня навсегда и никогда больше не увидишь. Впрочем, я и так уже пропал. Я погиб! Каждый, чей отец — убийца, может считать себя погибшим человеком.
— Ты пьян, Ронни. И потому тебе так плохо.
— Ты не лучше. Разве ты не пьяна?
— Хоть раз попытался бы вести себя прилично. Ты находишься в моем доме…
— Будь проще, Клэр. Ты ведь знаешь, кто мы такие.
Глава XII
Клэр проснулась разбитая и злая и, вспомнив о немытых бокалах и грязных, заваленных окурками пепельницах в гостиной, торопливо оделась, чтобы прибраться раньше, чем проснется Эльза и увидит весь этот беспорядок. Открыв окно, она впустила в комнату утренний воздух. Вчера они поступили крайне неосмотрительно, и теперь страх разоблачения мучил ее — никогда прежде она не прибиралась в такой спешке, а головная боль удваивала ее мучения. Даже зеркало было безжалостно к ней.
Она вернулась через некоторое время с чашкой чая и разбудила Ронни.
— Не шуми, — шепотом сказала она. — Вчера мы вели себя как круглые идиоты, но пока Эльза, по-моему, ничего не заподозрила. Я встала вовремя и успела навести порядок.
— Она австрийка. Ее ничем не удивишь.
— Напрасно так думаешь. Она порядочная девушка, встает в семь утра, чтобы попасть на утреннюю службу.
— Ладно, что я должен делать?
— Оденься, только тихо. Главное — не шуметь. Я сейчас отправлю ее за покупками. Она это любит. И тогда ты сможешь выйти.
— Я не тороплюсь. У тебя есть свежие газеты?
— Сейчас принесу.
Клэр принесла «Таймс» и «Дейли экспресс», причесалась и вышла из комнаты. Как ни в чем не бывало, поговорила с Эльзой, одела и накормила Клариссу. Примерно через час она вернулась в спальню и увидела, что Ронни лежит на кровати в рубашке и брюках, уткнувшись лицом в подушку. Газеты валялись на полу.
— Просыпайся, — раздраженно сказала она. — Тебе пора идти.
Он не ответил, и, когда Клэр стала тормошить его за плечи, Ронни повернул к ней по-детски беспомощное лицо в красных пятнах от плача и произнес:
— Я больше никогда не засну.
— Прекрати кривляться, — разозлилась Клэр. — Ты вчера вдоволь наговорился, у меня не хватит терпения, чтобы еще раз все это выслушивать.
— Почитай газету.
Она подняла с пола «Экспресс» и прочитала заголовок: «СМЕРТЬ НА ПИККАДИЛЛИ. Трагическая гибель бывшего губернатора».
«Жертвой самого густого тумана в этом году, — читала она, — стал сэр Симон Киллало, видный политический деятель, правитель индийских колоний. Бывший губернатор упал и разбился насмерть у станции метро на Грин-парк.
Трагедия произошла без очевидцев, тело покойного было найдено на ступеньках лестницы у входа в гостиницу „Пиккадилли“. Вероятно, упав головой вперед, покойный разбил лицо и скончался от перелома шейных позвонков…»
Она села на кровать рядом с Ронни, запустив пальцы в его волосы.
— А мы в это время пили джин, — сказала она.
— Мы говорили о нем. Именно мысли о нем привели меня сюда. Когда я пришел, он был уже мертв.
— Что я могу сказать на это? — спросила она. — Что толку в моих соболезнованиях?
— В «Таймс» напечатали некролог, — проговорил он.
На седьмой странице она нашла статью почти в полколонки и стала читать:
«Сэр Симон Киллало, кавалер ордена Индийской империи и „Звезды Индии“, о чьей вчерашней случайной гибели в густом тумане сообщается повсеместно, посвятил много лет своей жизни государственной гражданской службе в Индии и достиг замечательных успехов на этом поприще. Родившийся в 1886 году, сэр Симон Киллало, сын ныне покойного генерал-майора, вице-консула, кавалера ордена Индийской империи, „Звезды Индии“ и ордена Бали, Ф. Г. Ст. Дж. Киллало, пережил всех своих братьев и сестер…»
— Ненавижу некрологи! — воскликнула она, откидывая газету в сторону. — В них пишут только о прошлых великих достижениях. Они лишают жизнь всякого смысла.
— Меня там тоже упомянули, — заметил Ронни. — «Покойный оставил после себя сына». Надо было добавить, «которого он ненавидел и презирал».
— Это не так.
— Увы, это так. Именно в этом заключалось преимущество моего отца передо мной. Я его всего лишь ненавидел. Особенно сильно ненавидел его, когда гордился им. Если бы я узнал нечто такое, что опорочило бы его, — например, какой-нибудь мерзкий поступок, — мне бы стало намного легче. Я почти желал, чтобы он оказался убийцей Фанни. Сейчас мне не было бы так тяжело.
— Бога ради, хватит стонать.
— Действительно, какой теперь смысл строить гипотезы. Мы никогда не узнаем правды. А сейчас, как я понимаю, ты хочешь, чтобы я ушел, пока дорога свободна.
Он сел и обулся. Клэр спросила:
— Что ты сейчас будешь делать?
— Разве это имеет значение? — ответил он. — Теперь уже неважно.
Глава XIII
Одетая в траур Клэр бросила одобрительный взгляд на свое отражение в большом зеркале и пришла к выводу, что черная шляпа ей, пожалуй, идет. Черный цвет был ей к лицу, а легкий макияж оживлял ее холодные черты.
— Все утро, — торжественно и мрачно произнесла она, — я думала, что на месте несчастного сэра Симона могла бы быть твоя мама.
— Моя мама проживет еще лет десять, — раздраженно ответил Лессинг.
— Я знаю, что она прекрасно себя чувствует, но тем не менее опасность не миновала. В ее возрасте…
— Если бы я не уехал оттуда, ее жизнь в самом деле была бы в опасности. Прошлым вечером я чуть было не схватил шприц для инъекций.
— Дурные у тебя шутки, — холодно заметила Клэр. — Так или иначе, сейчас не время шутить.
Она вышла, а Лессинг продолжил заниматься своим туалетом. Он искал костяную пилку для ногтей, с помощью которой он обычно увеличивал петли для запонок на крахмальных воротничках. В поисках он по привычке заглянул в кожаную сумочку, из которой Клэр только что переложила несколько мелких предметов в другую сумку, из черного шелка, более подходившую к ее траурному наряду.
В сумке был кармашек, откуда выглядывал уголок сложенной вдвое бумажки. С удивлением он вытащил пятифунтовую купюру и, разгладив ее, пришел в полнейшее замешательство. Недоумение парализовало разум, и в первое мгновение он даже не пытался найти какую-то связь между знакомой ему купюрой и сумочкой жены. Даже через минуту он не мог взять в толк, какое отношение могут иметь друг к другу оба предмета. Лессинг хорошо помнил эту купюру, чей номер невозможно было забыть. Он отправил ее, хотя и с опозданием, сэру Симону Киллало, на чьи похороны он сейчас собирается. И вот она снова в его руках, в праздном любопытстве он извлек ее из сумочки жены и не видел абсолютно никакой взаимосвязи между отправкой этой купюры по назначению и ее возвращением.
Затем его сознание начало проясняться, и он нашел вполне возможное, но очень неприятное для него объяснение. У сэра Симона был сын — сын, которого с Клэр связывала слишком крепкая дружба. А что, если Ронни — разносчик болезни, имя которой «супружеская неверность»? Лессинг почувствовал, как темная волна ревности, порожденная подобной жуткой мыслью, прокатилась по его жилам и затопила грудь и сердце заколотилось быстро-быстро, как водяная мельница. Лессингу и прежде доводилось бороться с этим наваждением, противостоять бурному потоку, несущему его к острову, населенному безумцами. Громадным усилием воли он повернул поток вспять, и встал на твердую почву здравого смысла. Клэр, возможно, даст иное объяснение, вполне невинное и удовлетворительное.
— Клэр! — крикнул он, открыв дверь. — Откуда взялась эта купюра?
— Где ты ее нашел? — спросила она.
— В твоей сумочке. Я искал пилку для ногтей…
— Ты мне ее дал.
— Когда?
— Не помню, — сказала она, нервно разглаживая мятую купюру. — Хотя нет, помню! Две или три недели назад. Я собиралась обедать с Ронни и попросила у тебя деньги, потому что думала, что у него, как всегда, их нет. Но он оказался при деньгах, и я ничего не потратила. Но забыла вернуть тебе купюру.
— Я действительно дал тебе тогда пять фунтов, — ответил он, — и ты, конечно, не вернула мне ни пенни. Но это не та купюра, которую я тебе дал.
— Как не та? Если ты нашел ее в моей сумке, то это может быть только она.
— Я запомнил ее номер, — сказал Лессинг, — он поразил меня порядком цифр. И мне вздумалось расплатиться этой купюрой с сэром Симоном за картину, которая теперь висит у нас.
— И ты расплатился?
— Ты не понимаешь простых слов?
— Когда ты ее отдал?
— Я написал ему записку и вложил купюру в конверт.
— Это точно?
— Несколько дней я не помнил о письме, но в конце концов отправил…
— Ты, наверное, положил не ту купюру!
— Я не допускаю подобных ошибок.
— Никогда?
— Таких — никогда.
— Но на этот раз ты ошибся! Ты и сейчас допускаешь ужасную ошибку! Ведь это та самая купюра, которую ты мне дал, и я не понимаю, почему ты решил сделать это поводом для нелепой ссоры. Или тебе так хочется поругаться, что ты готов закатить скандал на пустом месте!
Ему снова стало не по себе, тяжкие сомнения мешали сосредоточиться, ревность терзала.
— Когда, — спросил он, стараясь сохранить самообладание, — ты в последний раз видела Ронни?
— В тот вечер, — сказала она, — когда мы вместе обедали.
— И с тех пор ни разу?
— Ни разу!
Он не ответил, и она невольно умерила свой апломб. Нервно шевеля ногой пушистый ворс ковра, проговорила:
— Он звонил раза два, предлагал встретиться, но я не пошла. Я знала, что ты будешь недоволен.
— Жаль, что я этого не знал, — ответил он.
— О, Джордж! — взмолилась она. — Зачем ты изводишь себя всякими унизительными сомнениями и подозрениями? Не знаю, в чем ты меня подозреваешь на этот раз, но, ей-богу, я не давала никакого повода! Если бы ты только мог мне поверить…
— Да, конечно, — сказал он, высвобождаясь из ее объятий и уклоняясь от поцелуя, — я опять не прав.
Пять минут назад он был готов взорваться от злости и вдруг почувствовал, что не в силах продолжать бессмысленную ссору.
— Я опять не прав, — повторил он, — но сейчас у меня нет времени на оправдания. Я ищу костяную пилочку для ногтей. Вечно эти воротнички возвращают из прачечной жесткими, как камень, или, наоборот, мягкими, как тряпка. И что только они с ними делают?
— Вот она, — сказала Клэр, порывшись в сумочке.
— Почему ты не положила ее на место?
— Извини, — проговорила она.
Он наконец закончил свой туалет, и, выйдя из дома, они в молчании, нарушаемом только примирительными восклицаниями Клэр, сели в машину и отправились в крематорий в Голдерс-Грин. Сквозь облака просвечивало бледно-голубое небо и солнце. У западного входа в крематорий маленькими группками толпились тридцать или сорок человек в черных одеждах. И хотя внешне они не были похожи друг на друга, между ними было что-то общее, какое-то неуловимое сходство.
Лессинг оставил машину там, где показал ему служитель, и, с трудом преодолевая робость, направился к этой компании; Клэр же, для которой шесть лет в армии не прошли даром, держалась очень уверенно, как если бы она вышагивала на параде перед наделенными властью, но хорошо знакомыми ей офицерами. На похоронах присутствовало не более полудюжины женщин, Клэр была одета лучше всех.
Осмотревшись, Лессинг начал понимать, в чем заключалось сходство всех друзей сэра Симона: долгие годы могущества и власти отложили на них отпечаток. Среди них были высокие и низкие, пожилые и грузные, крепкие и стройные, — как и бывший вице-король в их числе, но все они абсолютно бессознательно и неумышленно держались как люди из другого мира. Лица некоторых сохраняли желтоватый индийский загар, властное выражение и презрительный изгиб тонких губ, но виднелись здесь и скромные неприметные физиономии тщедушных малорослых мужчин, хотя в их любезной улыбке тоже проглядывала не меньшая уверенность в себе. Широкоплечие темнобровые красавцы и стареющие львы. Все они служили государству, и власть пометила каждого.
Казалось бы, равнодушно и безучастно все эти джентльмены тихо переговаривались в ожидании, пока откроются двери, и, хотя Клэр, вовсе не смущенная тем, что она никого из них не знает, втолкнула Лессинга в центр самой большой группы, ему их речи вначале показались невнятным бормотанием. Но после того как он некоторое время в растерянности постоял среди них, слова зазвучали более отчетливо, его ухо настроилось на фразы, соединявшиеся в нечто, похожее на погребальное песнопение.
— Мир, в котором он жил, остался в прошлом. И никому до этого нет дела. Никому нет дела. Я познакомился с ним в Дераисмаилхане. Мы служили вместе в Мадрасе. Бунт в Джаландхаре, он подавил его. Говорят, он в свое время сблизился с Махасабхой. Но Джина доверял ему. Он начал достойно, старомодно, с путешествия в телеге, запряженной волами, знакомился с людьми. Знал страну от Бутана до Малабара. Построил две больницы, три школы. Проложил дорогу. Провел воду в пустыню. В молодости он говорил, что суд должен быть как открытая площадка для игры в поло. Говорят, какое-то время он сотрудничал с Мусульманской лигой. Но оба Неру[22] доверяли ему. Он отстаивал права неприкасаемых. Сейчас никому до этого нет дела. Никому. Знакомый ему мир, тот мир, во имя которого он жил, остался в прошлом…
— Дорогой мой доктор! Миссис Лессинг! — раздался вдруг более земной голос. — Я так рад вас видеть! Я искал, но не встретил ни одного знакомого мне человека, пока не заметил вас! Как я счастлив, что вы здесь, — если, конечно, при таких прискорбных обстоятельствах можно быть счастливым!
Мистер Бикулла выделялся на фоне остальной публики. Его костюм подходил к торжественному случаю, но все-таки больше напоминал свадебный наряд, чем траурный. Цилиндр мистера Бикуллы блестел слишком сильно, брюки были в слишком заметную полоску, а в петлице красовалась белая хризантема. В руках он сжимал аккуратный квадратный сверток в коричневой бумаге, что было совсем уж неуместно. Лессинг, несмотря ни на что, не скрыл своей радости, но Клэр, более чувствительная к этикету, холодно улыбнулась и отошла на шаг назад.
Мистер Бикулла понизил голос.
— Изысканное общество собралось проводить несчастного сэра Симона в последний путь, — сказал он. — Не так уж много персон, зато самые избранные. Да… Вы прекрасно выглядите, миссис Лессинг, и вы, доктор, прекрасно одеты. Это, конечно, ваш собственный костюм?
— Да, разумеется, — ответил Лессинг.
— А я взял свой напрокат по такому случаю. Но, думаю, никому не догадаться, что он не сшит на заказ. Отлично сидит на мне, не правда ли?
Из крематория вышли немногочисленные участники предыдущей церемонии, и появившийся на пороге служитель тихо и без липшей суеты позвал собравшихся внутрь. Они зашли, стараясь ступать как можно тише. На первой скамье, ссутулившись, сидел Ронни Киллало в синем потрепанном костюме. На значительном расстоянии от него гордо возвышалась прямая спина невестки сэра Симона. Ее недолюбливал как Ронни, так и с сам покойный. Епископ, сухощавый старик, когда-то служивший в Индии, вел службу голосом, напоминавшим завывания ветра в листве густых деревьев. «Безрассудный! — говорил он, — то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет». И мистер Бикулла, сидящий между Лессингом и Клэр, еле слышно пробормотал что-то и качнул головой в печальном, но несомненном согласии.
«Сеется тело душевное, восстает тело духовное», — сказал епископ, и Лессинг, задумавшись о справедливости этого утверждения, вспомнил своих пациентов и забыл о сэре Симоне. Апостол Павел, размышлял он, имел большие основания изречь чуть раньше: «Не всякая плоть такая же плоть…»
Гроб под покрывалом и бледными венками уплыл, как корабль, и процессия во главе с Ронни и неприветливой невесткой покойного направилась к выходу. В церкви оказались знакомые невестки, и на их соболезнования она отвечала с дерзкой беззастенчивостью; несколько самых старых участников процессии, знавших сэра Симона почти всю его жизнь, высказались очень кратко и с нескрываемой неприязнью к Ронни. Остальные с явным облегчением быстро зашагали к дверям и сразу сели в машины.
Клэр нерешительно сказала:
— Как ты считаешь, стоит подвезти Ронни до дома?
Но Лессинг наотрез отказался и пригласил с собой мистера Бикуллу. Тот явно ожидал такого предложения и с готовностью принял его, а так как он стал уже едва ли не членом семьи, то поднялся с Лессингами в квартиру и церемонно преподнес Клэр аккуратный сверток в коричневой бумаге, взятый им с собой на похороны. Развернув бумагу, Клэр обнаружила коробку рахат-лукума.
— Из сладкого лукум мое самое любимое лакомство, — заявил он, откусив кусочек. На его губах остались следы сахарной пудры. — А этот, уверяю вас, высшего сорта. Его прислали мне деловые партнеры из Бейрута.
— Но не можем же мы взять себе все, если он вам так нравится, — запротестовала Клэр.
— Не волнуйтесь, у меня еще много. Мне его часто присылают, — заверил ее мистер Бикулла, стряхнув носовым платком с колен сахарную пудру.
Ненавязчиво, но с уверенностью, что его слушают, он стал рассказывать о своих любимых блюдах средиземноморской кухни. Клэр действительно слушала с большим вниманием все, что он говорил, льстила ему и всячески поддерживала беседу. Ей явно не хотелось оставаться со своим мужем наедине. Была суббота, Лессинг не ждал пациентов, а после мучительных раздумий он, скорее всего, снова бы вернулся к опасной теме пятифунтовой купюры. И сам Лессинг, знавший, что не сможет избежать этой темы, с ужасом ждал очередного накала страстей и взаимных обвинений и поэтому тоже радовался обществу мистера Бикуллы, хотя вначале и не проявлял особых эмоций. Так или иначе, Лессинг и Клэр были единодушны в желании видеть его своим гостем.
Они долго разговаривали о сэре Симоне. Клэр возвела в степень тесной дружбы свои случайные контакты с ним, а мистер Бикулла, заговорив о вечерах, проведенных с покойным в «Бовуар Приват Отеле», не постеснялся слез. Ему не хотелось там больше жить: не вынести одиночества без сэра Симона. Поэтому он сдал свою комнату и с завтрашнего дня переберется в отель «Чаринг-Кросс».
— Конечно, всего лишь на пару дней, — пояснил он, — пока я не найду более подходящего для себя места жительства. Пока не могу сказать вам, где остановлюсь. Я — скиталец, миссис Лессинг, и самый неутомимый человек на земле. Люблю странствовать по свету.
Клэр уговорила его остаться на ужин, и он согласился на том условии, что они пойдут с ним в «Палладиум», куда он, естественно, уже купил билеты.
— В этом костюме? — спросила она.
— Почему бы и нет? — не смутился мистер Бикулла. — Я же оплатил прокат костюма на весь день!
Он взглянул на свои брюки отнюдь не траурной расцветки и добавил:
— Одолжите мне серый галстук, доктор. Если у кого-нибудь возникнут вопросы, пусть думает, что я был на свадьбе.
Глава XIV
Это напоминало грозу, бушующую вдалеке за холмами. Она готова разразиться и над равниной, но никак не соберется с силами. Хотя раскаты грома уже слышны, молния еще не сверкнула и не сразила намеченную жертву. Таково было настроение Лессинга: сомнения его одолевали, но они были еще не столь сильны, чтобы его сразить. На протяжении всего воскресного дня его не покидали мысли о странствиях сложенного вдвое билета банка Великобритании, хранящегося ныне в его бумажнике. От него, Лессинга, билет попал к сэру Симону, от сэра Симона — к Ронни, а от Ронни — к Клэр (это было очевидно, несмотря на все ее отпирательства). Последнее путешествие денежного знака красноречиво свидетельствовало о ее неверности и лживости. Но правда ли все так и было? Он ни в чем не был уверен.
Снова и снова Лессинг пытался восстановить в памяти тот вечер, когда он, сжимая в руках две пятифунтовые купюры, размышлял, какую из них дать Клэр, а какую приберечь для сэра Симона, чтобы заплатить ему за картину с изображением тхага. Он оставил, как ему казалось, ту, с памятным номером, но мог ли он положиться на свою память? Он забывал, дважды забывал отправить письмо сэру Симону, и, если память подвела его в тот раз, не могла ли она подвести и теперь?
Привычные сомнения, мучительные, как зубная боль, не позволяли Лессингу постараться уличить Клэр во лжи и в измене, но она по-прежнему оставалась под подозрением. Он метался между малодушной яростью и унизительным страхом — яростью, которую он трусливо подавлял, и опасением, что Клэр признается в том, чего он так боялся. Как утопающий, то взлетающий вверх на гребне безжалостной волны, то стремительно падающий вниз, он задыхался и потому не мог ничего сказать.
Клэр тоже не решалась заговорить о том, что терзало ее не меньше, чем мужа. Она не упоминала об этой злосчастной купюре, не спрашивала, откуда он ее впервые получил, потому что боялась вместо ответа услышать нежелательные вопросы. Клэр испытывала более холодный, сдержанный страх, похожий на ощущения одинокого альпиниста, застывшего над краем бездны: снежная буря застигла его врасплох, но он не зовет на помощь, потому что боится разбудить спящую лавину. Клэр понимала, что выбрала нечестный путь, и старалась не упоминать об этом и молилась богам, в которых не верила, чтобы Лессинг не вернулся к этой теме. Клэр не любила терять время даром и, видя в богатстве матери Лессинга свое счастливое будущее, а в Ронни — угрозу этой перспективе, она на протяжении всего этого мрачного и тревожного дня мысленно составляла его портрет из лоскутков злобы и ненависти. С негодованием она думала о его власти над ней, с отвращением вспоминала все его слабости и старалась опорочить в собственных глазах его внешнюю привлекательность и его дешевое, но обезоруживающее обаяние.
Вскоре после шести Лессинг ушел навестить, как он сказал, своего коллегу, доктора Харроу. Он проявил недюжинную изобретательность, заявив, что им нужно составить план следующего собрания комитета, в котором они заседают; на самом деле он вышел только для того, чтобы бесцельно побродить по улице. Собственной квартире, где им стало тесно вдвоем, он предпочел лондонские тротуары.
Примерно через полчаса из Брайтона позвонил Ронни. Он сказал, что поехал в Брайтон, потому что хотел обдумать ситуацию в спокойной обстановке, а в Лондоне это сделать непросто. В его голосе слышалась нахальная самоуверенность, Клэр поняла, что он пьян, и поджала губы от злости. Ронни объяснил, что остановился в маленькой гостинице вместе со своим другом Хэем.
— На какие деньги ты поехал в Брайтон?
Ронни расхохотался в ответ, и его речи зазвучали еще более самоуверенно. В мире тьма денег, хвастливо заявил он, надо только знать, где они хранятся. В похоронном бюро, где он побывал в связи со смертью отца, ему встретился отставной сержант-квартирмейстер, с которым они вместе служили в Каире. И Ронни занял у него пятнадцать фунтов, якобы для того, чтобы заплатить за венки, которые стоили двадцать фунтов. А эту сумму вычтут из стоимости имущества отца.
— Боже мой, — воскликнула Клэр, — до чего же ты циничен!
Произнеся эти слова, она подумала, как часто ему приходилось слышать их от нее и как мало они значили для них обоих.
— Жить надо в свое удовольствие, — ответил Ронни, а затем, настроившись на более серьезный лад, спросил: — Джордж дома? Можно с ним поговорить?
— Нет, он ушел. О чем ты хотел с ним говорить?
— Я как раз собирался тебе это объяснить. Ты знаешь, что именно меня беспокоит, и я вдруг подумал, что мне нужен сеанс психоанализа, — говорил он, со свистом заглатывая слюну. — Я не знаком с другими психоаналитиками и поэтому хочу поговорить об отце именно с ним…
— Ты не посмеешь сделать этого!
— Посмею! Тебе не остановить меня. Я открыто его спрошу, мог ли мой отец убить Фанни Брюс.
— Ронни, ты пьян! Ты хуже пьяного! Только сумасшедший может думать, что…
— Замолчи! — Ронни закричал так, что в трубке задребезжало. — Не смей так со мной разговаривать! Я не сумасшедший и не сойду с ума, потому что именно сейчас делаю все, чтобы этого не произошло. Я не могу так больше жить, думать о нем с утра до поздней ночи и не узнать правду. Надо что-то делать. Надо разобраться во всем. Джордж психоаналитик…
Клэр держала трубку на некотором расстоянии от уха и слушала его все менее и менее внимательно. Я могу положить этому конец и за несколько секунд привести его в чувство, думала она. Это Джордж послал его отцу пять фунтов. Стоит только сказать ему об этом и… Но я не сделаю этого! Ронни все равно захочет увидеться с Джорджем. Он моментально окажется здесь. Приедет спросить Джорджа, не помнит ли он, откуда взялась эта купюра, и обязательно скажет ему, что отдал ее мне в обмен на четыре фунта, семь шиллингов и шесть пенсов. О Господи, пусть он лучше сойдет с ума, пускай свихнется и попадет в «желтый дом»!
Но Ронни заговорил более спокойно и рассудительно, однако здравого смысла в его словах не прибавилось:
— Я обсуждал это дело с Хэем. Парень неплохо разбирается в людях, у него большой опыт. Он говорит, что внешность обманчива, особенно если речь идет об уважаемом человеке. Он знал одного священника-баптиста, которого все считали святым. Но Хэй точно знает, что этот священник убил свою мать и собирался убить жену и дочь, но попал под автобус, и это нарушило его планы. После нашего разговора я решил увидеться с Джорджем и поговорить с ним об отце как с профессионалом.
Он пьян, вот и звонит, думала Клэр. Придет в себя и поймет, что, встретившись с Джорджем, он неизбежно проболтается о наших отношениях, подставит под удар меня, навлечет беду на себя. Он взвесит все «за» и «против», осознает опасность и передумает, он передумает…
— Ронни, — сказала она, — обещай мне ничего не предпринимать, пока не получишь письмо от меня. Скажи мне свой адрес, и я напишу тебе сегодня же.
Он заартачился, но в конце концов нехотя согласился. Она не поверила ему на слово и весь следующий день просидела дома. Однако Ронни не пришел и не позвонил.
Глава XV
— Во время этого сновидения, — многозначительно заговорил мистер Бикулла, — я испытал страх больший, чем когда бы то ни было. Это дурной сон и очень необычный. Вряд ли он мог присниться кому-то еще.
— Расскажите, — сказал доктор Лессинг.
— Его рассказать сложнее, чем предыдущие, потому что он очень прост, но его действующие лица — очень необычные персонажи. Я не могу этого объяснить, но они казались очень старыми. Я имею в виду не возраст, а то, что они были сотворены намного раньше нас, когда жизнь была длинной и текла очень медленно.
— С чего начинается сновидение?
— Я иду по какой-то насыпи, возвышающейся над землей, — топкой, как болото, и очень ровной. Кто-то следует за мной на очень близком расстоянии, но я не знаю, кто это. Иногда мне кажется, что это мой отец или мой школьный учитель математики, а иногда… право, мне не совсем удобно говорить это вам, доктор Лессинг.
— Не стесняйтесь.
— Иногда мне кажется, что это вы.
— Что ж, это объяснимо, хотя я не ожидал такого поворота. Не так скоро. Но ничего страшного, продолжайте.
— Итак, я иду по этой возвышенности. Вокруг совсем темно. Солнце еще не встало, и я не могу рассмотреть местность. Где-то вдалеке, по-моему, густой лес, но я не могу сказать точно. Поблизости, главным образом с одной стороны, на фоне темной болотистой почвы виднеются какие-то большие серые пятна, напоминающие камни или даже валуны. Я принимаю их за валуны, пока не замечаю, что некоторые из них задвигались. Тогда я догадываюсь, что это люди, которые спали и теперь просыпаются. Они не похожи на нас — слишком велики.
Мистер Бикулла промокнул лоб носовым платком, хранившимся у него за отворотом рукава, и продолжил рассказ:
— Один из них — очень грузный и полный — медленно поднимается и смотрит на меня. Он не подходит ко мне близко, но я очень испуган, у меня дрожат колени, ноги меня не слушаются. А затем я замечаю другого, высокого и худого, но такого же крупного, как и предыдущий. Он высвобождает ноги, увязшие в болоте, а его руки висят, как надломленные ветки дерева. В полный рост он кажется огромным. При свете первых солнечных лучей я разглядываю его лицо — оно будто каменное, а глаза… я в ужасе, потому что он приближается ко мне, и я цепляюсь за того, кто шел за мной, и прячусь за его спину. Он тоже очень испуган, и мне, доктор Лессинг, неловко признаться вам, кто он.
— Это я?
— Боюсь, что да.
— Пусть вас это не беспокоит. Что дальше?
— Грузный и полный, тот, кто задвигался первым, встает напротив другого и бьет того. Раздается ужасный треск, будто огромное дерево пригнулось и надломилось, а затем снова выпрямилось. Нет, не выпрямилось. Тело высокого сломлено надвое, и он падает в болото. После этого все валуны приходят в движение, спящие просыпаются, и я не могу больше смотреть на это со своей насыпи. Я теряю сознание, умираю. Это была смерть…
Какое-то время мистер Бикулла находился под впечатлением собственного сна, но, ответив на несколько вопросов Лессинга, пришел в себя и даже стал проявлять столь свойственную ему экспансивность. Казалось, он даже гордился своей способностью видеть такие страшные и увлекательные сны.
В начале сеанса Лессинг велел ему расслабиться и, как обычно, дать выход потоку воспоминаний, но мистер Бикулла уговорил его вначале выслушать рассказ о своем самом последнем сновидении. Теперь он, как и подобает пациенту, послушно лег на кушетку и попытался дать волю своей речи, позволить ей беспрепятственно струиться из нетронутых «цензурой»[23] глубин сознания. Однако то ли он недобросовестно отнесся к задаче, то ли его память была перегружена впечатлениями последних событий, но только у него ничего не получалось. Он сумел сообщить очень немного, и это немногое звучало неестественно и наигранно. Мистер Бикулла сдался первым, сказав, что они попусту теряют время, и предложил хотя бы сегодня отказаться от этого мнимого лечения.
— Я сейчас не в настроении, — извиняющимся тоном пояснил он.
Лессинг осторожно предложил ему лекарственный препарат, который помогал раскрепоститься всем его пациентам, но мистер Бикулла наотрез отказался.
— Мы сэкономили бы время, — сказал Лессинг.
— Время… Это как раз то, чем я так дорожу последние дни, — отозвался мистер Бикулла. — Я — как перелетная птица, доктор Лессинг. Сегодня я здесь, а через неделю, возможно, меня не будет с вами. Я не знаю покоя. Я часто задавал себе вопрос: если я уеду прежде, чем вы меня излечите, не скажется ли это на моем здоровье? Не пострадаю ли я от прерывания курса лечения?
— Едва ли я могу обещать вам «излечение», сколько бы ни продолжались наши встречи. Я могу вам помочь лишь в истолковании ваших сновидений…
— Они ведь странные, не так ли?
— Но если не считать этих снов и регулярных эмоциональных потрясений, пусть и временных, к каким они приводят, вы не склонны к стойкому невротическому расстройству…
— Вы правы. Я совершенно здоров. У меня хороший аппетит, нормальное пищеварение.
— …и я могу отпустить вас в любой момент, не опасаясь за ваше общее состояние. Но боюсь, что я до сих пор ничем не смог вам помочь…
— Это не так! Вы много сделали для меня. Кроме вас, никто со времени смерти моего отца не выслушивал моих снов с таким вниманием, хотя мне нередко хотелось поговорить о них. Но вы более благодарный слушатель, чем мой отец, потому что он слушал только для того, чтобы поведать потом мне о своих чудовищных снах, казавшихся ему более занимательными, но на самом деле невыносимо скучных.
— Не волнуйтесь, я не буду пересказывать вам свои сны, — сказал Лессинг, — сколько бы ни продолжалось лечение. Надеюсь, мы будем встречаться на наших сеансах и впредь, если так распорядится судьба. Но если сегодня вы не подготовлены к сеансу, убеждать и тем более заставлять я вас не буду. Давайте-ка лучше перейдем в гостиную, и я угощу вас чем-нибудь. Примерно через полчаса мне надо будет уйти, но мы успеем выпить по стаканчику хереса.
— Буду рад, — согласился мистер Бикулла, и они пошли в гостиную, где уже сидела Клэр и с самым безмятежным видом что-то вязала для ребенка. За последние дни она ни разу не повысила голос, проявляла трогательную заботу о дочке и муже, когда он ей это позволял, и с увлечением предавалась домашним хлопотам. Она с удовольствием согласилась на стаканчик хереса и искренне расстроилась, когда через сорок минут Лессинг сказал, что ему пора идти.
— Но вы не уходите, — обратился он мистеру Бикулле. — Останьтесь и посидите еще с Клэр, я уверен, что она будет только рада.
— Конечно, — сказала Клэр, — но все-таки жаль, что тебе надо идти, Джордж. Ты говорил, что будешь обедать в ресторане, но я не предполагала, что ты уйдешь так скоро.
— Я иду не на вечеринку. Харроу просил меня посмотреть одного из его пациентов, и мы обсудим с ним этот случай, а потом немного перекусим. Вот и все.
— Значит, ты ненадолго?
— Думаю, не задержусь. Хотя твой кузен Ронни утром звонил мне в клинику…
— Что он сказал?
— Попросил меня уделить ему время. Он что-то задумал, не знаю, что именно…
— Неужели ты с ним встретишься?
— Да, я обещал. Мы с ним не в ладах, но он явно нуждается в помощи. Я сказал, что приеду не раньше девяти…
— Ты поедешь к нему домой?
— Да, хотя, по его словам, сейчас он там не живет. Он звонил из Брайтона и сказал, что приедет на один день и вернется туда последним поездом.
— Он просто хочет занять у тебя денег.
— Думаю, эта проблема отошла сейчас для него на второй план.
— Не надо тебе с ним встречаться, Джордж!
— Почему? Я ему обещал. Но сейчас мне пора, иначе могу опоздать. Когда мы с вами встретимся, мистер Бикулла? В следующий вторник или раньше?
— Предоставьте это мне, — сказал мистер Бикулла. — У меня есть одна очень неплохая идея.
— Что ж, спокойной ночи.
Клэр нахмурилась. Взволнованная и напряженная, она стояла у камина. Наконец она заговорила дрожащим голосом:
— Не должен он туда ехать! — восклицала она. — Нельзя ему встречаться с Ронни!
— Вы волнуетесь за своего мужа или за Ронни?
— За Джорджа.
— Эта встреча принесет ему несчастье?
— Хуже!
Клэр сняла телефонную трубку и стала нервно набирать номер. Какое-то время она нетерпеливо ждала, но никто не отвечал.
— Его нет, — сказала она. — И я не знаю, где он может быть. Что же делать?
— Ваш муж заметил, что он не в ладах с этим Ронни. А вы с ним дружны?
— Мы были дружны.
— А сейчас нет?
— Надеюсь, что никогда его больше не увижу.
Воцарилось молчание, которое вскоре нарушил мистер Бикулла словами:
— К сожалению, я не так давно знаком с вашей семьей, чтобы говорить с вами на столь личные темы, но если бы я мог чем-то помочь…
— К сожалению, вы ничем не можете мне помочь.
Ласковым голосом, как зубной врач, успокаивающий пациента, мистер Бикулла поинтересовался:
— Почему этот молодой человек, Ронни, так стремится побеседовать с вашим уважаемым супругом?
— Ему в голову пришла идиотская мысль, что его отец совершил убийство!
— Покойный сэр Симон? О нет! Это невозможно.
— Конечно. Но Ронни нашел пятифунтовую купюру…
Торопливо и путано она поведала ему эту историю с начала до конца. Мистер Бикулла вежливо выслушал ее, умело и терпеливо разобрался во всем и выразил удивление только тогда, когда узнал, что Ронни дал ей пять фунтов, похищенные у Фанни Брюс.
— Как тесен мир, миссис Лессинг, — заметил он с видом человека, делающего величайшее открытие.
— Вот именно, — заключила она. — Даже если бы я сказала ему, что пятифунтовую купюру его отцу прислал Джордж, это бы до добра не довело. Ему бы тут же захотелось знать, где взял ее Джордж. Но вы ведь понимаете, что им ни в коем случае нельзя встречаться, верно? Я сказала Джорджу неправду об этой купюре не для собственного спасения, вовсе нет, а чтобы уберечь его от потрясения. Но Ронни-то сразу все разболтает.
— Вам известно, откуда у доктора Лессинга эта купюра?
— Я предпочла не спрашивать его. Мы поругались по этому поводу, и буря миновала или, по крайней мере, затихла, а если я начну задавать вопросы, она опять разбушуется. А этого я вовсе не хочу.
Мистер Бикулла сидел в глубоком кресле, положив ногу на ногу и обхватив правое колено руками. Он говорил с Клэр самым доброжелательным тоном. И ей стало намного легче. Он вселил в нее надежду, которая переросла в почти детскую веру, что ему удастся спасти ее от надвигавшейся беды; он взял всю ответственность на себя, и теперь ей оставалось только ждать его решения. Без малейших признаков нетерпения Клэр молча ждала, зачарованная неподвижностью и спокойствием этого великана. Его крупные ногти на скрещенных пальцах рук, желтые и привлекавшие к себе внимание, вдруг напомнили ей о пони, к которому она была привязана в детстве. Будто улыбаясь в знак своей преданности, пони обнажал желтые зубы, когда Клэр угощала его сахаром. Она научила пони подставлять губы для поцелуя…
После длительного молчания мистер Бикулла наконец проговорил:
— Если бы вы сообщили Ронни, что вам известно, кто дал доктору Лессингу эти пять фунтов, им было бы незачем встречаться.
— Но чтобы узнать, кто это был, мне пришлось бы спросить об этом Джорджа. А у меня нет ни малейшего желания возвращаться к опасной теме. К тому же он вряд ли вспомнит.
— Но он же не забыл номер купюры.
— Никому не нужные детали он всегда замечает. Но самое важное непременно забудет.
— Возможно, эту купюру он получил от одного из пациентов. Допустим, этим пациентом был я.
— Но ведь это не так! Этого не может быть!
Мистер Бикулла с улыбкой покачал головой:
— Вы вполне могли бы сказать это Ронни. Почему бы ему не поверить вам?
— Только для того, чтобы он не встречался с моим мужем?
— Ведь вы этого хотите?
— Но тогда он явится к вам. Он не даст вам покоя.
— Я должен уехать из Лондона. Как раз сегодня я сказал вашему мужу, что мне не сидится на одном месте. Я как перелетная птица, миссис Лессинг. Когда приедет Ронни, я, возможно, уже исчезну. Позвоните ему еще раз, быть может, он уже дома.
Но Ронни все еще не было дома, и мистер Бикулла спросил:
— Он живет далеко отсюда?
Клэр назвала ему адрес, и мистер Бикулла, взглянув на часы, заявил:
— Впереди еще масса времени. Ронни, несомненно, приедет задолго до появления вашего мужа, и вы уговорите его изменить планы. Вы объясните ему, что не стоит ждать вашего мужа, потому что им незачем встречаться. Вы скажете, что, по вашим сведениям, эту злосчастную купюру сэру Симону прислал доктор Лессинг и вам известно, откуда она у него взялась. Вы предложите Ронни встретиться в ресторане и пообещаете, что за обедом все ему расскажете. Неужели это не заставит его отказаться от встречи с доктором Лессингом?
— Пожалуй, заставит. Вернее сказать, я уверена, что заставит. Но что будет делать Джордж, если, придя к Ронни, он не застанет его дома?
— То же самое, что сделал бы на его месте любой гость, не заставший дома хозяев: немного подождет, а потом уйдет.
— В плохом настроении, — добавила Клэр. — А если, вернувшись домой, он не обнаружит там жены, то его настроение еще больше ухудшится.
— Вы можете оставить ему записку, в которой объясните свое отсутствие. Напишите что-нибудь в этом роде: «Ронни пригласил тебя только для того, чтобы занять денег…»
— Я же так ему и сказала!
— Это самый обычный повод: «Ронни пригласил тебя только для того, чтобы занять денег, и я решила, что ему не стоит беспокоить тебя по пустякам. Поэтому я пригласила его в ресторан, надеясь убедить, чтобы он не надоедал тебе впредь». В общем, в таком духе.
— Джордж будет недоволен, что я пошла с Ронни.
— Но вам придется это сделать, чтобы избежать бо́льших неприятностей. Только надо найти достойный повод для вашей встречи с Ронни. Так или иначе, это ведь лучше, чем откровенное признание в супружеской неверности?
— Пожалуй, вы правы, — согласилась Клэр и, неохотно подойдя к письменному столу, стала с явным неудовольствием сочинять послание мужу. Затем она показала записку мистеру Бикулле, тот одобрил ее и сказал:
— А теперь позвоните снова. Возможно, он пришел.
— Он дома, — прошептала она, закрыв трубку рукой. — Он там!
— Вы знаете, что ему сказать, — ответил мистер Бикулла и с довольным видом стал слушать ее слова, обращенные к Ронни.
Глава XVI
На Батавия-стрит, что неподалеку от Ворвик-авеню, мистер Бикулла без особого труда нашел дом, где в мансарде жил Ронни. Входная дверь была открыта, мистер Бикулла вошел внутрь и стал подниматься по лестнице. Миновав два пролета, он наступил на ступеньку, отозвавшуюся стоном треснувшей деревяшки.
Он негромко постучал в дверь Ронни, подождал секунд тридцать и осмотрел замок. Дверь едва держалась на петлях, а замок был старый. Мистер Бикулла легко и даже с некоторым презрением к такому несерьезному препятствию с ним справился. Войдя, он включил свет и взглянул на часы. Было без двадцати минут восемь. Он поморщился при виде обшарпанных комнат со старой грязной мебелью.
Мистер Бикулла не проявил никакого интереса к имуществу Ронни, только убрал с журнального столика в ящик фотографию Клэр в военной форме. Сев на скрипучий стул, он стал ждать Лессинга. Через семь или восемь минут на лестнице послышался звук шагов, громко охнула расшатанная ступенька. Он поднялся и с хозяйским видом открыл дверь.
— Вы, видимо, захотите спросить, какого черта я здесь делаю, — бодро проговорил он, прежде чем к удивленному Лессингу вернулся дар речи. — У меня есть этому достойное объяснение.
— Вот уж не ожидал встретить вас здесь, — отозвался Лессинг. — Что-нибудь случилось?
— Нет-нет, вам не о чем волноваться.
— Киллало-младший дома?
— Его тут нет. Садитесь, я вам все объясню.
Со столь же очевидным отвращением, как и мистер Бикулла несколько минут назад, Лессинг оглядел жалкое жилище и спросил:
— Вы бывали здесь прежде?
— Никогда. Этот адрес мне дала ваша жена. Сейчас она со своим кузеном.
— Клэр с Киллало? Вы хотите сказать, что…
— Это не то, что вы думаете. Она там для вашего же блага. Миссис Лессинг не хотела, чтобы вы с ним встречались.
— Но почему?
— Она боялась, — со вздохом проговорил мистер Бикулла. — Боялась, что эта встреча может плохо для вас кончиться.
Но в его голосе слышалось несогласие с таким предположением и более того — осуждение.
— Ерунда! Откуда у нее такие мысли?
Мистер Бикулла так деликатно подбирал слова, что его ответ даже не оскорбил Лессинга:
— Похоже на то, что Ронни влюблен в вашу жену.
— Не исключено. Однако он не из тех людей, что готовы ради этого пойти на скандал.
— Ваша жена считает иначе. Она поведала мне о ряде странных событий, которые, на мой взгляд, никак не могли касаться сына покойного сэра Симона. Я не допускал и мысли о том, что Ронни мог совершить что-то ужасное, пока миссис Лессинг не обратила мое внимание на одно обстоятельство — очевидное, но почему-то до сих пор никем не замеченное: его отец преждевременно скончался от того же, что и несчастная девушка по имени Фанни Брюс. А именно от перелома шейных позвонков.
— Но это еще ни о чем не говорит! Смерть сэра Симона — несчастный случай, и никаких иных версий нет. К тому же Ронни признали невиновным в убийстве девушки.
— Тем не менее миссис Лессинг не могла забыть о таком совпадении. Она узнала, что ее кузен, который больше не живет в этой квартире, назначил вам здесь встречу, и очень обеспокоилась.
— Какая нелепость, — сказал Лессинг, но все же снова с любопытством и тревогой окинул взглядом убогое жилище Ронни.
— И я так считаю, — бодро вторил ему мистер Бикулла. — Но давайте попробуем представить себе — только представим, — что это предположение не так уж нелепо и что завтра утром или днем здесь, как это ни прискорбно, обнаружат еще одну жертву со сломанной шеей. Тогда всем станет ясно, что это отнюдь не случайное совпадение.
— И Ронни тем самым поставит себя в очень опасное положение. Но эта теория условна, так что нам нечего опасаться.
— Как бы то ни было, миссис Лессинг нарисовала ужасную картину в своем воображении.
— Но она, наверное, с ума сошла, — раздраженно сказал доктор Лессинг. — Ронни не имеет никакого отношения к смерти своего отца и не осмелится поднять руку на меня. Он не из тех.
— Когда Ронни предложил вам встретиться здесь, у вас не возникло никаких подозрений?
— Конечно нет.
— Вы не из робкого десятка, доктор?
— Я не храбрец, но считаю себя здравомыслящим человеком. Обладатель такой комнаты едва ли сумеет вселить в кого-нибудь страх.
Лессинг встал и с презрением взглянул на дешевую литографию в картонной рамке, висевшую на ободранной стене. Стекло было покрыто толстым слоем пыли. Он брезгливо взял одну из немногочисленных книг с полки, пожал плечами и бросил книгу на стол.
— Здравый смысл, — мягко сказал мистер Бикулла, — менее распространенное качество, чем храбрость. Если бы у всех был здравый смысл, мы бы поняли, что многое из того, чего мы боимся, на самом деле не стоит внимания. Например, сама смерть. Здравомыслящий человек не должен ее бояться. Ничего особенного в ней нет. Это такая же часть жизни, как рождение. Помучаетесь немного, и все пройдет.
Мистер Бикулла обмяк и, казалось, говорил сам с собой: его голос звучал умиротворенно, и он не следил за тем, слушает ли его собеседник. А Лессинг действительно не обращал внимания на его слова, потому что как раз в тот момент он в праздном любопытстве вытянул один из ящиков комода и обнаружил там фотографию в рамке, на которой была изображена Клэр в военной форме.
Он резко спросил:
— Клэр говорила что-нибудь о своих отношениях с Ронни?
— Она сказала только, что он влюблен в нее. По-моему, это ее мучает.
— А о своих чувствах к нему она не упоминала?
— Нет, не упоминала. Я не столь давний друг вашей семьи, чтобы она доверилась мне в таком личном вопросе.
— А о пятифунтовой купюре она говорила?
Мистер Бикулла не ответил, и Лессинг повторил свой вопрос:
— Она упоминала о купюре?
— Да, — ответил мистер Бикулла, — упоминала.
— Вы дали купюру мне, а я отправил ее сэру Симону. Затем я обнаружил ее в сумочке Клэр. Откуда она там взялась? От Ронни?
— Она мне так сказала.
При свете, падавшем на лицо Лессинга, стало видно, как мышца в уголке рта начала пульсировать. Нервными пальцами он нащупал свой бумажник, достал из него сложенную вдвое купюру, распрямил и, поднеся к свету, уставился на нее, будто желал прочесть на ней всю историю предательства.
Мистер Бикулла бесшумно поднялся, встал позади Лессинга и грустно сказал:
— Да, именно. «Майхе афсос хаи, Сахиб, лекин аб ал сидхе расте мен хаин».
Раздался резкий и неожиданный звук, будто кто-то, поднимаясь по лестнице, опять наступил на расшатанную ступеньку или будто хрустнула ветка дерева.
Через несколько минут мистер Бикулла вышел из дома один и отпер ключом Лессинга дверцу автомобиля, стоявшего у края тротуара. Быстро и уверенно он повел машину в восточном направлении до Нортумберленд-авеню, где и оставил ее, а сам пешком направился к отелю «Чаринг-Кросс».
Глава XVII
По причине, остававшейся до поры до времени неизвестной, мистер Бикулла зарегистрировался в отеле «Чаринг-Кросс» под именем месье Андре Буало из Лиона. Чтобы освоиться в новой роли и не забывать о ней, он приобрел несколько парижских газет и антологию французской поэзии. Раскрытая книга лежала на туалетном столике, а в зеркале над ним отражалось лицо человека, пребывавшего в глубокой меланхолии. Его глаза были красны от слез. С минуту или более он смотрел на этот образ печали, а затем, переводя взор на страницы книги, начинал грустить еще больше. Там были строки, так отвечавшие его настроению, что он даже чувствовал некоторое удовлетворение:
Mais, vrai, j'ai trop pleuré. Les aubes sont navrantes,
Toute lune atroce et tout soleil amer…[24]
Однажды он прочитал стихи вслух с особым душевным надрывом и открыл капитанский сундучок с бутылками и рюмками, купленный им для времяпрепровождения с сэром Симоном. В бутылке оставалось немного бренди, и, выпив половину содержимого, он поднял телефонную трубку и попросил администратора гостиницы закрыть его счет, потому что он уезжает с минуты на минуту.
За подкладкой его старомодного саквояжа хранились три паспорта. Мистер Бикулла достал один из них — на имя гражданина Французской Республики — и положил в карман пальто. Он быстро уложил вещи, с ловкостью человека, привыкшего к переездам, и через какие-то три-четыре минуты спустил свой багаж вниз, оплатил счет, а в скором времени уже ехал в такси к вокзалу Виктория. Он произносил слова с французским акцентом, грассируя.
На вокзал он прибыл в девять сорок три, носильщик взял вещи и проводил его к кассе.
— Un billet, Marseille, deuxième classe,[25] — попросил мистер Бикулла и сделал вид, что с трудом понимает, какая сумма требуется.
— Восемь фунтов, четыре шиллинга и четыре пенса, — на плохом английском повторил он и стал рыться в бумажнике, отсчитывая деньги. Среди купюр, которые он достал, была одна сильно помятая и сложенная пополам. Он долго расправлял и разглаживал ее непослушными пальцами, и, прежде чем успел просунуть ее в guichet,[26] на нее упали две тяжелые капли, две слезы.
Носильщик сочувственно смотрел на сильно расстроенного французского господина, но не одобрял его чрезмерной эмоциональности. Он быстро подвел его к платформе, где стоял ночной поезд, направлявшийся во Францию, и помог найти место. Мистер Бикулла дал ему щедрые чаевые и стал разглядывать пассажиров. Почти сразу его внимание привлекла компания из четырех человек, стоявшая рядом с тем вагоном, в котором ему предстояло ехать.
Самой примечательной из них была немолодая высокая и статная дама со впавшими от горя щеками. Ее голос дрожал от гнева. Даму провожала хорошенькая рыжеволосая девушка без шляпы, а также стройный молодой человек, судя по жестам, танцор, и еще один мужчина, невысокий и полный, похожий на лягушку. Что-то в его внешности, возможно пальто с меховым воротником, подсказывало, что он имеет отношение к театру.
Подойдя ближе, мистер Бикулла прислушался. Они говорили по-французски. Из их разговора он понял, что все они работают в театре. Он взглянул через плечо на высокую даму. Ее щеки пылали от горя или досады, и во внезапном творческом порыве она еле слышно произнесла:
Qu'as-tu fais, о toi que voilà
Pleurant sans cesse,
Dis, qu'as-tu fais, toi que voilà,
De ta jeunesse?[27]
Мистер Бикулла повернулся и, притворившись, что прогуливается по перрону, опять прошел мимо них. Дама отчаянно жаловалась, как несправедливо с ней обошлись. Произошел какой-то скандал, и заключенный с ней восьминедельный контракт был разорван; теперь ей придется ни с чем вернуться в Париж раньше времени. Компенсация при подобной ситуации в контракте не оговаривалась, ибо это был из ряда вон выходящий случай. Рыжая девушка и молодой человек, похожий на танцора, громко выражали свое сочувствие, но мужчина в пальто с меховым воротником только пожал плечами и сказал, что жизнь состоит не из одних лишь счастливых дней.
Раздался сигнал к отправлению, двери стали закрываться, и мистер Бикулла поспешил в свой вагон. Высокая дама последовала за ним, но остановилась у окна в конце вагона и стояла там, пока поезд не тронулся. Ее друзья прощались с ней, желали всего хорошего, а она высунулась из окна и, сделав вид, что смирилась с произошедшей неприятностью и вовсе не волнуется за свое будущее, крикнула с вызовом:
— Се n'est pas gaie, la vie d'artiste![28]
Она нашла свое место, сняла шляпу и смахнула слезу маленьким кружевным платочком. Затем, подняв голову, взглянула на соседа. Напротив сидел мистер Бикулла и глядел на нее внимательно и сочувственно, взгляд его светлых глаз был печален.
Eric Linklater
1899–1974
Эрик Линклэйтер родился в Шотландии. Изучал медицину в университете города Абердина, но позже отдал все свои силы английскому языку и литературе. Участвовал в Первой мировой войне, потом занимался журналистской деятельностью в Бомбее, а с 1927 года читал лекции по английской литературе в Абердинском университете. Затем переехал на Оркнейские острова, где и написал свои многочисленные романы: «Поэтическое кафе» («Poet's Pub», 1930), «Сага белого человека» («White Man's Saga», 1937), «Мистер Бикулла» («Mister Byculla», 1950), «Положение в полдень» («Position at Noon», 1958) и пр., эссе, рассказы, стихотворения, пьесы и биографии.
Творчество Линклэйтера заслужило немало лестных отзывов в печати. Так, Патрик Деннис в «Нью-Йорк Херальд Трибьюн Бук Ревью» 14 февраля 1960 года отметил, что Эрик Линклэйтер «не смог бы написать неинтересную книгу, скучную страницу и даже строку, выбивающуюся из стиля». Писатель Р. Дж. Вудхаус, оценивая причины успеха книг своего «собрата по перу», говорил, что «голос Линклэйтера спокоен и мягок, но невозможно не прислушиваться к каждому его слову. Приемы, с помощью которых он держит читателя в напряжении, не бросаются в глаза и неподвластны анализу».