
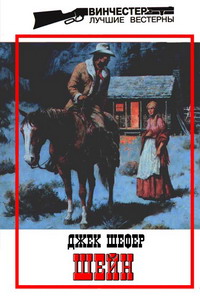
Джек Шефер
Шейн
1
Он приехал к нам в долину летом восемьдесят девятого года. Я тогда совсем мальчонкой был, едва сравнялся макушкой с задним бортом старого отцовского кухонного фургона 1. В этот день — к вечеру уже близилось — сидел я на верхней жерди ограды нашего маленького кораля, грелся на солнышке — и тут увидел его на дороге, далеко, там где она сворачивает из открытой прерии в нашу долину.
Воздух у нас в Вайоминге чистый, так что я видел его ясно, хоть он и находился еще за несколько миль. С виду в нем не было ничего такого примечательного, обыкновенный одинокий всадник, приближающийся к кучке деревянных домишек, которую мы называем нашим городком. Попозже я заметил двух ковбоев — они с ним разминулись на дороге, а после остановились и уставились ему вслед, и позы у них были любопытные и страшно внимательные.
А он продолжал ехать ровным шагом прямо через городок, не придерживая коня, пока не добрался до развилки дорог в полумиле от нашей фермы, ниже по течению. Одна дорога сворачивала налево, через брод на реке, к большому ранчо Льюка Флетчера, а другая пробиралась вдоль правого берега, на котором мы, гомстедеры 2, застолбили себе участки рядком вдоль долины. Он немного помешкал, выбирая, куда свернуть, а после снова двинулся ровным шагом по нашей стороне.
Что меня первым делом зацепило, когда он подъехал поближе, так это его одежда. На нем были брюки из темной ткани вроде сукна, заправленные в высокие сапоги и затянутые на талий широким поясом; и сапоги, и пояс были сделаны из мягкой черной кожи, тисненой, с каким-то сложным рисунком. Пиджак из той же темной материи, что и брюки, был аккуратно сложен и привязан к седельной скатке 3. Рубашка — из тонкого льна, яркого коричневого цвета. Вокруг шеи свободно повязан черный шелковый платок. Но вот шляпа у него была особая — не обыкновенный стетсон 4, и не обыкновенного серого или коричневатого цвета. Совершенно черная, мягкая, непохожая ни на одну шляпу, что мне приходилось видеть, со складками на тулье и широкими полями, подогнутыми по краям, а спереди опущенными, чтобы затенять лицо.
Всякие следы новизны давным-давно исчезли с этих вещей. Пыль дальних дорог въелась в них, они были поношенные, в пятнах, а на рубашке виднелись аккуратные заплаты. И все же сохранилась в них какая-то изысканность, говорящая о людях и манерах, неизвестных моему куцему детскому опыту.
Но я тут же забыл об одежде — такое на меня произвел впечатление сам этот человек. Росту он был немного выше среднего, худощавый, почти тонкий. Рядом с моим плечистым, здоровенным отцом он бы выглядел хрупким. Но даже я сумел сразу распознать выносливость в очертаниях его фигуры и спокойную силу — так легко, непринужденно, машинально он приспосабливался к каждому движению усталого коня.
Чисто выбритое лицо было худое, строгое, покрытое загаром — от высокого лба до крепкого, сужающегося книзу подбородка. Глаза как будто прятались, затененные полями шляпы, но когда он подъехал поближе, я понял, что это так кажется из-за нахмуренных бровей, застывших в привычной настороженности. А сами глаза под бровями безостановочно обшаривали все по сторонам и впереди, пытливо останавливались на каждом предмете в поле зрения, не пропускали ничего. И, когда я заметил это, у меня, не знаю уж почему, мороз по коже пробежал, хотя тут, на солнышке, было тепло.
На лошади он держался легко, в седле сидел свободно, без напряжения опираясь на стремена. Только даже в этой спокойной легкости таилось предостережение — это было спокойствие сжатой пружины, взведенного капкана…
Он остановил коня прямо передо мной, в каких-то двадцати футах. Его взгляд как будто вцепился в меня… тут же отпустил и скользнул по нашей ферме. Ничего она особенного собой не представляла, если говорить о размерах или там богатстве. Но уж если что здесь имелось, так оно было добротное. Тут можно было положиться на отца. Кораль, в который при нужде вмещалось голов тридцать скота, обнесен жердями на крепких, глубоко вкопанных столбах. Выгон позади кораля, занимающий почти половину нашего участка, тоже надежно огорожен. Сарай небольшой, но прочный, да еще мы сейчас надстраивали с одного конца над ним второй этаж — сеновал для люцерны, которая у нас занимала сорок акров в северной части фермы. Картофелем мы в этом году засадили приличное поле, а кукурузу отец посеял нового сорта, он выписал семена аж из самого Вашингтона, и она сейчас поднялась как следует и стояла ровными, чистыми рядами, без единого сорняка.
Мамин огород за домом просто глаз радовал. В самом доме было три комнаты — вообще-то говоря, две: большая кухня, где мы проводили почти все время, когда находились в доме, и спальня рядом с ней. Моя маленькая комнатка помещалась в пристройке, позади кухни. Отец собирался, когда выдастся время, построить для матери гостиную — уж очень ей хотелось.
Полы в доме были деревянные, снаружи — красивая веранда. Да еще дом у, нас был выкрашен в белый цвет с зеленой отделкой — редкость в здешних краях, но это мать попросила отца так покрасить, она сказала, что это ей будет напоминать родную Новую Англию. И, что здесь встречается еще реже, покрыт дом гонтом 5. Уж я-то этой кровле цену знаю. Я помогал отцу колоть эти дощечки. Да, не часто можно было увидеть в те времена в глубине Территории такую щеголеватую и ухоженную ферму.
Незнакомец все это углядел, пока сидел спокойно в седле. Я видел, как глаза его приостановились на цветах, которые высадила мать у ступеней крыльца, замерли на нашем сверкающем новеньком насосе и желобе рядом «с ним. Потом они вернулись ко мне, и снова, не знаю почему, я почувствовал внезапный холод. Но голос у него был мягкий, и говорил он как человек, который воспитал в себе терпеливость.
— Я бы с удовольствием воспользовался этим насосом… Вода не повредит ни мне, ни коню.
Я попытался подобрать слова, а они будто в горле застряли, но тут понял, что он обращался не ко мне, а к кому-то у меня за спиной. Оказывается, это отец подошел и стоял сзади, опершись на ворота кораля.
— Пользуйтесь водой сколько хотите, незнакомец.
Мы с отцом смотрели, как он спрыгнул с седла одним плавным, текучим каким-то движением и подвел коня к желобу. Накачал в него воды почти до краев и позволил коню погрузить губы в холодную воду еще раньше, чем зачерпнул ковш для себя.
Он снял шляпу, выколотил из нее пыль и повесил на угол желоба. Руками стряхнул пыль с одежды. Достал из седельной скатки тряпочку и тщательно протер сапоги. Развязал шейный платок, сиял с шеи, закатал рукава рубашки, погрузил руки в желоб и принялся тщательно тереть их и плескать водой себе в лицо. Потом потряс руками, пока они просохли, вытер платком последние капли с лица. Вынул из нагрудного кармана рубашки гребешок и зачесал длинные темные волосы назад. Все его движения были ловкими и уверенными; с той же быстрой точностью он отвернул обратно рукава, снова повязал на шею платок и взял шляпу.
А потом, держа ее в руке, повернулся и зашагал прямо к дому. Низко наклонился, сорвал одну из маминых петуний и вставил за ленточку шляпы. В следующее мгновение шляпа оказалась у него на голове, он подогнул поля пониже быстрым, машинальным движением, ловко взметнулся в седло и повернул коня к дороге.
Я был зачарован. Никто из знакомых мне мужчин не заботился так о своей внешности. За это короткое время изысканность, тень которой я заметил раньше, проступила куда яснее. Она ощущалась в каждой мелочи. Все, что на нем было, носило следы долгой и нелегкой службы — но одновременно говорило и о крепости, свойственной качественным и дорогим вещам. Теперь меня больше не пробирал холодок. Я уже представлял себя в такой шляпе, таких сапогах, с таким ремнем…
Он остановил коня и оглянулся на нас. Он освежился и, могу поклясться, мелкие морщинки вокруг глаз у него должны были означать улыбку. Теперь, когда он вот так на нас глядел, его глаза уже не двигались без устали. Они смотрели спокойно, ровно, и ты знал, что все внимание этого человека обращено на тебя — даже в таком мимолетном взгляде.
— Спасибо вам, — сказал он мягким голосом и снова повернулся к дороге, спиной к нам — но тут отец заговорил в своей медлительной, неторопливой манере.
— Не спешите так, незнакомец.
Мне пришлось крепко вцепиться в жердь, иначе бы я свалился назад, в кораль. При первых звуках отцовского голоса человек и его конь, как одно существо, снова оказались повернуты к нам, и глаза незнакомца будто сверлили отца, горящие в мягкой тени под полями шляпы. Опять они меня словно схватили, и я задрожал. Что-то неуловимое, холодное и устрашающее повисло в воздухе между нами.
Я в изумлении смотрел, как разглядывают друг друга отец и незнакомец, неспешно оценивая один другого с невысказанным пониманием, свойственным братству взрослых людей и непостижимым пока для меня. А потом над нами как будто пролился теплый солнечный свет, потому что отец улыбнулся и заговорил с протяжными ударениями — это означало, что он уже принял решение.
— Я говорю, не торопитесь так, незнакомец. Еда скоро будет на столе, да и переночевать вы сегодня здесь сможете.
Незнакомец спокойно кивнул головой — как будто тоже принял решение.
— Очень любезно с вашей стороны, — сказал он, спрыгнул с седла и пошел к нам, ведя лошадь в поводу. Отец зашагал рядом с ним в ногу, и мы все вместе направились к сараю.
— Меня зовут Старрет, — сказал отец, — Джо Старрет. А вот этот, — он махнул рукой в мою сторону, — зовется Роберт Макферсон Старрет. Слишком уж много имен для одного мальчонки. Я говорю просто Боб.
Незнакомец кивнул еще раз.
— Зовите меня Шейн, — сказал он. А потом, уже мне: — Так ты Боб, значит. Ты довольно долго наблюдал, пока я приближался по дороге.
Это был не вопрос. Это было простое утверждение.
— Да… — пробормотал я с запинкой. — Да. Наблюдал…
— И правильно, — сказал он. — Мне это нравится. Если мужчина наблюдает за всем, что происходит вокруг, он ничего не упустит.
Если мужчина наблюдает… При всей своей мрачной наружности и прищуренном, тяжелом взгляде этот Шейн знал, чем доставить удовольствие мальчишке. Тепло его слов не покидало меня, пока он ухаживал за своим конем, а я суетился вокруг — повесил на колышек его седло, подкинул вилами сена, рьяно путался у него пoд ногами и спотыкался о свои собственные. Он позволил мне снять уздечку, и конь, который теперь, вблизи, оказался куда больше и мощнее, чем я думал, опустил ко мне голову и терпеливо стоял, пока я помогал незнакомцу соскрести с него лепешки налипшей пыли. Только один раз он остановил меня. Это случилось, когда я потянулся, чтобы убрать седельную скатку. В то мгновение, когда я к ней прикоснулся, он забрал ее у меня и положил на полку с таким непреклонным видом, что я понял — это трогать нельзя.
Когда мы втроем вошли в дом, мать уже ждала, и на столе были приготовлены три прибора.
— Я увидела вас в окно, — сказала она и подошла пожать гостю руку. Она была тонкая, живая женщина со светлой кожей, на которую даже наш здешний климат никак не действовал, и с массой пышных светло-каштановых волос — она их высоко закалывала, чтобы хоть немного, как она любила говорить, приблизиться ростом к отцу.
— Мэриан, — сказал отец, — позволь представить тебе мистера Шейна.
— Добрый вечер, мэм, — сказал наш гость.
А потом взял ее руку и склонился над ней. Мать шагнула назад и, к моему удивлению, присела в грациозном реверансе. Я раньше никогда не видел, чтобы она так делала. Уж такая она была женщина — никогда заранее не угадаешь, что она сделает. Мыс отцом покрасили бы дом целых три раза и во все цвета радуги, лишь бы ей угодить.
— И вам доброго вечера, мистер Шейн. Если бы Джо не пригласил вас вернуться, я бы это сама сделала. В верхней части долины вы не найдете приличной еды.
Она гордилась своей стряпней, наша мать. «Из всего того, чему я научилась дома, — часто говорила она, — это — единственное, что мне пригодилось в здешних диких краях. Пока я еще могу приготовить приличный обед, — говаривала она отцу, когда дела шли неважно, — я знаю, что я все еще цивилизованная женщина, и есть надежда, что мы пробьемся». После чего она поджимала губы и принималась сбивать яйца для своих особых, самых вкусных бисквитов, а отец следил за ее возней, а после съедал их подчистую, до последней крошки, потом поднимался, вытирал губы, потягивался всем своим большим телом и топал наружу, к своей вечной нескончаемой работе, как будто наперекор всему, что могло встать у него на дороге.
Мы сели за ужин — хороший ужин, надо сказать. У матери глаза засверкали, когда она увидела, что наш гость не отстает от отца и меня. А потом мы откинулись на спинки стульев, и разговор пошел так, будто это старые друзья собрались за знакомым столом. Я только слушал, не вмешиваясь, но уловил, что беседа идет по некоей схеме. Отец с матерью, хоть и избегали прямых вопросов, пытались хоть что-то разузнать про этого Шейна, а он ловко уклонялся при каждом повороте разговора. Он прекрасно видел, чего им хочется, но это ему ничуть не докучало. Он был спокойный, вежливый и разговаривал вполне охотно. Только все время отделывался от них ничего не значащими словами, которые не сообщали ничего нового.
Должно быть, он ехал много дней, потому что из него так и сыпались новости, собранные в городах по дороге, даже таких далеких, как Шайенн, Додж-Сити 6 и других, еще дальше, про которые я никогда прежде и не слышал. Вот только новостей о себе у него не было. Его прошлое было загорожено так же надежно, как наш выгон. Все, что мои родители смогли узнать, — это что он едет себе и едет, не думая о завтрашнем дне, не имея в мыслях никаких особенных намерений, ну, разве что поглядеть на ту часть страны, где он не бывал раньше.
Потом мать мыла посуду, я вытирал, а отец с Шейном сидели на крыльце, и их голоса доносились к нам через открытую дверь. Теперь уже наш гость направлял беседу, и сразу же он заставил отца разговориться о его планах на будущее. Хитрости особой для этого не требовалось. Отец всегда был готов обсуждать свои планы, лишь бы слушатель нашелся. И на этот раз он остался верен себе.
— Да, Шейн, ребята, с которыми я водил компанию в былые времена, еще этого не видят. Ну, рано или поздно разглядят. Открытые пастбища не будут существовать вечно. Линии оград сдвигаются все ближе. Свободный выпас скота огромными стадами — это хороший бизнес только для самых крупных ранчеров, да и для них этот» бизнес довольно убогий. Да, убогий, когда вспомнишь, сколько для него требуется… Черт знает сколько места — а в результате — пшик! Рано или поздно этот бизнес будет чем-то вытеснен…
— Н-да, — сказал Шейн, — очень интересные мысли. Последнее время я слышал такие же от многих людей с самыми светлыми головами. Может быть, в этом что-то есть…
— Э-э, Богом клянусь, не просто что-то, в этом вся соль! Вы меня послушайте, Шейн. Вот как дело надо вести: выберите себе место, получите землю, чтоб ваша собственная была. Сейте хлеба столько, чтобы прокормиться, а деньги зарабатывайте, разводя небольшое стадо, да не какие попало рога и копыта, а чтоб это была специально выведенная мясная порода… и держите их, за оградой, и кормите как следует. Я этим только начал заниматься, но уже сейчас мои коровы имеют средний вес на триста фунтов больше, чем та длинноногая скотина, что бродит у Флетчера на той стороне реки, и мясо куда лучше — а это только начало… Конечно, его хозяйство раскинулось чуть не на всю эту долину, и с виду оно ого-го. Только он, как первопоселенец, держит право выпаса на слишком уж много акров, у него этих акров больше, чем коров… и все равно, даже этих акров у него не останется, когда сюда наедет больше гомстедеров. Его способ разводить скот слишком расточителен. Слишком много земли на то, что он с нее получает. А он этого не может понять. Он думает, что мы, мелкие хозяева — пустое место, только под ногами путаемся…
— А так оно и есть, — мягко сказал Шейн. — С его точки зрения, вы и есть пустое место и досадная помеха.
— Да, думаю, вы правы. Должен признать это. Мы, кто уже сейчас тут, изрядно помешаем ему, если он захочет, как раньше всегда делал, использовать пастбища за нашими участками, по эту сторону реки. Мы все вместе уже отхватили от них несколько приличных ломтей. Хуже того, мы перекрыли часть реки, отрезали пастбища от воды. Он все брюзжит насчет этого, с тех самых пор, как мы тут появились. Он боится, что такие как мы будут приезжать и дальше и селиться на этой стороне… Ему тогда туго придется…
Когда с посудой было покончено, я хотел проскользнуть к двери. Но мать, как обычно, меня поймала и отправила в постель. Она оставила меня в маленькой задней комнатке и вышла на крыльцо посидеть с мужчинами, а я попытался услышать еще что-нибудь из их разговора. Но голоса едва доносились. Потом я, должно быть, задремал, потому что следующее, что я услышал, был разговор отца с матерью на кухне. К этому времени, сообразил я, наш гость уже, видимо, лежал в сарае на койке, которую отец поставил для наемного работника — он у нас появлялся на несколько недель весной.
— Разве это не странно, — донеслись до меня слова матери, — что он ухитрился ни слова не рассказать о себе?
— Странно? — повторил отец. — Ну, пожалуй что и так. Некоторым образом.
— Все в нем странно и необычно. — Голос матери звучал так, будто она была обеспокоена и заинтересована. — Никогда прежде не видела я такого человека, как он.
— А ты и не могла видеть такого в тех местах, откуда ты сюда попала. Он — из особого племени, такие люди изредка попадаются здесь, в прерии. Я сталкивался с ними несколько раз. Если кто из них плохой, так это чистая отрава. Зато уж если хороший, то он весь как отборное зерно.
— Но как же можно ему доверять? Послушай, он ведь даже не сказал нам, откуда родом!
— Ну, мне сдается, что родился он на востоке. Где-то в южной части. В Теннесси, может быть. Но он уже давно в этих местах.
— Он мне понравился. — Голос матери звучал серьезно. — Он такой приятный, вежливый, в каком-то смысле даже мягкий. Не то что большинство мужчин которых здесь можно встретить. Но что-то есть в нем такое… Что-то под этой мягкостью… Что-то… — Ее голос как будто затих вдали.
— Таинственное? — подсказал отец.
— Да, конечно. Таинственное. Но не просто таинственное. Опасное.
— О-о, он парень опасный, это уж точно. — Отец произнес эти слова задумчиво. Потом рассмеялся. — Но не для нас, моя дорогая.
А после он сказал одну фразу, которая показалась мне удивительной.
— Я так думаю, что на самом деле у тебя в доме ни когда не было человека более безопасного…
2
Утром я проснулся поздно, и когда, сонный, приплелся на кухню, обнаружил, что отец и наш гость трудолюбиво прокладывают себе дорогу через горку маминых оладьев. А сама она стояла у печи. Она мне улыбнулась. Отец в качестве приветствия шлепнул меня пониже спины. А наш гость, склонившийся над полной тарелкой, серьезно кивнул мне.
— Доброе утро, Боб. Давай-ка врубайся в этот холм побыстрее, а то я управлюсь и с твоей долей тоже. В кулинарном искусстве твоей матери есть какое-то волшебство. Ешь вдоволь этих фланелевых лепешек — и вырастет из тебя мужчина побольше твоего отца.
— Фланелевые лепешки! Ты слышишь, Джо? — Мать подошла к столу и взъерошила отцу волосы. — Ты был прав. Теннесси или где-то рядом… Я никогда не слышала, чтобы оладьи называли так в других местах.
Наш гость поднял на нее глаза.
— Хорошая догадка, мам. Почти что в яблочко. Правда, вам муж помогал. Мои родители уехали из Миссисипи и осели в Арканзасе 7. Ну, а я… у меня был зуд в ногах, и я сбежал из дому в пятнадцать лет. И с тех пор не приходилось мне съесть ничего такого, что стоило бы назвать фланелевыми лепешками. — Он положил руки на край стола, откинулся назад, и мелкие морщинки в уголках его глаз стали заметнее и глубже. — Ну все, мэм, пока хватит.
Мать рассмеялась — если б так сделала девчонка, я бы сказал «хихикнула».
— Если я хоть что-нибудь понимаю в мужчинах, — сказала она, — это значит «дайте еще».
И упорхнула обратно к печке.
Так частенько бывало у нас дома, такое вот легкое веселье, теплое и доброе. Оно пришлось очень кстати в это утро, потому что в воздухе висела холодная серая мгла и, не успел я еще сбавить ход на второй тарелкой оладьев, как на долину обрушился ветер с дождем — нередкая здесь летняя буря, внезапная и быстро проходящая.
Наш гость закончил завтрак. Он слопал столько оладьев, что я начал подумывать, уж не прихватил ли он и в самом деле от моей порции. Наконец гость повернулся, посмотрел в окно — и у него сжались губы. Но все же он отодвинулся от стола и начал подниматься. Однако голос матери остановил его.
— Нечего вам трогаться в путь в эту погоду. Подождите немного — прояснится. Такой дождь долго не идет. А у меня на печи еще один кофейник стоит.
Отец раскуривал трубку. Глаза его внимательно следили за плывущим кверху дымком.
— Мэриан права. Только она не все сказала. Дождь действительно будет короткий. Но вот дорога после него наверняка раскиснет. Она новая. Еще не укатана как следует. Когда намокнет, сильно грязная становится. По ней не поедешь, пока не просохнет. Так что лучше вам задержаться до завтра.
Наш гость уставился на свою пустую тарелку, как будто не нашел в комнате ничего важнее. Но все равно заметно было, что это предложение ему понравилось. Хотя и обеспокоило чем-то.
— Да, — сказал отец. — Это разумная мысль. Конь ваш вчера вечером совсем вымотанный был. Будь я лошадиным доктором, так я бы ему прописал день отдыха. И будь я проклят, если не убежден, что тот же самый рецепт и мне на пользу пойдет. Оставайтесь здесь на сутки, и я тоже с вами дома побуду. С удовольствием повожу вас по ферме, покажу, что я делаю с этим участком.
И просительно глянул на мать. А она была удивлена — и не без причины. Обычно отец не отрывался от работы, каждую минуту ловил, чтобы скорей осуществить свои планы, матери чуть не драться с ним приходилось, чтоб заставить отдохнуть хоть раз в неделю — почтить субботу 8. В плохую погоду, вроде сегодняшней, он метался по дому, тяжело топая ногами, как будто считал, что это для него личное оскорбление уловка, чтобы удержать его в доме, не дать выйти наружу и что-то делать. А сейчас как ни в чем ни бывало говорил что собирается отдыхать целый день! Она была озадачена. Но все же подыграла мужу.
— Вы сделаете нам одолжение, мистер Шейн. Не так уж часто к нам забредают в гости люди не из этой долины. Нам будет очень приятно, если вы останетесь. А, кроме того… — она сморщила нос, как делала обычно когда пыталась уговорить отца согласиться на какую нибудь ее новую выдумку, — кроме того, я все ждала повода, чтобы попробовать приготовить в глубокой форме яблочный пирог по новому рецепту, о котором мне рассказывали… А для этих двоих стараться — только муку зря переводить. Они слопают все, что на глаза попадется, и даже не разберут, что хорошо, что плохо…
Он смотрел снизу вверх, прямо на нее. А она погрозила ему пальцем.
— И еще одна причина есть. Я чуть не лопаюсь от любопытства, так мне хочется узнать, что носят женщины в цивилизованных местах. Шляпки, знаете, и тому подобное. А вы — тот человек, который такие вещи замечает. Вы отсюда не уйдете, пока мне все не расскажете!
Шейн опустился обратно на свой стул. Слегка шутливое выражение смягчило резкие черты его лица.
— Мэм, я вовсе не уверен, что разбираюсь в этом так хорошо, как вам кажется. До сих пор никто еще не записывал меня в знатоки дамских шляпок. — Он протянул руку и подставил матери свою чашку. — Что-то вы там говорили насчет добавки кофе… Но под фланелевыми лепешками я подвожу черту. Дальше некуда. Начинаю экономить место для будущего пирога.
— Да уж постарайтесь! — Отец был чем-то очень доволен. — Когда Мэриан настроится на стряпню, она заставляет человека забыть, что любому аппетиту есть предел. Только не вздумайте ей рассказывать всякие басни про новомодные шляпки, а то она тут же отправит заказ этим ребятам, что высылают товары по почте, и выбросит мои денежки на глупую мишуру. У нее уже есть шляпка.
Но мать этих слов как будто и не услышала. Она знала, что отец просто так болтает. Она знала, что, стоит ей чего-то по-настоящему захотеть и сказать отцу, тот в лепешку расшибется, лишь бы ей эту штуку достать. Она подлетела к столу с кофейником, снова налила всем, поставила кофейник поближе, чтоб был под рукой, и уселась за стол сама.
Я думал, что эту историю со шляпками она выдумала как уловку, чтобы помочь отцу уговорить гостя остаться. Но она, не откладывая дела в долгий ящик, начала приставать, чтоб он описал дам, которых видел в Шайенне и других городах, где могли уже появиться новые моды. А он сидел, спокойный и приветливый, и рассказывал ей, что там носят шляпки с широкими мягкими полями, со множеством цветов на тулье и с прорезями в полях, через которые пропускают шарф и завязывают в виде банта под подбородком.
По-моему, страшно глупо, когда взрослый мужчина ведет такие разговоры. Но этого Шейна они вовсе не смущали. И у отца вид такой был, будто он полагал, что тут все вполне нормально, хотя и не особенно интересно. Он в основном слушал их болтовню с добродушным спокойствием, только пытался время от времени влезть со своими рассуждениями об урожае или о бычках — и замолкал, и снова пробовал — и снова сдавался, покачивая головой и глядя с улыбкой на этих двоих. А дождь снаружи был где-то далеко-далеко, и ничего он не значил, потому что дружеского настроения и тепла у нас в кухне хватило бы, чтобы согреть весь мир.
А потом Шейн начал рассказывать о ежегодной выставке скота в Додж-Сити, и тут уже отец заинтересовался и загорелся, пока наконец мать, не сказала:
— Смотрите, солнце светит.
Солнце сияло, такое чистое и яркое, что сразу захотелось выбежать наружу и вдохнуть сверкающую свежесть. Отец, должно быть, почувствовал то же самое, потому что вскочил и радостно закричал:
— Пошли, Шейн! Я вам покажу, что в этом буйном климате делается с моей люцерной. Да она тут просто у тебя на глазах растет!
Шейн отстал от него всего на шаг, но я до дверей добрался первым. Мать двинулась следом и остановилась на крыльце, глядя, как мы все трое несемся, выбирая дорогу среди луж и высоких зарослей травы, сверкающей от дождевых капель. Мы обошли всю ферму, ничего не пропуская, отец говорил без умолку, и уже много недель собственные планы не вызывали у него такого восторга. И совсем уж он разошелся, когда мы оказались за сараем; отсюда было хорошо видно наше небольшое стадо, рассеявшееся по всему пастбищу. Но тут отцу пришлось замолчать. Он заметил, что Шейн не особенно его слушает. Отец просто язык проглотил, когда увидел, что Шейн смотрит на пень.
Этот пень был единственным темным пятном на всю ферму. Он торчал посреди расчищенного места за сараем, как старая засохшая болячка, он весь ощетинился зазубринами сверху, этот последний остаток какого-то громадного дерева, которое умерло, должно быть, задолго до нашего приезда в эту долину и в конце концов было повалено жестокой бурей. Пень был страшно большой; я давно уже решил, что, если б его выровнять сверху, так на спиле хватило бы места накрыть ужин для многочисленной семьи.
Только ужинать эта семья все равно не смогла бы, потому что близко к нему было не подойти. Громадные старые корни, некоторые толще меня, горбами выпирали во все стороны, растопыривались и впивались в землю так, будто собирались продержаться здесь целую вечность и еще немножко после нее тоже.
Отец брался за этот пень снова и снова, он долбил корни топором с того самого дня, как закончил огораживать кораль. Только даже при его напористости дело шло медленно. Древесина была такая твердая, что он не мог с одного удара всадить топор глубже чем на четверть дюйма. Я думаю, это был старый каменный дуб. Деревьев этой породы не много попадалось так далеко в глубине Территории, но те, что были, вырастали громадные и крепкие. Мы эту породу называли «железный дуб».
Отец пытался выжечь его, обкладывая хворостом. Однако этот старый пень просто глумился над огнем. От поджаривания древесина как будто становилась еще тверже, чем раньше. Так что пришлось отцу отвоевывать один корень за другим. Только у него никогда не оставалось на это достаточно времени. В тех редких случаях, когда он по-настоящему из-за чего злился, он топал к этому пню и начинал грызть очередной корень.
И сейчас он подошел к пню и пнул ногой первый подвернувшийся корень — сердито так лягнул, он всегда его пинал, когда проходил мимо.
— Да, — сказал он. — Он как мельничный камень у меня на шее. Единственная дурость на всю ферму, которую мне никак выковырять не удается. Но я с ним управлюсь. Еще не выросло такое дерево, чтоб устояло перед человеком, у которого хватит силы и воли долбить его.
Он так смотрел на этот пень, как будто это живой человек перед ним раскорячился.
— Вы знаете, Шейн, я столько времени враждую с этой штуковиной, что у меня к ней появилось вроде даже расположение какое-то. Она крепкая. А я уважаю крепость. Это — хорошее свойство.
Он побежал дальше, его переполняли слова, он с радостью их выпаливал — и вдруг заметил, что внимание Шейна снова отключилось: он прислушивался к какому-то дальнему звуку. Ну да, это лошадь приближалась по дороге.
Мы с отцом повернулись тоже и посмотрели в сторону городка. Вскоре в просвете между деревьями и высокими кустами в четверти мили от нас появился гнедой конь с высоко поднятой на длинной шее головой, запряженный в легкую повозку — бакборд 9. Грязь взлетала из-под копыт, но не особенно обильно, и конь шел легко.
Шейн покосился на отца.
— По такой дороге не поедешь… — мягко сказал он. — Ну, Старрет, лгун из вас неважный, вот и попались…
И тут же его внимание вновь обратилось к повозке, и он настороженно и внимательно уставился на человека, устроившегося на плавно покачивающемся сиденьи.
У отца замечание Шейна вызвало только смешок.
— Это запряжка Джейка Ледьярда, — сказал он, и двинулся к проезду, проходящему по меже между нашей и соседской изгородью. — Я так и думал, что он покажется здесь на этой неделе. Надеюсь, он привез тот культиватор, что я хотел.
Ледьярд, маленький человечек с мелкими чертами лица, был бродячим торговцем; он появлялся каждые пару месяцев с товарами, которых нельзя было найти в универсальном магазине соседнего городка. Товары Ледьярда возил на грузовой повозке, запряженной парой мулов, старый седой негр, который рот боялся открыть без разрешения. А сам Ледьярд доставлял товары покупателям на своем бакборде, заламывал зверские цены и собирал заказы на следующий приезд. Я его не любил, и не только потому, что он вечно нахваливал меня, чтобы подлизаться к отцу, хотя вовсе не думал обо мне ничего хорошего. Он слишком часто улыбался… а настоящей доброты и дружелюбия в этих улыбках не было и в помине.
Пока мы добрались до крыльца, он уже завернул в наш проезд, натянул вожжи и остановил коня. И тут же спрыгнул на землю, выкрикивая приветствия. Отец вышел ему навстречу. Шейн остановился у веранды, опершись о крайний столбик.
— Вот он тут, — сказал Ледьярд. — Красавец, о котором я вам рассказывал!
Он сдернул с повозки парусину, и солнце ярко засияло на блестящих частях нового семилемешного культиватора, лежащего на досках платформы.
— Это — самая лучшая покупка из всего, что я в этот раз привез!
— Хм-м-м-м, — сказал отец. — Вы попали в самую точку. Это как раз то, что я хотел. Но когда вы начинаете кудахтать про самую лучшую покупку, это всегда означает большие деньги. Ну, так какая же цена?
— Н-ну… — Ледьярд не торопился с ответом. — Он обошелся мне дороже, чем я рассчитывал, когда мы с вами прошлый раз говорили. Вы можете подумать, что это малость круто. А я так не думаю. Ничуть не круто за такого красавца, новенького, с иголочки. Он вам столько труда сбережет, что вы разницу покроете в один момент. А управляться с ним так легко, что даже вот этот мальчик скоро сможет на нем работать.
— Короче! — сказал отец. — Я задал вам вопрос.
Теперь Ледьярд уже не тянул.
— Вот я чего вам скажу, так и быть, срежу я цену, пусть и потеряю деньги, лишь бы угодить такому хорошему покупателю. Я вам его уступлю за сотню с десяткой.
И тут я с изумлением услышал голос Шейна, спокойный, ровный и уверенный.
— Уступите? Ну, конечно, покупатель с радостью ухватится за это предложение. Я видел такой в магазине, в Шайенне. Он стоил шестьдесят долларов по прейскуранту.
Ледьярд чуть сдвинулся в сторону. В первый раз он взглянул на нашего гостя. Деланная улыбка покинула его лицо. В голосе зазвучала мерзкая интонация.
— А вас кто просил влезать?
— Никто, — сказал Шейн, по-прежнему спокойно и ровно. — Думаю, никто меня не просил…
Он все так же опирался на столбик. Не сдвинулся с места и не сказал ни слова больше.
Ледьярд повернулся к отцу и затарахтел:
— Забудьте его слова, Старрет! Я его узнал. Я о нем десять раз слышал, пока сюда ехал. Никто его не знает. Никто в нем разобраться не может. Ну, а я могу! Это просто отщепенец, перекати-поле, небось, выгнали его из какого-то города, вот он и шастает повсюду, ищет, где спрятаться. Удивляюсь, что вы позволяете ему здесь ошиваться.
— Можете удивляться чему угодно, — сказал отец, только теперь уже он заговорил отрывисто и резко. — Давайте-ка называйте настоящую цену.
— А я уже назвал. Сто десять долларов. Черт побери, все равно я уже на этом теряю деньги, ладно, так и быть, срежу еще — пусть будет ровно сотня, чтоб вам стало легче… — Ледьярд помедлил, глядя на отца. — Может, он что-то и видел в Шайенне. Но только он перепутал. Небось, один из этих, мелких — корявый, неуклюжий и вдвое меньше по размеру. Ну, тот как раз и стоит, сколько он сказал…
Отец ничего не ответил. Он смотрел на Ледьярда твердым немигающим взглядом. На Шейна он даже не оглянулся. Можно было подумать, что он вообще не слышал, что Шейн сказал. Но губы у него сжались в одну прямую линию, как будто он подумал о чем-то таком, о чем думать противно. Ледьярд ждал, а отец ничего не говорил, и тут злость, нарастающая в Ледьярде, вырвалась наружу.
— Старрет! Вы что же, так и будете стоять здесь и позволять этому никому не известному бродяге обзывать меня лжецом? Вы его слову верите больше, чем моему? Да вы только поглядите на него! На его одежку задрипанную гляньте! Да это ж просто дешевый пустозвон!
И остановился, будто поперхнулся тем, что собирался еще сказать. В лице появился внезапный испуг, он попятился. Я понял, что его напугало, когда повернул голову к Шейну.
Тот самый холодок, неуловимый и устрашающий, который я почувствовал вчера, повис в воздухе снова. Шейн больше не опирался на столбик веранды. Он стоял выпрямившись, уперев руки в бока, глаза сверлили Ледьярда, все тело мгновенно напряглось и ожило.
Я почувствовал, уж не знаю как, что в любую секунду может грянуть неописуемый смертоносный взрыв. Но потом напряжение спало, растворившись в пустой тишине. Глаза Шейна уже не были остро сведены на лице Ледьярда, и мне показалось, что в них отразилась какая-то глубокая внутренняя боль.
Отец повернул голову, окинул взглядом их обоих, а потом снова обернулся к Ледьярду.
— Да, Ледьярд, я верю его слову. Он — мой гость Он находится здесь по моему приглашению. Но дело не в этом. — Отец слегка выпрямился, голова его поднялась и он уставился куда-то вдаль, за реку. — Я сам умею разбираться в людях. Я поверю любому его слову, в любое время дня и ночи.
Голова отца опустилась, и голос звучал ровно и категорично.
— Шестьдесят долларов — вот цена. Добавим десятку на честную прибыль, хотя вы, наверняка, купили его по оптовой цене. Еще десятка — за доставку сюда. Всего — восемьдесят. Хотите — берите, хотите — нет. И в любом случае, решайтесь побыстрее и убирайтесь вон с моей земли.
Ледьярд смотрел на свои руки, потирая их одна о другую, как будто от холода.
— Ладно, давайте ваши деньги, — сказал он.
Отец пошел в дом, в спальню — он там держал наши деньги в кожаном мешочке, на полке в шкафу. Вернулся со смятыми банкнотами в руке. Все это время Шейн стоял на месте, не двигаясь, с окаменевшим лицом, глаза его провожали отца, и в них было какое-то неистовство, которого я не мог понять.
Ледьярд помог отцу сбросить культиватор на землю, потом вскочил на сиденье повозки и понесся прочь, как будто был рад и счастлив поскорее убраться с нашей фермы. Мы с отцом проводили его взглядом и повернулись. Мы глядели вокруг, но Шейна нигде не было видно. Отец в удивлении покачал головой.
— Слушай, где же, по-твоему… — начал он — и тут мы увидели Шейна, идущего от сарая.
Он нес топор, тот, которым отец колол самые толстые чурбаны. Шейн прошел прямо за угол дома. Мы уставились ему вслед и все еще стояли и смотрели, пока не услышали чистый звонкий звук стали, впивающейся в дерево.
Я не мог объяснить, как этот звук на меня подействовал. Он меня просто пронзил насквозь, этого со мной никогда не бывало из-за какого-то звука. А вместе с ним пришла теплая волна — и стерла раз и навсегда чувство внезапного холодного ужаса, которое наш гость пробуждал во мне. В нем таилась острая твердость. Но эта твердость была обращена не против нас. Он был опасен, как сказала мать. Но не для нас, как сказал отец. И он больше не был чужим. Он был таким же человеком, как отец; и я, мальчишка, мог верить в него, просто-напросто зная, что и то в нем, оставшееся за пределами моего понимания, все равно чистое, надежное и правильное.
Я поднял глаза на отца, пытаясь понять, что он думает, но он ринулся к сараю такими большими шагами, что мне пришлось бежать, чтобы не отстать от него. Мы повернули за дальний угол, а там был Шейн, который взялся за самый толстый необрубленный корень этого громадного старого пня. Он махал топором в размеренном ритме. И топор у него впивался в этот корень почти на такую же глубину, как у отца.
Отец остановился, широко расставив ноги, уперев руки в бока.
— Слушайте, — начал он, — вам вовсе нет нужды…
Шейн прервал ритм ударов ровно настолько, чтобы поднять на нас прямой взгляд.
— Человек должен платить свои долги, — сказал он и снова взмахнул топором. Он просто вцепился в этот корень.
Его переполняла такая отчаянная решимость, что я не мог смолчать.
— Вы нам ничего не должны, — сказал я. — Мы сто раз кормили людей, и…
Рука отца легла мне на плечо.
— Нет, Боб. Он не про еду сказал.
Отец улыбнулся, но ему пришлось моргнуть несколько раз подряд, и, могу поклясться, глаза у него затуманились. И теперь он стоял в молчании, неподвижно, и наблюдал за Шейном.
А на него стоило посмотреть. Когда отец брался за этот старый пень, на него тоже стоило посмотреть. Он очень здорово управлялся с топором, меня просто поражало, как его сила и воля заставляет железо буквально оживать и сражаться за него с твердым старым деревом. А здесь было иначе. Что поражало в Шейне, который уже разобрался, что ему противостоит, и взялся за дело по-настоящему, так это легкость, с какой его мощь изливалась в каждом ударе. Этот человек и топор были напарниками, товарищами по работе. Лезвие впивалось в корень, оставляя параллельные зарубки, как будто само знало, что надо делать, и щепки между этими зарубками отделялись твердыми и тонкими плашками.
Отец следил за ним, а я следил за ними обоими, и время проходило над нами, а потом топор перерубил последнее волокно, и корень отделился от пня. Я думал, что Шейн остановится. Но он сразу перешел к следующему корню, снова расставил покрепче ноги, и опять лезвие врубилось в древесину.
Когда оно ударило в этот второй корень, отец вздрогнул так, будто это в него ударило. А потом застыл как вкопанный, отвел глаза от Шейна и уставился на старый пень. Он начал топтаться, переминаясь с ноги на ногу. Еще минута — и он зашагал вокруг пня, осматривая его с разных сторон, как будто он эту штуковину никогда в жизни не видел. Наконец пнул ногой ближайший корень и понесся прочь. Через мгновение он уже вернулся обратно со вторым топором, громадным обоюдоострым чудищем, которое я едва мог оторвать от земли.
Он выбрал корень на противоположной от Шейна стороне. Он не злился сейчас, как обычно, когда схлестывался с одним из этих корней. Лицо у него было безмятежное и довольное. Он замахнулся этим топором так, будто он был игрушечный. Лезвие ударило и впивалось, может, на целых полдюйма. Услышав удар, Шейн выпрямился там, на своей стороне. Они глянули друг на друга поверх пня, глаза встретились и задержались на мгновение, но ни один из них не сказал ни слова. А потом они снова взмахнули топорами, а вот их топоры сказали старому пню очень многое…
3
Поначалу здорово было смотреть на них. Они стучали топорами часто, щепки так и плясали в воздухе. Я думал, может, теперь каждый перерубит свой корень ц на том они остановятся. Но Шейн покончил со своим, глянул поверх пня на отца, работающего в ровном темпе, по губам скользнула мрачноватая улыбка, и он перешел к другому корню. Через несколько секунд и отец сокрушил свой корень, да таким ударом, что топор прошел насквозь и воткнулся в землю. Отец подергал топорище, высвободил лезвие и тут же схватился со следующим корнем, даже не обтерев землю с топора. Стало ясно, что дело это затянется надолго, и я тихонько побрел прочь. И только собрался завернуть за угол сарая, как навстречу вышла мать.
Никого красивее и свежее я в жизни не видел. Она вытащила свою шляпку, ободрала с нее старую ленту и переделала, как ей Шейн рассказывал. Впереди пристроила небольшой букет из цветов, сорванных возле дома. Прорезала щели в полях и пропустила через них широкий пояс от своего лучшего платья — он охватывал шляпку сверху и был завязан пышным бантом под подбородком. Она ступала грациозно и здорово гордилась своим видом.
Она подошла к самому пню. А эти два лесоруба были так заняты и сосредоточены, что, хоть, может, и поняли, что она тут, но на самом деле ее не заметили.
— Ну-ну, — сказала она, — вы что, на меня и посмотреть не хотите?
Оба остановились и оба уставились на нее.
— Я правильно сделала? — спросила она у Шейна. — Так они носят?
— Да, мэм, — сказал он. — Примерно так. Только у них поля пошире.
И повернулся обратно к своему корню.
— Джо Старрет, — сказала мать, — может, ты хотя бы скажешь мне, нравлюсь ли я тебе в этой шляпке?
— Послушай, Мэриан, — сказал отец, — ты знаешь чертовски хорошо, что, в шляпке ты или без шляпки, нет для меня на этой зеленой земле Господней ничего прекраснее, чем ты. А теперь не мешай нам больше. Ты что, не видишь, что мы заняты?
И тоже отвернулся к своему корню.
У матери лицо стало красное. Она рывком развязала бант и сорвала шляпку с головы. Стояла и раскачивала ее в одной руке, держа за концы пояса. Волосы у нее растрепались, она просто бешеная стала.
— Гм-м! — произнесла она. — Довольно чудный вид отдыха вы себе нашли сегодня…
Отец опустил топор на землю и оперся на топорище.
— Может, это тебе и кажется чудным, Мэриан. Но лучше отдыха, чем этот, у меня не было, сколько я себя помню.
— Гм-м! — сказала мать снова. — Только вам в любом случае придется на время прервать ваш отдых и заняться тем, что, надо полагать, вы бы назвали работой. Обед на печи, горячий, и ждет, чтоб его подали на стол.
Она резко повернулась и зашагала прямо к дому. Мы все трое побрели за ней следом и принялись за еду в неловком молчании. Мать всегда считала, что человек за едой должен вести себя благопристойно и вежливо, особенно при гостях. Ну, она и сейчас вовсю соблюдала благопристойность и вежливость. Она была подчеркнуто любезна, говорила одна за всех, но ни слова не промолвила о своей шляпке, лежащей на стуле возле печки, там, где она ее бросила. Вот только вежлива она была сверх меры, и это не сулило ничего хорошего. Уж слишком она старалась быть любезной.
И, тем не менее, двоих мужчин за столом такое ее поведение ничуть не трогало — по крайней мере, с виду Они рассеянно слушали ее разговоры, отвечали, когда она обращалась к ним с каким-то прямым вопросом, но остальное время хранили молчание. Мысли их вертелись вокруг старого пня и вокруг того, что этот старый пень вдруг стал значить для них, и им не терпелось снова за него взяться. Чем он их так зацепил?..
Когда они вышли, а я остался помочь матери с посудой, она начала потихоньку напевать про себя, и я понял, что больше она не злится. Уж слишком заедало ее любопытство, чтобы еще для чего-то место осталось.
— Что там происходит, Боб? — спросила она. — Что в этих двоих вдруг вселилось?
А я сам толком не знал. Ну, я попробовал, как мог, рассказать ей про Ледьярда и про то, как наш гость обрезал его с этим культиватором. Только, наверное, я что-то не так говорил, потому что, когда я рассказывал, как Ледьярд его обзывал и как поступил Шейн, она разволновалась, вся красная стала.
— Что ты говоришь, Боб? Ты его боялся? Он тебя
напугал? Отец бы никогда не позволил ему тебя обидеть.
— Да нет, я не его испугался, — я мучился, пытаясь растолковать ей разницу. — Я… мне просто так страшно было. Я боялся… ну, не знаю… ну, того, что может случиться…
Она протянула руку и потрепала меня по волосам.
— Думаю, я поняла, — сказала она мягко. — Он и у меня вызывает похожие ощущения…
Она подошла к окну и посмотрела в сторону сарая. Ровный ритмичный звук двойных ударов, которые частенько почти сливались вместе, сюда, до кухни, долетал слабо, но отчетливо.
— Надеюсь, Джо знает, что делает, — пробормотала она, будто сама с собой разговаривала. А потом повернулась ко мне: — Беги уже, Боб. Я сама закончу.
Теперь на них смотреть было уже не так интересно. Они снизили темп и работали медленно и упорно. Отец сперва послал меня за точильным камнем, и они подправили лезвия топоров, а после — за лопатой, чтобы отгрести землю от самых нижних корней, и тогда до меня дошло, что он меня будет гонять туда-сюда все время, пока я тут под рукой. Так что я сам удрал и пошел поглядеть, как там поживает после дождя мамин огород и при случае увеличить численность населения в коробке с червяками — я их собирал, чтобы пойти на рыбалку с ребятами из городка.
Я убил на это много времени. Забрался далеко в поле, играл там. Но, куда бы я ни ушел, все время я слышал вдали тюканье топоров. Ничего я не мог с собой поделать, я уставал просто от того, что все время слушал и думал, как они там работают, и не мог забыть об этом.
Наконец, уже во второй половине дня, я зашел в сарай. А там возле заднего стойла была мать, стояла на ящике и смотрела в маленькое окошко. Она спрыгнула на землю, как только услышала мои шаги, и приложила палец к губам.
— Должна тебе заявить, — прошептала она, — что кое в чем эти двое — мальчишки похлеще тебя, Боб. Ну, совершенные мальчишки… — Она наморщила брови так забавно, с таким ко мне доверием, что у меня тепло внутри стало. — Ты только не вздумай проболтаться им, что я так сказала. Но они затеяли такую битву с этим старым чудовищем — просто великолепно!
Она пронеслась мимо меня и устремилась к дому так легко и живо, что я отправился следом, поглядеть, что это она собралась делать.
А она летала по кухне, я моргнуть не успел, как она уже сунула в духовку целую сковородку бисквитов. Пока они там пеклись, она взяла свою шляпку и аккуратно пришила на место старую ленту.
— Гм-м-м, — сказала она, не столько мне, сколько себе. — Думай себе что хочешь, но кое-что я поняла. Это — не Додж-Сити. Это даже не железнодорожный полустанок. Это — ферма Джо Старрета. Впрочем, тут мое законное место, и я этим горжусь.
Тем временем бисквиты поспели. Она уложила их на тарелку, сколько поместилось, сунула один себе в рот, а еще один дала мне. Потом подхватила тарелку и зашагала с нею за сарай. Переступила через обрубленные корни, нашла ровное место на верхушке пня и поставила туда тарелку. Посмотрела на них двоих, сперва на одного, после на другого.
— Вы, конечно, пара дураков, — сказала она. — Но нет такого закона, который запрещал бы мне тоже быть дурой.
И, не взглянув больше на них, высоко подняла голову и зашагала обратно к дому.
Они оба смотрели ей вслед, пока она не скрылась за сараем. Потом повернулись и уставились на бисквиты. Отец глубоко вздохнул — так глубоко, что, казалось, вздох этот исходил изнутри его тяжелых рабочих башмаков. Только в этом вздохе не было ничего грустного или печального. Просто у него внутри нарастало что-то такое большое, что не сдержать. Он уронил топор на землю. Наклонился вперед и разложил бисквиты на две кучки рядом с тарелкой, считая их, чтоб вышло поровну. Один бисквит остался на тарелке. Он положил его на пень отдельно. Поднял свой топор, нацелился, потом отпустил — топор мягко упал и разрубил этот бисквит точно по срединке. Он прислонил топор к пню, взял две половинки бисквита и положил по одной в каждую кучку.
Он не сказал Шейну ни слова. Он набросился на одну кучку, а Шейн на другую, и они оба стояли, глядя друг на друга, над последними необрубленными корнями, и жевали эти бисквиты так, будто серьезнее дела у них в жизни не было.
Отец прикончил свою кучку и пальцами собрал с тарелки последние крошки. Он выпрямился и потянулся, разведя руки вверх и в стороны. Он, казалось, все вытягивался и вытягивался, пока не вырос в громадную башню, надежный оплот высотой до самого предвечернего солнца. А потом внезапно кинулся на эту тарелку, схватил ее и бросил мне. И, продолжая то же движение, подхватил топор, описал им в воздухе широкую дугу и обрушил на корень. Шейн, как всегда быстрый, ударил одновременно с ним, и они, оба вместе, продолжили свой разговор со старым пнем.
Я отнес тарелку матери. Она чистила на кухне яблоки, весело напевая.
— Дровяной ящик пуст, Боб, — сказала она и снова запела.
Я таскал дрова, пока не заполнил ящик. А потом поскорее выскользнул за дверь — того и гляди, она бы мне придумала новую работу.
Довольно долго я проторчал на речке — запускал «блинчики», швыряя плоские камни в воду, грязную после дождя. Меня бы надолго хватило. Но в этом равномерном тюканьи топоров была необыкновенная притягательная сила. Меня все время тянуло к сараю. Я просто понять не мог, как им хватает терпения продолжать это дело час за часом. Никак до меня не доходило, зачем им так упорно трудиться, не такое уж важное дело выкорчевывать этот старый пень. Я болтался с другой стороны сарая, как вдруг заметил, что звук переменился. Теперь стучал только один топор.
Я тут же помчался за сарай. Шейн все еще махал топором, врубаясь в последний корень. А отец орудовал лопатой, подкапывался сбоку под пень, выгребая землю между обрубками корней. Вот он отложил лопату в сторону и налег на пень плечом. Он его старался приподнять. На лице выступил пот. Наконец негромко чавкнуло, и пень слегка шевельнулся.
Тут и на меня подействовало. Так накатило, что я слышал, как кровь в ушах застучала. Мне хотелось наброситься на этот пень, толкать его и чувствовать, как он шевелится… Только отец опять бы сказал, что я путаюсь под ногами.
Шейн покончил со своим корнем и пришел помочь отцу. Они вместе налегли на пень. Он отклонился почти на целый дюйм. Даже щель появилась, там где он оторвался от земли. Но стоило им чуть ослабить нажим, и пень тут же сел на место.
Снова и снова наваливались они на пень. Каждый раз он отклонялся чуть больше. И каждый раз падал обратно. Один раз им удалось поднять его на целых полтора фута, но это был предел. Преодолеть его им было не под силу.
Они остановились, тяжело дыша, оба просто полосатые от струек пота, сбегающих по лицу. Отец попробовал заглянуть под пень подальше.
— Там, видать, главный корень остался, — сказал он.
По-моему, это были единственные слова, произнесенные между ними за всю вторую половину дня. Отец больше ничего не говорил. И Шейн ничего не сказал. Он просто взял в руки топор, оглянулся на отца и остановился в ожидании.
Отец начал качать головой. Была между ними какая-то невысказанная мысль, которая его тревожила. Он посмотрел вниз, на свои большие руки, и пальцы их медленно согнулись и стиснулись в тяжелые кулаки. Потом голова перестала качаться, он выпрямился и глубоко вздохнул. Повернулся спиной и начал втискиваться между двумя обрубками корней, прижимаясь к пню. Он утоптал ногами землю, чтобы опора для ног была потверже. Согнул колени, скользнул спиной вниз по пню и охватил своими здоровенными ручищами обрубки корней. Медленно начал он выпрямляться. Медленно начал подниматься этот громадный старый пень. Он полз кверху дюйм за дюймом, пока не поднялся до того предела, которого они достигали прежде.
Шейн присел, чтобы заглянуть под него. Он просунул свой топор в отверстие, и я услышал, как он стучит по дереву. Но работать топором там, в этой яме, можно было в одном-единственном положении — стоять на правом колене, а левую ногу опустить в яму и опираться на нее. Тогда он мог хоть чуть-чуть размахнуться топором, да и то над самой землей.
Он бросил один быстрый взгляд на отца, который стоял рядом, у него за спиной, закрыв глаза, напрягая мускулы в страшном усилии, и тут же полез в эту яму, и весь жуткий вес пня навис над ним, а он скорчился там на одном колене и начал наносить топором быстрые и мощные удары.
Внезапно мне показалось, что отец поскользнулся. Только он не поскользнулся. Он даже выпрямился больше, чем раньше. Пень приподнялся еще на несколько дюймов. Шейн выпрыгнул из ямы и отбросил топор в сторону. Он ухватился за обрубок корня и помог отцу опустить пень на место. Оба они пыхтели так, будто долго бежали. Но они отдыхали не больше минуты, а потом снова налегли на пень. Теперь он поднимался легче, и земля вокруг него трескалась и обсыпалась.
Я понесся домой быстро как мог. Я ворвался в кухню и схватил мать за руку.
— Скорее! — кричал я. — Бежим! — Она как будто сначала не хотела идти, и я начал тянуть ее. — Ты должна это видеть! Они его вытаскивают!
Тогда и ее охватило то же возбуждение, и она побежала рядом со мной.
Они уже подняли пень довольно высоко, он сильно наклонился. Они оба были внизу, в яме, каждый со своей стороны, они выталкивали руками снизу, упираясь в нижнюю поверхность пня, и она уже задралась над ними выше головы. Можно было подумать, что пень вот-вот перевалится своим древним основанием кверху. Но тут он застрял. Надо было приподнять его еще на какие-то несколько дюймов, а они не могли.
Мать, смотревшая, как они борются с ним, наконец не
выдержала.
— Джо, — позвала она, — а почему бы не пошевелить мозгами? Возьми лошадей, они его выдернут за одну минуту!
Отец замер в напряжении, удерживая пень на месте. Он только повернул голову и покосился на мать.
— Лошадей! — выкрикнул он. Все то молчание, что они вдвоем хранили так долго, было сокрушено одним этим возмущенным выкриком. — Лошадей! Господи Боже всемогущий! Ну, уж нет! Мы начали это своими руками, и, черт меня раздери, своими руками и закончим!
Он отвернулся, еще раз взглянул снизу на пень, а после опустил голову пониже между сгорбленными плечами. Шейн, стоящий с другой стороны, напрягся, и они вдвоем устремились в очередную атаку. Пень вздрогнул, еще чуть приподнялся — и замер под невероятным углом.
Отец зарычал от злости. Видно было, как сила накапливается у него в ногах, широких плечах и больших жилистых руках. Его сторона задранного кверху пня качнулась вперед, а та сторона, где стоял Шейн, пошла назад, и весь пень задрожал, как будто должен был вот-вот вывернуться вниз и рухнуть в яму, на них, только в другом, каком-то нелепом положении.
Я уже хотел крикнуть: «Осторожно!» Но только и рта не смог раскрыть, потому что Шейн резко мотнул головой вбок, чтобы отбросить волосы с лица, и я на мгновение увидел его глаза. Они пылали сосредоточенным холодным огнем. Больше он ничего не сделал, ни рукой, ни ногой отдельно не двинул. Просто весь, всем телом, рванулся в одном неимоверном взрыве мощи. Даже на расстоянии ощущалось, как жар, жестокая энергия, внезапно полыхнувшая в нем, изливалась через, него в едином целеустремленном порыве. Его сторона пня наклонилась вперед вровень с отцовской, и всей массой громадный пень вырвался из земли, лишившись последней поддержки, перевернулся и неуклюже раскорячился перед ними, признав свое поражение.
Отец медленно вылез из ямы. Он подошел к пню, положил руку на его округлый бок и слегка потрепал, как будто это был старый друг и ему было его немного жалко. И Шейн на другой стороне пня тоже мягко опустил ладонь на старое твердое дерево. Оба они подняли головы, и их глаза встретились снова, как и тогда, давным-давно, этим утром.
Сейчас должна была бы царить полная тишина. Но это было не так, потому что кто-то кричал, орал тонким визгливым голосом, просто вопил без слов. Наконец я понял, что это мой голос, и закрыл рот. Вот теперь настала тишина, чистая и благотворная, и это была одна из тех картин, которые ты никогда не забудешь, как бы ни обкатало тебя время в бороздах годов — старый пень, лежащий на боку, и обрубки корней, образующие несуразный силуэт на фоне солнечного сияния, пробивающегося из-за далеких гор, и два человека, глядящие поверх него друг другу в глаза.
Я думал, что они должны бы положить руки на пень совсем рядом. Я думал, они, по крайней мере, должны что-то сказать друг другу. А они стояли тихо и неподвижно. Наконец отец повернулся и пошел к матери. Он так устал, что его просто шатало на ходу. Но в голосе усталости не слышалось.
— Мэриан, — сказал он. — Вот теперь я отдохнул. Я думаю, ни один человек с начала времен не был таким отдохнувшим.
Шейн тоже шел к нам. Он тоже обратился только к матери.
— Да, мэм, кое-чему я научился сегодня. Оказывается, чтобы быть фермером, человеку нужно куда больше, чем я когда-нибудь мог вообразить… И еще: теперь я, кажется, готов съесть немного пирога.
Мать смотрела на них, широко раскрыв глаза в изумлении. Но при этих последних словах она просто завопила:
— О-о-ох… вы… вы… мужчины! Я из-за вас о нем забыла! Он же, наверное, весь сгорел! — И понеслась к дому, путаясь в юбке.
Пирог действительно сгорел, да еще как. Мы это чуяли даже снаружи, не заходя в дом, пока отец и Шейн отмывались над желобом возле насоса. Мать распахнула дверь, чтобы проветрить кухню. Шум внутри был такой, как будто она расшвыривала все вокруг. Гремели котелки, звякали тарелки. Ну, когда мы зашли внутрь, то поняли, почему. Она накрыла стол и теперь раскладывала ужин по тарелкам. Она хватала миски и вилки со своих мест и грохала их на стол. И ни на кого из нас не глядела.
Мы уселись и стали ждать, пока она к нам присоединится. А она отвернулась спиной, замерла над низкой полкой возле печи и все глядела, не отрываясь, на большую форму для пирога и на обугленную массу в ней. В конце концов отец проговорил довольно резко:
— Послушай-ка, Мэриан. Ты что, даже сесть не хочешь?
Она развернулась и как глянет на него! Я-то думал, что она плачет там над этим пирогом. Но не увидел на лице у нее ни слезинки. Оно было сухое, измученное и белое как стенка. А голос звучал так же резко, как у отца.
— Я собиралась приготовить яблочный пирог в глубокой форме. Ну, так я его приготовлю. И никакие ваши дурацкие мужские глупости меня не остановят.
Подхватила она эту большую форму и вылетела с нею за дверь. Мы услышали ее шаги по ступенькам, а через несколько секунд загремела крышка мусорной бадьи. Потом снова донеслись шаги по ступенькам. Она вошла в кухню, направилась к боковому столу, где был чан для мытья посуды, и начала отскребать эту форму для пирога. И все это она делала так, как вроде нас вообще тут не было.
У отца побагровело лицо. Он схватил вилку, хотел было начать есть — и снова бросил на стол. Он вертелся на стуле и все поглядывал искоса на мать. А она домыла форму, подошла к бочонку с яблоками и набрала в деревянный таз самых крупных и круглых. Села у печки и принялись их чистить. Отец пошарил в кармане и выудил свой старый складной нож. И пошел к ней, ступая потихоньку. Потянулся за яблоком — хотел ей помочь.
Она даже глаз не подняла. Но голос ее перехватил его, как если б она кнутом хлестнула.
— Джо Старрет, не смей трогать эти яблоки!
Он вернулся на место робко, как овечка. Но потом просто озверел. Схватил нож, вилку и врубился в еду на тарелке, он отхватывал здоровенные куски и свирепо жевал. Мне с нашим гостем не оставалось ничего, кроме как последовать его примеру. Может, это был хороший ужин. Не могу сказать. Мы не знали, что едим. Сейчас для нас пища была… ну, просто чем-то таким, что можно в рот положить. А когда мы закончили, делать было нечего, только ждать, потому что мать сидела у печи, упершись глазами в стенку, и ждала, пока пирог допечется.
А мы трое сидели за столом и глядели на нее, и такая тишина стояла, что аж больно было. Ничего мы не могли поделать. Мы пытались отвести взгляд, но все равно глаза к ней возвращались. А она как вроде и не замечала нас. Можно было подумать, будто она вообще забыла, что мы тут есть.
Но ничего она не забыла, потому что, как только почувствовала по запаху, что пирог готов, она его вытащила, отрезала четыре больших куска и разложила по тарелкам. Первые две она поставила перед отцом и Шейном. Третью придвинула мне. А последнюю поставила перед своим местом и села на свой стул за столом. Голос ее был все еще резкий:
— Извините, мужчины, что заставила вас так долго ждать. Теперь ваш пирог готов.
Отец так пялился на свою порцию, будто боялся ее. От него потребовалось настоящее усилие, чтобы взять вилку и подцепить кусочек. Он его пожевал, проглотил, скосил глаза на мать, а после поднял их на Шейна, сидевшего напротив.
— Замечательный пирог, — сказал он.
Теперь и Шейн наколол вилкой кусочек. Он его внимательно осмотрел. Он положил его в рот и принялся жевать с жутко серьезным видом.
— Да, — сказал он. В лице у него появилась добродушная усмешка, подтрунивание — такое явное, что и слепой не прозевал бы. — Да. Это самый лучший кусок пня, какой мне в жизни пробовать доводилось.
Что бы могло значить такое глупое замечание? Но мне некогда было удивляться, уж больно странно отреагировали на него отец с матерью. Они оба уставились на Шейна, у них просто челюсти отвалились. А потом отец захлопнул рот и начал смеяться, и так он смеялся, что его шатало на стуле.
— Господи, Мэриан, так он же прав! Ты тоже это сделала!
А мать только глаза переводила с одного на другого. Измученное выражение сошло с ее лица, щеки раскраснелись, глаза стали теплые и мягкие, как положено, и она смеялась так, что слезы катились. И тут мы все набросились на пирог, и на всем свете только одно было плохо — что его так мало.
4
Когда я проснулся на следующее утро, солнце уже забралось довольно высоко в небо. Я очень долго не мог заснуть накануне вечером, потому что мысли у меня были переполнены событиями и сменяющими друг друга переживаниями. Я никак не мог разложить по полочкам поведение этих взрослых, не мог понять, почему вещи, в общем-то не очень значительные, вдруг стали для них такими важными.
Я лежал у себя в постели и думал про нашего гостя. Как он там на койке в сарае? Мне казалось просто невозможным, чтобы это был тот самый человек, которого я впервые увидел, когда он, суровый и холодный в своем темном одиночестве, приближался по нашей дороге. Что-то такое в отце, не слова, не поступки, а самая главная суть его человеческого духа, дошла до нашего гостя и сказала ему что-то, и он на это ответил и чуть-чуть приоткрыл себя перед нами. Он был такой далекий и неприступный даже когда находился здесь, прямо рядом с тобой. И, в то же время, он был ближе, чем мой дядя, брат матери, который приезжал к нам прошлым летом…
И еще я думал о том, как он подействовал на отца и мать. При нем они стали живее, ну, да, оживились, как будто хотели показать ему, какие они есть. Я это понимал и одобрял, потому что сам испытывал такое же желание. Но меня поражало и озадачивало, что человек, такой глубокий и полный жизни, с такой готовностью откликающийся на чувство отца, вынужден идти одиноким путем из какого-то закрытого и охраняемого прошлого.
И вдруг меня будто что-то толкнуло, и я понял, как уже поздно. Дверь в мою комнатушку была закрыта. Наверное, мать ее закрыла, чтобы я мог спать без помех. Я просто с ума сошел, когда подумал, что они уже закончили завтрак и наш гость уехал, а я его даже и не увидел. Я кое-как натянул на себя одежду, не вспомнив даже про пуговицы, и кинулся к дверям.
Но они еще сидели за столом. Отец попыхивал трубкой. Мать и Шейн допивали последние чашки кофе. Все трое были какие-то смирные и тихие. А тут я вылетел из своей комнаты, как ошпаренный, — они так и уставились на меня.
— Боже мой, — сказала мать. — Ты так ворвался, будто за тобой гонятся. Что это с тобой?
— Я просто подумал, — выпалил я, мотнув головой в сторону гостя, — что вдруг он уже уехал, а про меня забыл!
Шейн слегка покачал головой, глядя прямо на меня.
— Ну, как я мог тебя забыть, Боб! — И сел чуть повыше в кресле. Потом повернулся к матери, и в голосе его прозвучали шутливые нотки. — И, конечно, я не забуду вашу еду, мэм. Если вы вдруг заметите, что слишком уж много народу заглядывает к вам в обеденное время, так это случится из-за одного благодарного человека, который будет нахваливать ваши фланелевые лепешки вдоль всей дороги.
— Н-ну, это идея! — вмешался отец, как будто обрадовался, что подвернулась безопасная тема для разговора. — Устроим из нашего дома пансион. Мэриан будет набивать людям желудки своей стряпней, а я буду набивать себе карманы ихними денежками. На мой вкус, здорово удобное разделение обязанностей!
Мать на него фыркнула. Но ей такие разговоры были приятны, она начала накладывать мне на тарелку завтрак, а сама все улыбалась, слушая, как они развивают эту идею. И сама к ним присоединилась, угрожая, что поймает отца на слове и заставит его все время чистить картошку и мыть посуду. Вот так они веселились, хотя я чувствовал какую-то натянутость за этими легкими шуточками. И еще чувствовалось, как естественно и просто этот Шейн сидит тут и разговаривает, вроде он совсем уже член семьи. И от него не было ни капли неудобства, которое всегда приносят с собой иные гости. А с ним ты просто чувствовал, что должен хорошо себя вести и чуть больше следить за своими манерами и речью. Но вовсе не лезть из кожи. Просто быть спокойным и приветливым.
Но вот наконец он поднялся, и я знал, что он собирается уехать от нас, и мне жуть как хотелось остановить его. Однако это сделал за меня отец.
— Вы, конечно, такой человек, у которого могут быть причины спешить. Но, присядьте, Шейн. Есть у меня вопрос к вам…
Отец внезапно стал очень серьезным. Шейн, стоящий перед ним, так же внезапно стал далеким и настороженным. Но все же опустился обратно на стул.
Отец посмотрел прямо ему в глаза.
— Вы спасаетесь… бежите от чего-то?
Шейн долго смотрел на тарелку, стоящую перед ним. Мне показалось, что по его лицу проскользнула тень печали. Потом он поднял глаза и посмотрел прямо на отца.
— Нет. Я не бегу ни от чего. В том смысле, что вы подразумевали.
— Это хорошо. — Отец наклонился вперед и продолжал, постукивая по столу пальцем, чтобы подчеркнуть свои слова. — Послушайте, Шейи. Я не ранчер. Теперь вы, когда мое хозяйство посмотрели, это уже поняли. Я — фермер. Немного скотовод, может быть. Но по-настоящему — фермер. Именно фермером я решил сделаться, когда перестал пасти за деньги чужих коров. Я хотел быть фермером, я им стал, и тем горжусь. Начал я неплохо. Это хозяйство не такое большое, какое я хочу завести со временем. Но уже сейчас здесь столько работы, что одному человеку никак не справиться, если делать все толком. Был у меня молодой парнишка, но он сбежал… после того, как схлестнулся однажды в городе с парой людей Флетчера… — Отец говорил быстро, и ему пришлось сделать паузу, чтобы перевести дух.
Шейн следил за его словами с напряженным вниманием. Когда отец остановился, он повернул голову и посмотрел в окно, через всю долину, на горы, шагающие вдоль горизонта.
— Всегда одно и то же, — пробормотал он. Он вроде как сам с собой разговаривал. — Старые порядки умирают медленно. — Он глянул на мать, потом на меня, а когда его глаза вернулись к лицу отца, он как будто уже принял решение насчет чего-то, что ему не давало покоя. — Итак, Флетчер давит на вас, — сказал он мягко.
Отец фыркнул.
— На меня так легко не надавишь. Но у меня здесь много работы, слишком много для одного человека, даже для меня. А бродяги, что в этих краях появляются, ни черта не стоят…
— Да? — сказал Шейн. Снова у него чуть прищурились глаза, он снова был одним из нас — и ждал продолжения.
— Хотите вы задержаться здесь на некоторое время и помочь мне привести все в порядок к зиме?
Шейн поднялся на ноги. Он возвышался над столом и сейчас выглядел выше, чем я думал.
— Я никогда не собирался стать фермером, Старрет. Я бы посмеялся над таким предложением еще несколько дней назад. И, тем не менее, считайте, что наняли себе работника. — Они с отцом смотрели друг на друга так, что ясно было — они говорят глазами то, для чего слов мало. Шейн прервал этот немой разговор, повернувшись к матери. — А в качестве платы, мэм, мне хватит вашей кормежки.
Отец хлопнул ладонями по коленям.
— Вы получите хорошую плату, и эта плата будет вполне заслуженная. А прежде всего — поезжайте-ка в город и купите какую-нибудь одежду для работы. Загляните в магазин Сэма Графтона. Скажете ему, чтоб записал на мой счет.
Шейн был уже в дверях.
— Я сам заплачу, — сказал он и исчез.
Отец так радовался, что не мог сидеть спокойно. Он подпрыгнул и завертел мать.
— Мэриан, наконец-то солнце нам засияло! Мы нашли себе человека!
— Но, Джо, ты уверен, что поступаешь правильно? Какую работу может выполнять такой человек? О, я знаю, этот пень он выкорчевывал с тобой наравне. Но пень — это особый случай. Он привык хорошо жить и иметь много денег. Это ведь сразу видно. Он сам сказал, что ничего не понимает в обработке земли.
— Я тоже ничего не понимал, когда начинал здесь. Неважно, что человек знает. Важно, что он из себя представляет. А я готов побиться об заклад, что этот человек работал ковбоем в молодые годы, и работником был первоклассным. Да он за что ни возьмется, все будет сделано как надо. Вот посмотришь! Через неделю он меня заставит выбиваться из сил, чтобы за ним угнаться, а то вообще сам начнет здесь командовать.
— Возможно.
— Ничего не «возможно»! Ты заметила, как он воспринял, когда я рассказал ему про флетчеровских парней и молодого Морли? Вот что его зацепило! Он знает, что меня загнали в угол, а он не тот человек, чтоб спокойно меня бросить в таком положении. Никто не сможет выгнать его отсюда силой или на испуг взять. Это такой же человек, как я.
— Да ну, Джо Старрет! Он ничуть на тебя не похож. Он меньше, он выглядит иначе, и одевается иначе, и говорит иначе. Я знаю, что и жил он всю свою жизнь иначе.
— Что? — отец был удивлен. — Да я вовсе не про такие вещи говорил…
Шейн вернулся с парой брюк из дангери 10, фланелевой рубашкой, крепкими рабочими башмаками и хорошим, носким стетсоном. Он исчез в сарае, а через несколько минут появился в новой одежде, ведя своего расседланного коня. У ворот пастбища он снял с него недоуздок 11, загнал коня внутрь добродушным шлепком и бросил недоуздок мне.
— Заботься о лошади, Боб, и она позаботится о тебе. Вот этот коняшка увез меня больше чем на тысячу миль за последние несколько недель.
И направился к отцу, который окапывал канавкой делянку за кукурузным полем, — земля там была богатая, но заболоченная, и ждать от нее было нечего, если не осушить как следует. Я смотрел, как он непринужденно вышагивает между рядами молодой кукурузы, больше уж не таинственный незнакомец, а один из нас, фермер, такой же, как отец и как я.
Только все же он не был фермером и никогда по-настоящему не мог бы им стать. Правда, для через три он уже держался наравне с отцом во всякой работе. Стоило показать ему, что надо сделать, и он тут же брался, и приноравливался, и получалось, будто лучшего способа выполнить эту работу и не придумаешь. Никогда не увиливал он от самого противного занятия. И с готовностью брал на себя самую трудную часть работы. Но все равно, по каким-то неуловимым признакам чувствовалось, что он — не такой человек. Не фермер.
Я не раз замечал, как он вдруг остановится, глянет на горы, а потом на себя и на лопату — или что там еще ему случалось в этот момент держать в руках, и в глазах у него возникает недоумение, вроде кривой улыбки: что, мол, это я делаю?.. Нет, не то чтобы он думал, что слишком хорош для такой работы или что она ему не нравится, нет, такого впечатления не возникало. Просто он был другой. Прошлая жизнь выковала его совсем для других. дел.
Несмотря на свое худощавое сложение, он был очень крепкий. Его видимая хрупкость могла обмануть тебя поначалу. Но стоило присмотреться к нему поближе, в деле, и ты видел, что он сильный, сбитый, что на теле у него нет лишнего веса, как нет лишних усилий в его плавных, свободных движениях. То, что он проигрывал рядом с отцом в росте и силе, он возмещал быстротой движений, инстинктивным согласованием разума и мускулов и внезапными вспышками свирепой энергии, как в тот раз, когда старый пень пытался на него опрокинуться. Большей частью эта энергия дремала в нем невостребованная, пока он без особых усилий одолевал обычные ежедневные дела. Но когда приходила пора, она выплескивалась из него таким, пламенным порывом, что мне тогда страшно становилось.
И, как я уже пытался объяснить матери, страх у меня вызывал не сам Шейн, а возникавшие при этом в голове смутные догадки о необыкновенных особенностях человеческой породы, которых мне в том возрасте все равно было не понять. В трудные мгновения в нем возникала такая целеустремленная собранность, он так весь выкладывался ради того, что в эту минуту требовалось… Меня это одновременно и восхищало, как чудо, и ужасало. А потом он снова становился спокойным, ровным человеком, и моя восторженная мальчишеская преданность разделялась поровну между ним и отцом.
Примерно в это время я начал чувствовать в себе силу и гордился, что могу побить Олли Джонсона с соседней фермы. Как и положено мальчишке, драка у меня в мыслях занимала самое главное место.
Однажды, когда мы с отцом остались вдвоем, я спросил у него:
— А ты можешь побить Шейна? В драке, я имею в виду.
— Трудный вопрос, сынок. Если вдруг придется, думаю, смогу это сделать. Но, будь я проклят, вовсе мне не хочется пробовать. У некоторых людей чистый динамит внутри — вот он как раз такой. И вот что я тебе скажу, однако: в жизни не встречал человека, которого мне так хотелось бы иметь на своей стороне в любой заварухе.
Это я мог понять, и это меня вполне устраивало. Но были в Шейне кое-какие черты, которых я не понимал. Когда он пришел на кухню поесть в первый раз после того, как согласился остаться с нами, он подошел к стулу, на котором раньше всегда сидел отец, и остановился возле него, ожидая, пока мы займем остальные места. Мать была удивлена, ей это не по вкусу пришлось. Отец успокоил ее теплым взглядом. Потом прошел к стулу напротив Шейна и уселся там, как будто это было для него самое подходящее и привычное место, и после они с Шейном всегда занимали эти же самые места.
Я не мог найти причин для такого перемещения, пока в первый раз один из наших соседей-гомстедеров не постучал в дверь, когда мы ели, и тут же вошел, как они почти все обычно делали. И тогда до меня вдруг дошло, что Шейн сидит прямо напротив двери и может сразу увидеть любого входящего внутрь человека. Я сумел понять, что именно это ему и было нужно. Я только не мог сообразить, для чего это ему было нужно.
По вечерам после ужина, когда он неспешно разговаривал с нами, он никогда не садился напротив окна — только сбоку. На веранде он всегда устраивался лицом к дороге. Ему нравилось, чтобы сзади него была стена, и не просто для того, чтобы откидываться на нее спиной. Независимо от того, где он находился — если не за столом — всегда он сначала поворачивал стул спинкой к ближайшей стене, без какой-либо демонстративности, просто ставил его под стенку и усаживался одним легким движением. Похоже, ему даже не приходило в голову, что в этом есть что-то необычное. Просто это было частью его постоянной настороженной готовности. Он всегда хотел видеть все, что происходит вокруг.
Эту настороженность можно было уловить и в том, как он всегда наблюдал, не проявляя никаких особенных стараний, за всеми подходами к нашей ферме. Он первым узнавал, что кто-то едет по дороге, и, чем бы в этот миг ни занимался, немедленно бросал свое дело, чтобы внимательно разглядеть любого проезжающего всадника.
У нас часто появлялись гости по вечерам, потому что другие гомстедеры считали отца вроде как своим предводителем и заходили обсудить с ним свои дела. Это были на свой лад интересные люди, каждый по-своему. Но Шейн не стремился заводить знакомства. Он мало участвовал в их разговорах. С нами он беседовал достаточно свободно. В каком-то смысле мы были как вроде его семьей. Хотя это мы его взяли в дом, чувство было такое, будто это он нас принял к себе под крылышко. Но с другими он держался на расстоянии; был вежлив, любезен, но оставался за чертой, которую сам провел.
Все это озадачивало меня — и не меня одного. Люди в городке и те, кто проезжал мимо верхом или на повозках более или менее регулярно, все любопытствовали насчет него. Просто удивительно, как быстро все в долине, и не только в долине, но и на ранчо в открытой прерии, узнали, что он работает с отцом.
Люди не могли сказать с уверенностью, нравится ли им такое соседство. Ледьярд немало наплел насчет того, что произошло у нас на ферме, и, понятное дело, народ косо поглядывал на Шейна при встрече. Но, с другой стороны, и Ледьярду они знали цену, так что не принимали его россказни за чистую монету. Просто они никак не могли сложить собственное мнение о Шейне, и это, похоже, их беспокоило.
Не раз, когда мы с Олли Джонсоном шли через городок на рыбалку к нашей любимой яме, я слышал, как люди спорят о нем перед магазином мистера Графтона.
— Он вроде как этот фитиль, с замедленным сгоранием, — услышал я однажды слова старого погонщика мулов. — Лежит себе тихонько и не трещит. Совсем тихо, даже забываешь, что он горит. Но вот огонь доходит до пороха — и тут-то как бабахнет, ну, чистый ад и преисподняя! Вот он такой и есть. А в этой долине давным-давно назревают неприятности. И то, что он здесь… Может, это окажется хорошо, когда начнется заваруха. Может, окажется плохо. Кто сейчас скажет заранее?
И это меня тоже озадачило.
Но была, Однако, особенность, которая озадачивала меня больше всего, и мне потребовалось добрых две недели, чтобы как-то притерпеться. Но уж это было самое поразительное дело…
Шейн не носил револьвера.
В те дни по всей Территории оружие было такой же обыденной вещью, как, скажем, сапоги или седла. У нас в долине его не часто пускали в ход, ну, разве чтоб поохотиться при случае. Но оно всегда было тут же, на глазах. Большинство мужчин просто чувствовали себя полуголыми без револьвера.
Мы, гомстедеры, большей частью предпочитали винтовки или дробовики, когда надо было пострелять. Револьвер, хлопающий по бедру, — это для фермера только помеха. Но все же каждый мужчина просто обязан был иметь на себе пояс с патронами и «Кольт» в кобуре, когда не работал и не болтался по дому. Отец прицеплял револьвер каждый раз, когда куда-нибудь отправлялся, даже просто в городок — думаю, скорее по привычке, чем по какой другой причине.
Но этот Шейн никогда не носил револьвера. И тут скрывалось что-то особенное, потому что револьвер у него был.
Я видел его один раз. Я видел его, когда однажды остался один в сарае и заметил его седельную скатку, лежащую на койке. Обычно он держал ее под койкой. А на этот раз, должно быть, забыл сверху, она так и лежала открыто возле подушки. Я просто потрогал ее — и нащупал внутри револьвер. Поблизости никого не было, и я отстегнул ремешки и развернул одеяло. Вот там он и лежал. Самое красивое оружие, какое мне когда видеть приходилось. Красивое и смертоносное.
Кобура и заполненный патронами пояс были сделаны из той же мягкой черной кожи, что и сапоги, стоящие под койкой, и украшены тем же замысловатым рисунком. Я достаточно разбирался в оружии, чтобы понять, что это «Кольт» одинарного действия 12, той же модели, что выпускались для регулярной армии, — самый любимый в те дни образец; старики обычно твердили, что это — самый лучший револьвер, какой когда-нибудь делали.
Модель была та самая. Но это не был армейский револьвер. Черный, иссиня-черный, и черноту давало не какое-то покрытие, сам металл был такой. Рукоятка по наружному изгибу была гладкая, а по внутренней кривой имела выемки под пальцы, и в нее с утонченным мастерством были врезаны две щечки из слоновой кости, по одной с каждой стороны.
Гладкая поверхность так и манила сжать пальцы. Я взялся за рукоятку и потянул револьвер из кобуры. Он выскользнул так легко, что я едва поверить мог, что вот он здесь, у меня в руке. Тяжелый, как отцовский, но почему-то куда удобнее для руки. Поднимаешь его, чтобы прицелиться, а он будто сам уравновешивается у тебя в руке.
Он был чистый, отполированный и смазанный. Незаряженный барабан, когда я освободил защелку и вытряхнул его вбок, завертелся легко и бесшумно. Я с удивлением заметил, что мушки нет, ствол идет гладко до самого дульного среза 13, а спица курка подпилена так, что получился острый кончик.
Зачем человеку делать такое с револьвером? И почему человек, у которого такой револьвер, отказывается носить его, чтобы все видели? И вдруг, глядя на это темное смертоносное совершенство, я, снова ощутил тот самый жуткий холодок — и тут же быстро убрал все на место, точно как раньше было, и поспешил на солнышко.
При первом удобном случае я попытался рассказать отцу про это.
— Отец, — сказал я, сгорая от возбуждения, — а знаешь, что у Шейна завернуто в одеяло?
— Вероятно, револьвер.
— Но… но откуда ты знаешь? Ты его видел?
— Нет. Просто он должен у него быть.
Я был в замешательстве.
— Ладно, но почему он его не носит? Как ты думаешь, может быть, он не очень хорошо умеет им пользоваться?
Отец рассмеялся так, будто я пошутил.
— Сынок, я не удивлюсь, если окажется, что он может взять этот револьвер и отстрелить пуговицы с рубашки, на тебя надетой, а ты только ветерок ощутишь.
— Ну да! Черт побери, так чего ж он тогда прячет его в сарае?
— Не знаю. Не могу точно сказать.
— А почему ты у него не спросишь?
Отец посмотрел прямо мне в глаза, очень серьезно.
— Вот это тот вопрос, который я ему никогда не задам. И ты ему ничего про это не говори. Есть такие вещи, о которых нельзя спрашивать человека. Никак нельзя — если ты его уважаешь. Он вправе сам решать, что он считает своим личным делом, в которое посторонним соваться нечего. Но ты можешь поверить мне на слово, Боб, что если такой человек как Шейн отказывается носить револьвер, так можешь ставить в заклад последнюю рубашку вместе с пуговицами и заплатками, что у него есть на то очень веские причины.
Какие причины — вот в чем дело. Я все еще был в замешательстве. Но если отец дал свое слово насчет чего-нибудь, то больше говорить не о чем. Он никогда этого не делает, если не убежден, что прав. Я повернулся и пошел прочь.
— Боб.
— Да, отец.
— Послушай меня, сынок. Ты не привязывайся к Шейну слишком сильно.
— А почему? Что-то с ним не так? Что-то плохое?
— Не-е-е-ет… В Шейне нет ничего плохого. Ничего, что так назвать можно. В нем больше правоты и добра, чем в большинстве людей, каких тебе доведется в жизни встретить. Но… — Отец с трудом подбирал слова. — Он ведь непоседа, бродяга. Ты это помни. Он сам так сказал. В один прекрасный день он уедет, и для тебя это будет большое горе, если ты к нему слишком сильно привяжешься.
Это было не то, что отец думал на самом деле. Он просто хотел, чтобы я так думал. Поэтому я больше не задал ни одного вопроса.
5
Недели катились в прошлое, и скоро я уже поверить не мог, что было время, когда Шейна не было с нами. Они с отцом работали вместе скорее как компаньоны, чем как хозяин и наемный работник. И за день они сворачивали такую гору работы, что просто чудо. Отец рассчитывал, что дренирование мокрого поля займет у него все лето — а управились они меньше чем за месяц. Был достроен сеновал над сараем, и первый укос люцерны сложили уже туда.
Теперь мы заготовили довольно кормов, чтобы держать зимой еще несколько голов молодняка, а на следующее лето откормить их, поэтому отец уехал из долины на ранчо, где когда-то работал, и пригнал еще полдюжины бычков. Отсутствовал он два дня. А вернувшись назад, обнаружил, что Шейн, пока его не было, снес изгородь в конце кораля и огородил новый участок, так что кораль стал в полтора раза больше.
— Вот теперь мы можем и в самом деле расшириться на тот год, — говорил Шейн, а отец сидел на лошади, уставившись на кораль, и вид у него был такой, будто он глазам своим не верит. — Надо с этого нового поля собрать столько сена, чтобы хватило прокормить сорок голов.
— Ого! — сказал отец. — Значит, мы можем расширяться. И надо собрать достаточно сена.
Он был явно доволен, дальше некуда, потому что поглядывал на Шейна точно так же, как на меня, когда бесхитростно радовался, что я что-то сделал, и не хотел это показать. Он спрыгнул с лошади и поспешил к дому, где на веранде стояла мать.
— Мэриан, — спросил он с ходу, махнув рукой в сторону кораля, — чья это была идея?
— Н-н-ну-у… — сказала она, — это Шейн предложил… — А потом добавила хитро: — Но это я сказала, чтобы он делал.
— Это верно. — Шейн уже подошел и стоял рядом с ним. — Она меня все подгоняла, будто шпоры нацепила, чтоб я закончил к этому дню. Как своего рода подарок. Сегодня ведь у вас годовщина свадьбы.
— Ох, будь я проклят, — сказал отец. — Так оно и есть…
Он глупо уставился на него, потом на нее. И хоть Шейн на них глядел, он все равно вскочил на веранду И поцеловал мать Мне за него стыдно стало, я отвернулся — и тут сам подскочил на целый фут.
— Эй! Бычки удирают!
Эти взрослые про все на свете забыли. Все шестеро бычков разгуливали по дороге, разбредаясь в разные стороны. Шейн, который всегда говорил совсем тихо, вдруг испустил такой вопль, что его, небось, слышно было чуть не до самого городка, кинулся к отцовскому коню, оперся руками на седло и запрыгнул в него. Он с первого прыжка поднял коня в галоп, и этот старый ковбойский пони полетел вслед за бычками, как будто это была забава. Пока отец добрался до ворот кораля, Шейн уже собрал беглецов в плотную кучку и гнал обратно рысью. Они у него влетели в ворота как миленькие.
Те несколько секунд, которые потребовались отцу, чтобы закрыть ворота, Шейн сидел в седле, высокий и прямой. Они оба с конем чуть-чуть запыхались и были бодрые и страшно довольные собой.
— Вот уже десять лет, — сказал он, — как я такими штуками не занимался.
Отец улыбнулся ему.
— Шейн, если бы я тебя не знал так хорошо, я бы сказал, что ты прикидываешься. В тебе еще крепко сидит мальчишка.
И тут я в первый раз увидел на лице у Шейна настоящую улыбку.
— Может быть. Может, так оно и есть.
Я думаю, это было самое счастливое лето в моей жизни.
Единственная тень, нависающая над нашей долиной, — повторяющиеся вновь и вновь стычки между Флетчером и нами, гомстедерами, — как будто растаяла. Самого Флетчера не было почти все эти месяцы. Он Уехал в Дакоту, в Форт-Беннет, или даже на восток, в Вашингтон, как мы слышали, пытаясь заполучить контракт на поставку мяса индейскому агенту в Стэндинг-Рок большой резервации племени сиу за Черными Холмами. Кроме старшего объездчика, Моргана, и нескольких ворчливых стариков, его работники были молодые добродушные ковбои, которые время от времени устраивали в городке страшный шум, но редко причиняли какой-нибудь вред, разве что когда веселье достигало особо высокого градуса. Нам они нравились — пока Флетчер не посылал их досаждать нам разными зловредными способами. Но теперь, когда его не было, они держались на другой стороне реки и нас не беспокоили. Временами, оказавшись близко от берега, они дружелюбно махали нам руками.
Пока не приехал Шейн, эти ковбои были моими героями. Отец, конечно, само собой, разговора нет. Никогда не будет человека, чтобы мог с ним сравняться. Я хотел походить на него, быть таким же, как он. Но сперва я хотел, как и он в свое время, ездить верхом по прерии, иметь своих сменных пони, участвовать в объездах стад и дальних перегонах гуртов и врываться в чужие города с развеселыми криками и с заработком за сезон, звенящим в карманах.
Теперь я уже не был уверен, что мечтаю именно об этом. Все больше и больше мне хотелось походить на Шейна, на человека, каким, по моим предположениям, он был в своем крепко-накрепко загороженном прошлом. Большую часть этого прошлого мне пришлось придумать самому. Он никогда о своей жизни не говорил, словом не упоминал. Даже имя его оставалось загадкой. Просто Шейн. И ничего больше. Мы даже не знали, это имя или фамилия и, вообще, связано ли оно как-то с его семьей. «Зовите меня Шейн», — сказал он, и больше этой темы вообще никогда не касался. Но я в своем воображении сочинил для него всевозможные приключения, не привязанные к какому-то конкретному месту или времени; я видел, как этот тонкий, таинственный и стремительный герой хладнокровно преодолевает такие препятствия и опасности, которые сломили бы человека меньшего калибра.
Я слушал с чувством, близким к восторженному почитанию, как два моих главных человека, отец и Шейн, долго и дружелюбно спорят про всякие скотоводческие дела. Они отстаивали разные методы выпаса и откорма скота до нужной упитанности. Но оба были согласны, что контролируемый откорм куда лучше, чем свободный выпас, и что улучшение породы — это насущная необходимость, даже если потребуется затратить бешеные деньги на ввоз быков. Они рассуждали о том, есть ли надежда, что железнодорожная ветка когда-нибудь дойдет до нашей долины, чтобы можно было отправлять скот прямо покупателю, не теряя на качестве мяса, как оно бывает, когда коров перегоняют на рынок гуртами, а они тощают по дороге.
Было заметно, что Шейну начинает доставлять удовольствие жизнь с нами и работа на ферме. Потихоньку, постепенно его покидало внутреннее напряжение. Он все еще оставался настороженным и внимательным, все еще инстинктивно улавливал все, что происходит вокруг него. Со временем я понял, что это у него врожденное, он этому не научился, не привык за многие годы — просто это часть его натуры. Однако сознательная обостренная настороженность, постоянное ожидание неизвестной опасности — постепенно притуплялось.
Но почему бывал он временами таким странным, как будто просыпалась в нем тайная внутренняя горечь? Как в тот раз, когда я играл с револьвером — его мистер Графтон мне дал, это был старый «Кольт» модели «Фронтиер» 14 с лопнувшим барабаном — кто-то вернул его в магазин.
Я смастерил кобуру из обрывка потертой клеенки и пояс из веревки. Я скрытно пробирался вокруг сарая, резко разворачивался через каждые несколько шагов, чтобы не прозевать подкрадывающегося индейца, как вдруг заметил, что Шейн наблюдает за мной из дверей сарая. Я замер на месте, думая о великолепном револьвере у него под койкой и опасаясь, что он поднимет на смех меня и мое жалкое, старое, негодное оружие. Но он и не собирался смеяться, он смотрел на меня очень серьезно.
— Скольких ты уже уложил, Боб?
Смогу ли я когда-нибудь отплатить этому человеку? Мой револьвер стал новеньким и блестящим, а рука — твердой, как. скала, когда я навел мушку на очередного врага.
— С этим будет семеро.
— Индейцев или лесных волков?
— Индейцев. Вот таких здоровенных!
— Тогда лучше оставь несколько другим разведчикам, — сказал он мягко. — Не нужно, чтоб тебе завидовали. А теперь слушай, Боб. Ты это не совсем правильно делаешь…
Он уселся на перевернутую корзину и кивком головы подозвал меня к себе.
— Кобура у тебя висит слишком низко. Нельзя опускать ее на всю длину руки. Держи ее чуть ниже бедренного сустава, чтобы рукоятка револьвера находилась примерно посередине между локтем и запястьем свободно опущенной руки. Тогда ты сможешь схватиться за рукоятку, когда рука идет вверх, и будет возможность вытащить револьвер из кобуры, не поднимая его выше уровня прицеливания.
— Вот это да! Это так делают настоящие ганфайтеры!
В глазах у него мелькнул странный огонек и исчез.
— Нет. Не все. У большинства есть свои собственные хитрости. Кому-то нравится наплечная кобура; другие засовывают револьвер за пояс штанов. Некоторые носят по два револьвера, но это просто показной эффект и лишний груз. Вполне достаточно и одного, если умеешь им пользоваться. Видел я человека, у которого кобура была тугая, с открытым концом внизу, и висела на поясе на небольшом шарнире. Ему не надо было выхватывать револьвер. Он просто поворачивал ствол вперед и стрелял с бедра. Это очень быстро получается, и удобно, когда действуешь с близкого расстояния и по крупной Мишени. Но на десять — пятнадцать шагов выстрел с бедра уже ненадежен, и вовсе никуда не годится, если хочешь положить пулю точно в какое-то место. А тот способ, про который я тебе рассказал, не хуже любого другого и даже лучше многих. И второе…
Он протянул руку и взял револьвер. И вдруг я разглядел его кисти — будто впервые увидел. Они были широкие и сильные, но не такие тяжелые и мясистые, как у отца. Пальцы длинные, квадратные на конце. Так интересно было смотреть: вот руки коснулись револьвера — и как будто обрели свой собственный разум, их уверенные движения совершались без всякой подсказки со стороны головы.
Правая рука сомкнулась на рукоятке, и тут сразу видно стало, что она делает то, для чего создана. Он взвесил на руке старый револьвер, свободно лежащий в ладони. Потом пальцы сжались, большой палец поиграл с курком, проверяя люфт.
Я глядел на него во все глаза, а он быстро подкинул револьвер в воздух, поймал его левой рукой, и в то же мгновение он плотно лег в ладонь. Шейн снова подбросил его, теперь выше, так что револьвер завертелся в воздухе, и когда он начал падать вниз, правая рука метнулась Вперед и поймала его. Указательный палец скользнул в спусковую скобу, револьвер повернулся и оказался в боевом положении — и все это было одно слитное движение. У него в руках этот старый револьвер как будто ожил, теперь это был уже не ржавый неодушевленный предмет, а продолжение самого человека.
— Если ты добиваешься быстроты, Боб, то не разрывай движение на части. Нельзя сперва вытащить револьвер, потом поднять, прицелиться и выстрелить. Взведи курок, пока поднимаешь оружие, и нажимай на спусковой крючок в ту же секунду, как наведешь на цель.
— А как же тогда целиться? Как смотреть на него?
— А никак. Этого вообще не надо. Научись держать оружие так, чтобы ствол располагался параллельно пальцам, если их вытянуть вперед. Тебе не понадобится терять время, чтобы поднять револьвер к глазам. Ты просто направь его снизу, быстро и легко, как пальцем показываешь.
Как пальцем показываешь… Он объяснял — и тут же все делал. Вот он поднял старый револьвер, навел на какую-то цель за коралем, а потом курок щелкнул по пустому барабану. И тут рука, сжимающая рукоятку, побелела, пальцы медленно разжались, и револьвер упал на землю. Рука повисла вдоль тела, окостеневшая и неловкая. Шейн поднял голову, и рот проступил на лице, как свежая рана. Глаза застыли на горах, карабкающихся вверх там, вдалеке…
— Шейн! Шейн! Что случилось?
Он меня не слышал. Он был где-то далеко, на темной тропе, тянущейся из прошлого.
Он глубоко вздохнул, и я видел, с каким усилием он вытащил себя обратно в настоящее, с каким трудом понял, что на него смотрит мальчик. Шейн сказал глазами, чтобы я поднял револьвер. А когда я сделал это, он наклонился вперед и заговорил очень серьезно.
— Послушай, Боб. Револьвер — это просто инструмент. Не лучше и не хуже любого другого инструмента, например, лопаты, или топора, или седла, или печки — все равно. Вот только так о нем и думай. Револьвер сам по себе не хорош и не плох — хорошим или плохим бывает человек, который его держит в руке. Ты это запомни.
Он поднялся и зашагал прочь, в поле, и я понял, что он хочет остаться один. Я хорошо запомнил то, что он сказал, запрятал поглубже в памяти, чтобы никогда не забыть. Но в эти дни я чаще вспоминал, как он ловко орудовал револьвером, и его советы, как им пользоваться. Я все тренировался и мечтал о том времени, когда у меня появится револьвер, который будет стрелять по-настоящему.
А потом лето кончилось. Снова началась школа, дни становились все короче, и с гор поползли первые холода.
6
И не только лето закончилось. Сезон мира в нашей долине ушел вместе с летним теплом. Флетчер вернулся, он получил свой контракт. Он говорил в городке, что теперь ему снова понадобятся все пастбища. Гомстедерам придется уйти.
— Я — человек рассудительный, — говорил он сладкоречиво, как обычно, — и заплачу справедливую цену за все, что люди сделали на своих участках.
Но мы знали, что называет справедливой ценой Люк Флетчер. И мы не собирались уходить отсюда. Земля была наша по праву заселения, гарантированному правительством. Только мы знали и то, как далеко находится правительство от нашей долины, затерянной в глубине Территории.
Ближайший маршал находился за добрую сотню миль отсюда. У нас в городке даже шерифа не было. Как-то ни разу нужды в нем не возникало. Когда человек хотел обратиться в суд или оформить какие-то бумаги, он отправлялся в Шеридан 15 — до него приходилось почти целый день верхом добираться. А наш маленький городок даже не был организован как город. Он, конечно, понемногу вырастал, но пока что оставался просто придорожным поселком.
Первыми тут появились три или четыре шахтера — забрели сюда в поисках золота после того, как лопнула лет двадцать назад «Горнорудная Ассоциация Биг-Хорн»; они нашли следы золота, ведущие к скромной жиле в небольшом скальном гребне, который частично перекрывал долину там, где она выходила в прерию. Назвать это бумом не стоило, потому что другие золотоискатели, последовавшие за ними, быстро разочаровались. Однако те, первые, смогли себя неплохо обеспечить и привезли в долину свои семьи и несколько помощников.
Потом почтово-товарная компания устроила на этом месте станцию, где меняли лошадей. А станция — это такое заведение, где можно получить не только лошадей, но и выпивку. В скором времени ковбои с ранчо, разбросанных на равнине, и с ранчо Флетчера здесь, в долине, завели обыкновение наведываться сюда по вечерам. Когда же стали прибывать мы, гомстедеры — по одному, по два почти каждый сезон — город начал обретать форму. Здесь уже были несколько магазинов, шорная мастерская, кузница и примерно дюжина домов. А в прошлом году люди построили объединенными усилиями школу с одной-единственной классной комнатой.
Самым крупным в городе было заведение Сэма Графтона. Оно занимало довольно беспорядочно выстроенное здание, в одной половине которого располагался универсальный магазин, на его задах — несколько хозяйских жилых комнат, а во второй половине был устроен салун с длинным баром, столиками для игры в карты и всяким таким. Наверху размещались комнаты, которые он сдавал бродячим торговцам — и вообще любому человеку, забредшему переночевать. Он был нашим почтмейстером, старейшиной, посредником при сделках, но все дела вел честно. Временами он выступал в роли третейского судьи, когда возникали мелкие споры. Жена Графтона умерла. А его дочь Джейн вела дом и была нашей учительницей, когда в школе шли занятия.
Даже если б мы завели шерифа, это оказался бы ставленник Флетчера. В эти дни Флетчер, по сути дела, хозяйничал в долине. Мы, гомстедеры, жили в здешних местах всего несколько лет, и многие горожане полагали, что это он по своей милости разрешает нам тут находиться. Он пас скот по всей долине еще в те времена, когда здесь появились шахтеры, а немногих мелких ранчеров, которые было обосновались тут до него, он либо выжил, либо купил. Несколько лет подряд погода складывалась неудачная, и закончилась это засушливым летом и жуткой зимой восемьдесят шестого года, которые сильно урезали его стада, — примерно в это время и приехали первые гомстедеры. Ну, он тогда не особенно возражал, не до того было. Но теперь нас стало уже семь семейств и каждый год приезжали новые.
Отец всегда говорил, что город будет расти и рано или поздно станет на нашу сторону. Мистер Графтон тоже так считал, я полагаю, но он был человек осторожный и никогда не позволял мыслям о будущем вредить сегодняшнему бизнесу. А другие были люди того сорта, которые изменяют мнение с переменой господствующего ветра. Сейчас Флетчер был в долине большим человеком, ну, так они ему в рот смотрели, а нас только терпели кое-как. Если дойдет до дела, так они, наверное, ретиво кинутся ему на помощь — выгонять нас отсюда. Ну, а если он исчезнет с горизонта, так они с неменьшей охотой примут нас.
А Флетчер возвратился с контрактом в кармане и теперь хотел вернуть себе снова всю землю…
Как только эта новость разошлась по долине, у нас в доме поспешно собрался совет. Наш ближайший сосед со стороны города, Лью Джонсон, узнавши новость в магазине Графтона, тут же передал ее дальше и появился у нас первым. За ним последовал Генри Шипстед, чья земля сразу за Джонсоном, его ферма лежала ближе всех к городу. Эти двое были самыми первыми гомстедерами, они застолбили каждый сто шестьдесят акров за два года до засухи и стойко переносили неприятности, которые устраивал им Флетчер, пока убыль собственных стад не заставила его тревожиться о другом. На Запад они приехали из Айовы, и были это крепкие, надежные люди, фермеры старого закала.
К сожалению, этого нельзя было сказать об остальных, прибывающих один за другим. Джеймс Льюис и Эд Хауэлз — это были два ковбоя среднего возраста, которым постепенно надоела старая жизнь, и они потянулись за отцом в эту долину, старательно подражая ему во всех делах. Но им не хватало его энергии и напористости, они справлялись не слишком удачно и их легко было сломить.
Фрэнк Торри — он жил следом за нами выше по долине — был нервным беспокойным человеком, которого донимала вечно ноющая жена и целый хвост чумазых ребятишек, удлинявшийся с каждым годом. Вечно он талдычил, что пора, дескать, вытащить свои заявочные столбы и двинуть в Калифорнию. Но была у него в душе жилка упорства, и он всегда говорил: «Будь я проклят, если пущусь наутек только потому, что какой-то ранчер в большой шляпе этого хочет».
Эрни Райт, который занимал последний участок в верхней части долины, вдававшийся в земли, все еще используемые Флетчером, был, вероятно, самым слабым из всех. Не физически. Это был симпатичный здоровяк, до того смуглый, что поговаривали, будто в нем течет индейская кровь. Всегда распевал и рассказывал всякие забавные небылицы. Но только он вечно оказывался на охоте, когда надо было работать, а вспыльчивый характер заставлял его делать всякие глупости, не подумавши.
Но сегодня вечером он был такой же серьезный, как все остальные. Мистер Графтон сказал, что на этот раз Флетчер не шутит. Его контракт гарантировал закупку всего мяса, которое он сумеет поставить в ближайшие пять лет, и он был полон решимости использовать эту возможность до предела.
— Но что он может сделать? — сказал Фрэнк Торри. — Земля наша, пока мы на ней живем, а через три года мы получим ее в полную собственность. Некоторые из вас, ребята, уже подтвердили право собственности.
— Он не станет затевать настоящие неприятности, — подхватил Джеймс Льюис. — Флетчер никогда не был любителем стрелять. Говорить-то он мастак, но разговоры нам не повредят.
Кое-кто закивал. Но Джонсон и Шипстед, казалось, вовсе не были в этом уверены. Отец пока ничего не говорил, и они все выжидательно на него посматривали.
— Джим прав, — заметил он. — Флетчер не дает полной воли своим мальчикам. Пока что не дает, во всяком случае. Но никто не сказал, что он этого не сделает, если не останется другого выхода. Есть в нем такая жилка… Но до поры до времени он не станет по-настоящему зверствовать. Не думаю, чтобы он начал пригонять сюда новый скот раньше весны. Мне кажется, он попытается прищемить нам хвост этой осенью и зимой, чтобы поглядеть, не удастся ли нас отсюда выжить. И начнет, Скорее всего, с меня. Он всех нас не шибко жалует. Но я ему — словно кость в горле.
— Это правда. — Эд Хауэлз выразил невысказанное общее мнение, что отец — их предводитель. — И как, по-твоему, он за это возьмется?
— Я так думаю, — сказал отец, растягивая слова и улыбаясь чуть мрачновато, как будто у него был припрятан козырный туз в серьезной игре, — я так думаю что для начала он попытается убедить Шейна, что работать у меня — очень вредно для здоровья.
— Ты имеешь в виду, то, что он… — начал Эрни Райт.
— Да, — отрезал отец. — Я имею в виду то, что он сделал с молодым Морли.
Я поглядывал из дверей своей комнатки.
Я видел Шейна — он сидел в сторонке, спокойно слушая. Казалось, его ничуть не удивляет все это. Казалось, его ничуть не интересует, что случилось с молодым Морли. А я знал, что с ним случилось. Я видел Морли, когда он вернулся из города, весь в ссадинах и синяках, собрал свои вещички, проклял тот день, когда нанялся к отцу на работу, и уехал, не оглядываясь.
Но Шейн сидел там так спокойно, как будто то, что случилось с Морли, не имело к нему никакого отношения. Ему было совершенно безразлично, что там с ним случилось. И тогда я понял, почему. Потому что он не был Морли. Он был Шейн.
Отец правильно говорил. Каким-то странным образом все как один чувствовали, что сейчас Шейн — меченый человек. Будто клейменый. Всеобщее внимание было обращено на него, как на какой-то символ. Взяв его в дом, отец тем самым принял вызов, брошенный с большого ранчо за рекой. То, что произошло с Морли, было предостережением, и отец сознательно на него ответил. После летнего временного перемирия наступало новое обострение давней вражды.
Причины разногласий в нашей долине были очевидны, и со временем дело неизбежно дойдет до открытого столкновения. Если им удастся прогнать Шейна, в рядах гомстедеров появится брешь, это будет означать полное поражение, а не просто ущерб престижу и моральному состоянию человека. Это будет трещина в плотине, вода сможет просачиваться сквозь нее, постепенно размывать — и в конце концов хлынет потоком.
Любопытство одолевало городской люд еще больше, чем раньше, только теперь их интересовало уже не прошлое Шейна, а то, что он может сделать, если Флетчер затеет против него какую-нибудь каверзу. Когда я торопился в школу или из школы, горожане меня останавливали и приставали со всякими вопросами. Но я знал, что отцу не понравится, если я что-то буду говорить, и прикидывался, будто не понимаю, о чем это они толкуют. Зато сам я внимательно следил за Шейном и все удивлялся, как это может быть, что напряженность, медленно нарастающая в нашей долине, вся обращена против одного человека, а ему это вроде как совершенно безразлично.
Потому что он ведь, конечно, все видел. Он никогда ничего не пропускал. И все же он занимался своей работой как обычно, часто улыбался мне, во время еды добродушно шутил с матерью в своей любезной манере, по-прежнему дружелюбно спорил с отцом о планах на следующий год…
Но пока что ничего не происходило. Разве что в последнее время внезапно и бурно оживилась возня за рекой. Просто удивительно, как часто теперь флетчеровские ковбои находили себе работу прямо напротив нашей фермы.
Однажды во второй половине дня, когда мы убирали второй — и последний — укос сена, на большом клещевом захвате, который мы использовали, чтобы поднимать сено на сеновал, отломилась одна вилка.
— Придется ехать в город, в кузницу, чтобы приварить, — недовольно сказал отец и начал запрягать лошадей.
Шейн посмотрел за реку, где какой-то ковбой лениво катался взад-вперед возле небольшого стада.
— Я отвезу, — сказал он.
Отец посмотрел на Шейна, потом на другой берег, потом улыбнулся.
— Ладно. Сейчас такой же подходящий момент, как любой другой. — Он застегнул последнюю пряжку и направился к дому. — Я через минуту готов буду.
— Не беспокойся, Джо. — Голос Шейна звучал мягко, но остановил отца на полдороге. — Я же сказал — я отвезу.
Отец резко повернулся к нему.
— Пошло оно все к черту, друг! Ты что думаешь, я отпущу тебя одного? А если они… — И прикусил язык. Медленно провел по лицу ладонью и сказал слова, которых никогда ни одному мужчине не говорил — по крайней мере, при мне. — Извини, — сказал он. — Я должен был сообразить.
Он стоял и молча смотрел, а Шейн собрал вожжи и прыгнул на сиденье повозки.
Я боялся, что отец меня не пустит, и потому подождал, пока Шейн не выедет из проезда. Я спрятался за сараем, у конца кораля, и когда повозка проезжала мимо, подцепился на нее. И успел заметить, что ковбой на другой стороне реки повернул коня и галопом поскакал в сторону хозяйского дома на ранчо.
Шейн это тоже видел, и ему это, кажется, доставило какое-то мрачноватое удовольствие. Он протянул руку назад, перетащил меня через козлы и усадил рядом с собой.
— Любите вы, Старреты, вмешиваться во всякие дела. — Я испугался, что он отправит меня обратно, а он вместо этого улыбнулся мне. — Как в город приедем, я тебе складной ножик куплю.
И купил — классный, большой, с двумя лезвиями и штопором. Мы завезли захват в кузницу, нам сказали, что приварка займет около часа, тогда я присел на ступеньке длинной веранды, протянувшейся вдоль всего фасада дома Графтона, и начал усердно строгать какую-то деревяшку, а Шейн прошел в салун и заказал выпивку. Уилл Атки, графтоновский конторщик и бармен, тощий, с унылым лицом, стоял за стойкой. Еще несколько человек бездельничали, рассевшись вокруг стола.
Наверное, и нескольких минут не прошло, как на дороге показались два ковбоя. Они гнали лошадей галопом, но ярдов за пятьдесят от магазина придержали их, с показной беззаботностью проехали остаток пути до заведения Графтона легким шагом, слезли с лошадей и привязали их поводьями к перилам веранды. Одного из них я видел часто, этого молодого парня звали Крис, он работал у Флетчера уже несколько лет и был известен веселым нравом и разудалой отвагой. Второго я раньше не встречал — это был человек с желтоватым лицом и впалыми щеками, по возрасту ненамного старше Криса, но вид у него был такой, будто за свои годы он успел вдоволь нахлебаться нелегкой жизни. Это, по-видимому, был один из новых работников, которых Флетчер привез в долину после того, как получил контракт.
На меня они внимания не обратили. Бесшумно поднялись на веранду и прошли к окнам салуна. Заглянули через стекло. Крис кивнул и что-то тихо проговорил. Новый человек замер. Наклонился поближе, чтобы лучше видеть. Резко повернулся, прошел мимо меня и направился к своей лошади.
Пораженный Крис кинулся за ним следом. Они оба были так заняты своими делами, что меня просто не заметили. Новичок уже перебросил поводья через голову лошади, но тут Крис схватил его за руку.
— Эй, какого черта?!
— Я уезжаю.
— Чего? Не понял…
— Я уезжаю. Прямо сейчас. Совсем уезжаю.
— Эй, послушай… Ты что, знаешь этого парня?
— Я такого не говорил. Никто не скажет, что я такое говорил. Я уезжаю, вот и все. Можешь сказать Флетчеру. Для меня найдется до черта других мест.
Крис просто взбеленился.
— Я мог бы это знать заранее, — сказал он. — Струсил. Э-эх… Ты ж весь пожелтел со страху и трясешься…
Кровь бросилась в желтоватое лицо этого хмурого человека. Но он ничего не сделал, только сел на лошадь и повернул ее от веранды.
— Можешь назвать это так, — сказал он решительно и погнал лошадь по дороге прочь из городка и из долины.
Крис молча стоял у перил, в изумлении покачивая головой.
— Вот черт… — пробормотал он, — Ну, что ж, я и сам с ним управлюсь…
Он медленно поднялся по ступенькам и прошел в салун.
Я нырнул в магазин и пробежал к проему между двумя большими помещениями. А там забрался на ящик, стоящий в конце у самых дверей, — отсюда мне было хорошо слышно и видно почти все соседнее помещение. Оно было длинное и довольно широкое. Стойка шла изгибом от этого проема и тянулась вдоль внутренней перегородки до задней стены, которая отделяла комнату, где у Графтона помещалась канцелярия. В дальней стене был пробит ряд окошек, расположенных слишком высоко, чтобы можно было заглянуть снаружи. Небольшая лесенка рядом с ними вела на балкончик вдоль задней стены, с которого открывались двери в несколько маленьких комнаток.
Шейн слегка опирался одной рукой на стойку, а во второй держал стакан с выпивкой. Крис подошел к бару футах в шести от него и потребовал бутылку виски и стакан. Он сделал вид, что не замечает Шейна, и покивал головой, приветствуя людей за столом. Это были два погонщика мулов, которые совершали регулярные поездки в нашу долину, доставляя товары Графтону и другим торговцам. Я мог бы поклясться, что Шейн, ненавязчиво осмотрев Криса, остался разочарован.
Крис дождался, пока ему подали виски, и проглотил изрядную порцию. А потом подчеркнуто оглядел Шейна с головы до ног, как будто только заметил его.
— Привет, фермер, — сказал он. Так сказал, как если бы не любил фермеров.
Шейн отнесся к нему с мрачноватым вниманием.
— Это вы мне? — спросил он мирным тоном и прикончил свою выпивку.
— Черт побери, а больше тут никого нету! На, выпей, — Крис толкнул свою бутылку вдоль бара. Шейн налил себе щедрую порцию и поднес стакан к губам.
— Будь я проклят, — щелкнул языком Крис. — Так ты, значит, пьешь виски!
Шейн залпом допил стакан и поставил его на стойку.
— Приходилось пить и получше, — сказал он как мог приветливо. — Но и это сойдет.
Крис громко шлепнул себя по кожаным чепсам 16. Повернулся, чтобы вовлечь в разговор других.
— Ну, вы слышали? Этот фермер пьет виски! А я и не думал, что эти пахари, копающиеся в грязи, пьют что-нибудь крепче, чем содовая шипучка!
— Некоторые из нас пьют, — все так же приветливо сказал Шейн. Но потом приветливость исчезла, и в голосе его зазвучал зимний мороз. — Ну, ладно, паренек, ты уже позабавился, и забава эта была чисто детская. А теперь беги домой и скажи Флетчеру, чтобы в следующий раз послал кого-нибудь взрослого. — Он отвернулся и крикнул Уиллу Атки. — Есть у вас содовая шипучка? Я хочу взять бутылку.
Уилл помешкал — вид у него был немного смешной — а потом заторопился мимо меня в помещение магазина. И тут же вернулся с бутылкой шипучки, которую Графтон держал для нас, школьников. Крис стоял спокойно, не столько злой, должен я заметить, сколько озадаченный. Как если бы они играли в какую-то странную игру и он не был уверен, какой сделать следующий ход.
Он какое-то время жевал нижнюю губу. Потом чмокнул губами и принялся старательно оглядывать комнату, громко втягивая воздух носом.
— Эй, Уилл! — крикнул он. — Что это у тебя тут случилось? Воняет! И это не чистый запах коровьего пастбища. Тут просто грязным хлевом воняет… — Он глянул на Шейна. — Эй ты, фермер! Кого вы там со Старретом разводите? Свиней, что ли?
Шейн в этот момент держал в руках бутылку, которую принес ему Уилл. У него пальцы сжались так, что костяшки побелели. Он медленно, почти неохотно повернулся к Крису. Каждая линия его тела была напряжена. как натянутая веревка, он будто ожил, будто заискрился нетерпеливой энергией. Какая-то свирепая сосредоточенность бурлила в нем, переполняла его, пылала в глазах. В это мгновение для него ничего не осталось вокруг, кроме этого насмешничающего человека всего в нескольких шагах.
В большом помещении все затихло, от тишины этой просто больно стало. Крис против собственной воли отступил, сперва на шаг, потом на два, потом странно выпрямился. Но до сих пор ничего не происходило. Только мускулы у Шейна по бокам челюсти вздулись желваками, твердыми как камень.
А потом он наконец выдохнул, и этот негромкий звук разрушил тишину. Он смотрел мимо Криса, за него, поверх качающихся дверок салуна 17, поверх крыши навеса на той стороне улицы, туда, вдаль, где высились в своем нескончаемом одиночестве горы. Он спокойно двинулся с места, с забытой бутылкой в руке, прошел мимо Криса так близко, что чуть не задел его, совсем близко, но он его просто не видел… вышел в дверь и исчез.
Я услышал рядом с собой вздох облегчения. Это мистер Графтон стоял сзади — а я даже не заметил, откуда он взялся. Он смотрел на Криса, и в уголках рта у него появились странные, какие-то иронические складки. Крис пытался не показать, как он собой доволен. Но когда подошел к дверям и посмотрел поверх них, вид У него был гордый и чванливый.
— Ты видал, Уилл? — бросил он через плечо. — Он пытался попереть на меня! — Крис сбил на затылок шляпу, закачался на каблуках и рассмеялся. — С. бутылкой содовой шипучки!
Он все еще смеялся, выходя наружу, а потом мы услышали, как он ускакал.
— Дурак этот мальчишка, — пробормотал мистер Графтон.
Уилл Атки подошел бочком к мистеру Графтону.
— Вот уж никак не ожидал, что Шейн может так себя повести, — сказал он.
— Он испугался, Уилл.
— Ну, да! Вот это-то и забавно. Я был уверен, что он справится с Крисом.
Мистер Графтон поглядел на Уилла, как он часто делал, — будто немного жалел его.
— Нет, Уилл. Он вовсе не Криса боялся. Он себя боялся. — Мистер Графтон был задумчив, а, может, даже опечален. — Надвигаются неприятности, Уилл. Самые худшие неприятности, какие у нас когда-нибудь были.
Он заметил меня и понял, что я тут был все время.
— Ну-ка, Боб, давай беги и найди своего друга. Или, ты думаешь, он эту бутылку для себя брал?
И верно, Шейн ждал меня с этой бутылкой возле кузницы. Это была вишневая шипучка, самый мой любимый сорт. Мне бы радоваться — а я не мог. Уж слишком Шейн был молчаливый и суровый. Лицо у него опять стало такое же мрачное, как в самый первый день, когда он появился на нашей дороге. Я не решался даже слово сказать. А он только один раз обратился ко мне, да и то я видел, что он вовсе не ждет, что я пойму или отвечу.
— Почему надо избивать человека только за то, что у него есть смелость и он делает то, что ему велели? Жизнь — грязная штука, Боб. Я ведь мог бы даже полюбить этого парня…
И он снова ушел в свои мысли и оставался мрачным и задумчивым, пока мы не погрузили захват в повозку и отправились домой. Чем ближе мы подъезжали к дому, тем веселее он становился. А когда мы заехали во двор и повернули к сараю, он снова стал таким, как мне хотелось, прищурился на меня и начал с серьезным видом шутить насчет индейцев, с которых я буду скальпы снимать своим новым ножом.
Отец распахнул двери сарая так торопливо, что сразу ясно стало, с каким нетерпением он нас ожидал. Он просто лопался от любопытства, но не стал приставать к Шейну с вопросами. Он вместо этого в меня вцепился.
— Ну, что, видел в городе кого-нибудь из твоих героических ковбоев?
Шейн опередил меня с ответом.
— Один парень из флетчеровской команды гнался за нами, чтобы выразить свое уважение.
— Нет, — сказал я, гордясь, что знаю такое, чего они не знают. — Их там было двое.
— Двое? — Это Шейн спросил. Отец-то как раз не удивился. — И что второй делал?
— Он поднялся на веранду, посмотрел на вас через окно, тут же спустился обратно и ускакал прочь.
— Обратно на ранчо?
— В другую сторону. Он сказал, что уезжает насовсем.
Отец с Шейном посмотрели друг на друга. Отец улыбался.
— Один готов — а ты про это и не знал. Ну, а что ты со вторым сделал?
— Ничего. Он отпустил несколько замечаний относительно фермеров. А я ушел обратно в кузницу.
Отец повторил его слова, разделяя их паузами, как вроде смысл был скрыт между словами.
— Ты — ушел — обратно — в кузницу…
Я испугался, что он может подумать, как Уилл Атки. А потом понял, что ничего подобного ему и в голову не
приходило. Он повернулся ко мне.
— Кто это был?
— Крис.
Отец снова улыбнулся. Он там не был, но ему уже все было ясно как Божий день.
— Флетчер правильно сделал, что двоих послал. Молодые, вроде Криса, должны охотиться парами, иначе могут пострадать. — Он рассмеялся, чуть кривовато, так, как будто его это позабавило. — Должно быть, Крис изрядно удивился, когда второй парень удрал. А еще больше, когда ты ушел. Плохо, что второй не остался там.
— Да, — сказал Шейн, — плохо.
Он так это сказал, что у отца пропала улыбка.
— Об этом я не подумал. Крис еще такой петушок, что наверняка ничего не понял. Это может придать делам здорово неприятный оборот.
Да, — снова сказал Шейн, — может.
7
Все так и вышло, как отец с Шейном опасались. История, которую взахлеб рассказывал на всех углах Крис, стала в долине всеобщим достоянием уже на следующий день задолго до заката солнца, а в пересказах еще и обросла подробностями. Теперь Флетчер получил преимущество и поспешил им воспользоваться. Он и Морган, его старший объездчик, здоровенный такой обрубок с приплюснутой мордой и с головой, которая выглядела непомерно маленькой на его широких покатых плечах, хорошо соображали в делах такого рода, и, не теряя времени, принялись науськивать своих людей, чтоб те при каждом удобном случае всаживали шпоры в бока нам, гомстедерам.
Они завели привычку пользоваться верхним бродом, сразу за фермой Эрни Райта, и ездили по дороге мимо наших ферм каждый раз, как находили повод отправиться в городок. Они проезжали медленно, все нахальнее разглядывали и отпускали замечания в наш адрес.
На той же неделе, может, дня через три, проезжали они целым выводком мимо нас, когда отец ставил новую петлю на ворота кораля. И сделали вид, будто так увлеклись, разглядывая нашу ферму, что даже его не заметили.
— Интересно, где Старрет держит животных, — сказал один из них. — Что-то снаружи свиней не видно.
— Зато запах слышно! — заорал другой. Ну, тут они все начали гоготать, орать, вопить и ускакали прочь, подняв тучу пыли. А у отца возле рта появилась новая складка.
Они вели себя непредвзято. Они проявляли такое же внимание ко всем гомстедерам и пользовались любым представившимся случаем. Но больше всего им нравилось застать отца в пределах слышимости и донимать его своими шуточками.
Шуточки эти были грубые. Жестокие. По-моему, очень глупо, когда взрослые люди так себя ведут. Но своей цели шуточки эти достигали. Шейн, независимый как горы, их просто не замечал. Отец, когда они его цепляли, умел сдержаться и не принимать эти глупости близко к сердцу. Однако другие гомстедеры не могли подавить раздражение и не показывать, что оскорблены. Это портило им нервы, они стали сердитыми и беспокойными. Они не знали отца и Шейна так хорошо, как я. И потому подозревали, что, может быть, в россказнях Криса есть доля правды.
Дошло до того, что, стоило гомстедеру зайти в магазин Графтона, как кто-нибудь тут же во всю глотку орал, чтоб принесли содовую шипучку. И, где бы они ни появлялись, всегда как-то разговор сползал на свиней. Просто чувствовалось, как в городке нарастает презрение, даже среди людей, которые обычно сохраняли нейтралитет и не принимали открыто чью-нибудь сторону.
Последствия всего этого проявлялись и в отношении наших соседей к Шейну. Они вели себя принужденно и скованно, когда заходили к отцу и заставали Шейна. Их возмущало, что в общественном мнении он как-то связан с ними. В результате начало меняться их отношение к отцу.
Именно это и взбесило Шейна в конце концов. Ему было наплевать, что люди думают о нем самом. После столкновения с Крисом он как будто обрел внутренний покой. Он был таким же внимательным и настороженным, как всегда, но в нем появилась безмятежность, которая начисто стерла былую напряженность. Я думаю, ему было совершенно все равно, что кто-то думает о нем. Кроме нас, его ближних. А он знал, что для нас он все равно что член семьи, один из нас, всегда и неизменно.
Но ему было вовсе не все равно, что они думают об отце. Однажды вечером он молча стоял на веранде и слушал, как в кухне Эрни Райт и Генри Шипстед спорят с отцом.
— Я этого больше не вынесу, — говорил Эрни Райт. — Вы ж знаете, какая у меня неприятность была, когда эти проклятые ковбои ободрали мою изгородь! Сегодня двое приехали и помогли мне починить кусок. Помогли, будь они прокляты! Дождались, пока мы закончили, а после и говорят, мол, Флетчер не хочет, чтоб какая-нибудь из моих свиней вырвалась на свободу и бегала среди его коров. Из моих свиней! Да во всей этой долине ни одной свиньи нет, и им это прекрасно известно! Меня от одного этого слова тошнит.
Отец засмеялся — и только подлил масла в огонь. Хоть это был и мрачноватый смех, но все же смех.
— Похоже, это Моргана выдумка. Он хитрый выдумщик. Подлый, но…
Генри Шипстед не дал ему договорить.
— Не над чем тут смеяться, Джо. Уж кому-кому смеяться, но только не тебе. Черт побери, приятель, я начинаю подозревать, что ты не так уж хорошо разбираешься в людях. Никто из нас уже не может ходить с поднятой головой. Совсем недавно зашел я к Графтону, а там вертелся Крис и вовсю разглагольствовал, что Шейна, видать, совсем жажда измучила, он, мол, так напугался, что давно уже не приезжал в город за своей содовой шипучкой.
Теперь они вдвоем напирали на отца. А он сидел, откинувшись на спинку стула, ничего не говоря, и лицо у него было пасмурное.
— Тебе от этого не уйти, Джо, — это Райт говорил. — Твой человек во всем виноват. Ты можешь всю ночь объяснять, но фактов не изменишь. Крис вызывал его на драку, а он смылся — и оставил нас по уши в этих вонючих свиньях!
— Ты не хуже меня понимаешь, что делает Флетчер, — ворчал Генри Шипстед. — Он таким способом нас заводит, и не оставит в покое до тех пор, пока мы этого свинства не нажремся по горло, кто-то потеряет голову и затеет какие-нибудь глупости; вот тогда у него будет повод влезть в это дело и покончить с нами.
— Глупости или не глупости, — сказал Эрни Райт, — но я уже сыт по горло. В следующий раз, когда один из этих…
Отец остановил его, подняв руку.
— Слушайте! Что это там?
Это была лошадь — она скакала все быстрее по нашему проезду, а потом вылетела на дорогу. Отец одним прыжком оказался в дверях, распахнул их и выглянул наружу.
Эти двое поспешили за ним.
— Шейн?
Отец кивнул. Он что-то бормотал про себя. Я следил за ним из дверей своей комнатки. Глаза у него горели и вроде как приплясывали. Он по-всякому обзывал Шейна, ругал его тихо и безостановочно. Наконец он вернулся на свое место и усмехнулся этим двоим.
— Да, это был Шейн, — сказал он им, и в словах этих было куда больше значения, чем они, казалось, говорили. — Теперь нам только ждать осталось.
Они сидели молча и ждали. Мать, которая шила что-то в спальне и, как обычно, слушала их разговоры, оставила свое шитье, прошла на кухню, сварила кофе, и все они сидели, прихлебывая горячее питье, и ждали…
Не прошло и двадцати минут, как мы снова услышали топот копыт — лошадь быстро приближалась, потом, не замедляя шага, повернула к нам в проезд. Послышались быстрые шаги по ступенькам веранды, и в дверях появился Шейн. Он глубоко дышал, лицо у него было каменное. Сжатые губы выделялись тонкой линией на бледном лице, а глаза были глубокие и темные. Он посмотрел на Шипстеда и Райта и заговорил, не пытаясь скрыть презрения в голосе.
— Ваши свиньи мертвы и похоронены.
Потом взгляд его повернулся к отцу, и лицо смягчилось. Но голос звучал по-прежнему горько.
— Вот и второй готов. Какое-то время Крис никого не будет беспокоить.
Он повернулся и исчез, а потом мы услышали, как он отвел лошадь в сарай.
В наступившей тишине снова где-то вдали прозвучал топот копыт, как эхо. Он становился все громче, потом вторая лошадь влетела галопом в наш проезд и остановилась. На крыльцо спрыгнул Эд Хауэлз и влетел в кухню.
— Где Шейн?
— В сарае, — сказал отец.
— Он вам рассказал, что случилось?
— Скорее нет, — спокойно ответил отец. — Что-то насчет похороненных свиней.
Эд Хауэлз, пыхтя, шлепнулся на стул. Он был какой-то ошарашенный, просто не в себе. Заикаясь, с трудом подбирая слова, он пытался передать другим свои чувства.
— Я в жизни такого не видел, — сказал он наконец, а потом рассказал все по порядку.
Он был в магазине у Графтона, покупал кое-что, и даже не собирался соваться в салун, потому что Крис и еще один ковбой Флетчера, Рыжий Марлин, сидели там с другими людьми, играли в покер, — и вдруг заметил, как там тихо стало. Ну, он заглянул туда украдкой, — и увидел Шейна, тот шел к бару хладнокровно и легко, как будто в помещении пусто было, как будто он один был на весь салун. Ни Крис, ни Рыжий Марлин даже не вякнули, ни слова, ни полслова, хотя вроде был самый подходящий случай отпустить какую-нибудь из ихних поганых шуточек. Одного взгляда на Шейна хватило, чтобы понять, с чего это у них вдруг языки отнялись. Ну да, верно, он двигался хладнокровно и легко. Но была в его движениях этакая гладкая плавность, от которой сразу становилось понятно, без долгих размышлений, что в эту минуту самое разумное поведение — это сидеть себе тихонечко и помалкивать в тряпочку.
— Две бутылки содовой шипучки, — сказал он Уиллу Атки. Оперся спиной на стойку и начал следить за игрой в покер с самым на вид дружелюбным интересом, пока Уилл ходил в магазин за бутылками. Никто из присутствующих даже не шелохнулся. Они все косились на него и недоумевали, что это за игру он затеял. А он взял эти две бутылки, подошел к столу, поставил их и подсунул одну Крису.
— Когда я был тут в последний раз, ты купил мне выпивку. Теперь моя очередь.
Слова как будто повисли в тишине. Такое было впечатление, — сказал Эд Хауэлз, — что Шейн только то и имел в виду, что эти слова означали. Он хотел угостить Криса. Он хотел, чтобы Крис взял эту бутылку, улыбнулся в ответ и выпил с ним.
— Я думаю, — продолжал Эд, — что если б тут оказалась муха, так слышно было бы, как она пролетает. Ну, Крис аккуратно положил карты и потянулся за бутылкой. Схватил ее резким движением и швырнул через стол в Шейна.
А Шейн так быстро двигался, — сказал Эд Хауэлз, — что бутылка еще по воздуху летела, а он уже от нее уклонился, нырнул вперед, схватил Криса за рубашку, выдернул его со стула и потащил через стол. И пока Крис трепыхался, пытаясь стать на ноги, Шейн отпустил рубашку и залепил ему три оплеухи, хлесткие и резкие, и рука его мелькала так быстро, что глаз едва поспевал уследить, а звук от этих оплеух был, как от пистолетных выстрелов.
Шейн отступил на шаг, а Крис стоял, чуть покачиваясь, и тряс головой, чтоб мозги прочистить. Он был парень смелый, и его прямо колотило от бешенства. Он кинулся вперед, размахивая кулаками, но Шейн подпустил его, нырнул под руку и крепко врезал в нижнюю часть живота. У Криса дыхалка кончилась, голова пошла вниз, а Шейн двинул снизу вверх торцом открытой ладони, прямо по губам, так что у него голова назад откинулась, а рука Шейна проехала по носу и глазам.
Удар был такой сильный, что Крис потерял равновесие и жутко зашатался. Губы у него просто расквашенные были. Из разбитого носа на них капала кровь. Глаза налились кровью и слезами, он еле-еле видел что-то перед собой. Лицо у него, — проговорил Эд Хауэлз и слегка покачал головой, — выглядело так, будто его лошадь лягнула. Но он снова бросился вперед, дико молотя руками.
Шейн опять нырком ушел под руку, поймал запястье, резко вывернул кисть, так что рука не могла согнуться, и, выпрямившись, ударил плечом под мышку. Одновременно он рванул за кисть книзу, и Крис просто перелетел через него. А пока он летел по воздуху, Шейн, не выпуская руки, вывернул ее вбок, и парень обрушился на нее всем весом — слышно было, как хрустнула кость, когда Крис шлепнулся на пол.
Он испустил длинный такой рыдающий звук — и замолчал, и больше ни звука не прозвучало. А Шейн даже не глянул на скорченное тело. Он стоял прямой, страшный, как сама смерть, и молчал. В нем каждая жилочка играла, но он стоял неподвижно. Только глаза скользили по лицам сидящих за столом. Вот остановились на Рыжем Марлине, и Рыжий как будто осел пониже на стуле.
— Может быть, — сказал Шейн мягко, и от этого мягкого голоса, как признался Эд Хауэлз, у него мурашки по всему телу побежали, — может быть, ты найдешь что сказать насчет содовой шипучки или свиней?
Рыжий Марлин сидел так тихо, как будто дыхнуть боялся. На лбу у него выступили бисеринки пота. Он боялся, может быть, первый раз в жизни, и все другие это видели, и он видел, что они видят, но ему было все равно. И никто из них не стал бы корить его за это.
А потом у них на глазах огонь, пылавший в Шейне, вроде как притих, а после совсем исчез. Как будто спрятался где-то у него внутри. Он забыл про всех этих, в салуне, повернулся к Крису, лежащему на полу без сознания, и тут прямо какая-то печаль, — сказал недоуменно Эд Хауэлз, — надвинулась и охватила его. Он наклонился, поднял распростертое тело на руки и отнес на свободный стол. Бережно уложил, только ноги свесились через край. Прошел к бару, взял тряпку, которой Уилл вечно стойку вытирал, вернулся к столу и заботливо обтер с лица кровь. Осторожно проверил сломанную руку, нащупал что-то и покивал сам себе.
И все это время никто и слова не сказал. Ни один из них не полез бы под руку этому человеку даже за годичный заработок. А он заговорил, и голос его долетел через все помещение до Рыжего Марлина.
— Отвези-ка ты его домой и наложи на руку лубки. И ухаживайте за ним как следует. В нем есть все задатки хорошего человека.
А потом снова, значит, забыл про них, повернулся к Крису и продолжал говорить, как будто обращаясь к этому бессильно лежащему человеку, который и слышать-то его не мог:
— У тебя только одна серьезная беда. Ты еще молодой. Но от этого время всегда вылечит…
Эта мысль причинила ему боль, он направился к дверям салуна и вышел в темноту.
Вот это рассказал Эд Хауэлз.
— И все дело, — закончил он, — не заняло и пяти минут. Может, тридцать секунд прошло с того момента как он схватил Криса, и до того, как Крис растянуло на полу без сознания. По-моему, опаснее человека, чем этот Шейн, я в жизни не видел. Это ж слава Богу, что он работает на Джо Старрета, а не на Флетчера.
Отец перевел торжествующий взгляд на Генри Шипстеда.
— Ну, так что, разбираюсь я в людях или ошибся, а?
Но прежде чем кто-то успел слово вставить, заговорила мать. Я удивился, потому что она была не в себе и голос у нее дрожал.
— А я бы не была так уверена в этом, Джо Старрет. Я думаю, ты совершил серьезную ошибку.
— Мэриан, что это в тебя вселилось?
— Да, ошибку! Посмотри, что ты наделал одним тем что уговорил его остаться здесь и позволил вмешаться в эту ссору с Флетчером!
Тут отец и сам начал раздражаться.
— Женщины таких вещей никогда не понимают Послушай-ка, Мэриан… С Крисом будет все в порядке Он молодой, здоровый… Как только рука срастется, он будет в такой же отличной форме, как и всегда.
— Ох, Джо, неужели ты не можешь понять, о чем я говорю? Я вовсе не имела в виду, что он сделал с Крисом. Я имела в виду, что ты сделал с Шейном!
8
На этот раз мать оказалась права. Шейн изменился Он пытался сохранить в отношениях с нами все, как было, и внешне вроде никакой разницы и не появилось. Но он утратил безмятежную ясность, которая просто изливалась из него летом. Он уже больше не сидел и не толковал с нами столько, сколько раньше. Его все грызло какое-то глубоко скрытое отчаяние.
Временами, когда оно мучило его сильнее всего, он слонялся туда-сюда и это, казалось, было единственное средство, которое его как-то утешало. Я часто видел, как он, думая, что никто на него не смотрит, проводил руками по жердям кораля, которые он сам приколотил, дергал столбы, которые сам вкопал, проверяя, хорошо ли держатся, прохаживался мимо сарая, поглядывая на торчащий сверху сеновал, или шагал туда, где высокая кукуруза была собрана в большие копны, погружал руки в мягкую землю, зачерпывал пригоршню и смотрел, как земля просыпается между пальцев.
Он стоял, облокотившись на ограду пастбища, и разглядывал наше маленькое стадо так, будто оно означало для него куда больше, чем просто кучка ленивых коров, откармливаемых на продажу. Иногда он тихонько свистел, и его конь, который теперь нагулял тело, так что стали видны все его достоинства, который теперь двигался со спокойной уверенностью и мощью, напоминавшей самого Шейна, прибегал рысью к ограде и начинал тыкаться в него носом.
Часто он исчезал из дому вечером, после ужина. Не раз после мытья посуды, когда мне удавалось проскользнуть мимо матери, я находил его далеко на пастбище наедине с конем. Он стоял, положив одну руку на изогнутую плавной аркой лошадиную шею, мягко почесывая коня за ушами, и смотрел куда-то за пределы нашего участка, туда, где последние лучи солнца, теперь уже не видного за хребтом, вспыхивали на дальних склонах гор, одевая вершины в сияющие шапки и оставляя в долине таинственные сумерки.
Какая-то часть уверенности, наполнявшей его, когда он только приехал, теперь исчезла. Он, казалось, чувствовал, что должен оправдываться, объяснять свои поступки, даже передо мной, мальчишкой, который хвостиком таскается за ним.
— А вы можете меня научить, — спрашивал я, — бросать человека так, как вы Криса бросили?
Он молчал так долго, что я думал, уже вообще не ответит.
— Таким вещам нельзя научиться, — сказал он наконец. — Ты это умеешь — и все… — А потом вдруг заговорил быстро-быстро, чуть ли не умоляющим тоном — я от него никогда такого не слышал: — Я пробовал. Ты ведь видел это, Боб, верно ведь? Я терпел, когда он на Меня наскакивал, я ему дал возможность уйти. Человек может сохранить самоуважение, даже не запихивая его кому-то в глотку. Ты ведь, конечно, видел это, Боб?
А я ничего не видел. То, что он пытался мне объяснить, я в тогдашнем возрасте понять просто не мог. Я даже не мог придумать, что ему сказать.
— Я дал ему возможность решить самому. Ему не надо было прыгать на меня второй раз. Он мог закончить это миром — и не ползая на брюхе. Мог, если бы был настоящим мужчиной. Разве ты не видишь, Боб?
Ничего я не видел. Но я сказал, что видел. Он был такой серьезный, ему так нужно было, чтобы я подтвердил. Прошло много, очень много времени, прежде чем я это увидел, тогда я уже сам стал мужчиной, но Шейн» не была рядом, чтобы я мог сказать ему об этом…
Я не знал наверняка, замечает ли отец и мать изменения в нем. Они об этом не разговаривали, во всяком случае, при мне. Но однажды, ближе к вечеру, я подслушал кое-что, и понял, что мать все знает.
Я примчался домой из школы, переоделся в старую одежду и собрался было поглядеть, что там поделывают отец с Шейном на кукурузном поле, как вдруг вспомнил про одну штучку, которая у меня несколько раз получалась. Мать была категорически против того, чтоб жевать что-нибудь между завтраком и обедом — или там обедом и ужином. Очень неразумный взгляд. А у меня все мысли вертелись вокруг ее печенья, которое она держала в жестяной коробке на полке возле печи. Она устроилась на веранде чистить картошку, ну, а я пробрался на зады дома, влез через окно в свою комнатку, а оттуда на цыпочках пробрался на кухню. И в тот момент, когда я потихоньку подсовывал под полку стул, я услышал, как она зовет Шейна.
Отец, видно, послал его за чем-то в сарай, потому что он оказался возле веранды почти сразу. Я выглянул через переднее окно и увидел, что он стоит близко к веранде со шляпой в руке и слегка поднял голову, чтобы смотреть на нее, — а она наклонилась вперед на своем стуле.
— Я хотела поговорить с вами, пока Джо нету рядом.
— Да, Мэриан. — Он назвал ее так же, как отец звал, вроде бы по-простому, без церемоний, но уважительно — он всегда к ней так относился, и глаза у него были ласковые, он больше ни на кого так не смотрел.
— Вы ведь беспокоились, не правда ли, относительно того, что может случиться из-за этой истории с Флетчером? Вы думали, дело ограничится тем, чтоб не дать ему запугать вас, прогнать отсюда, и чтобы помочь нам в трудное время. Вы не предполагали, что дело зайдет так далеко, как теперь. А сейчас вы озабочены, думаете, что сможете сделать, если снова начнется какая-то драка…
— Вы очень проницательная женщина, Мэриан.
— И еще вы думали, что, может быть, пора вам ехать дальше.
— А это как вы узнали?
— Потому что именно это вам и следует сделать. Ради себя самого. Но я прошу вас — не уезжайте. — Мать была такая взволнованная, серьезная и, с этими солнечными лучами, играющими у нее на волосах, красивая, как никогда. — Не уезжайте, Шейн. Вы нужны Джозефу. Больше, чем когда-либо. Больше, чем он захочет признать.
— А вам? — Губы Шейна едва шевельнулись, и я не был уверен, что слова он произнес именно эти.
Мать колебалась. Потом голова ее поднялась кверху.
— Да. С вами я должна говорить только честно. Мне вы тоже нужны.
— Та-а-а-ак, — сказал он тихо, и слова замерли у него на губах. Он серьезно и сосредоточенно разглядывал ее. — Вы знаете, о чем просите, Мэриан?
— Я знаю. И знаю, что вы — человек, который мог бы устоять против такой просьбы. Во многом мне и самой было бы легче, если бы вы уехали из долины и никогда не возвращались. Но мы не можем позволить, чтобы Джо потерпел поражение. Я рассчитываю на вас, надеюсь, что вы поможете… я не имею права это допустить. И вам придется остаться, Шейн, независимо от того, как это трудно для нас двоих. Без вас Джо не сохранит ферму. Он не сможет выстоять против Флетчера в одиночку.
Шейн молчал, и мне показалось, что ему страшно трудно, будто его в угол загнали. Мать говорила негромко, медленно, тщательно подбирая слова, и голос у нее начал дрожать.
— Лишить Джо этой фермы — все равно что убить его. Он слишком стар, чтобы начать с начала где-то в другом месте. Да, мы бы переехали и, может быть, даже неплохо устроились. В конце концов, он — Джо Старрет. Он настоящий мужчина и умеет сделать все, что должно быть сделано. Но он обещал мне вот эту ферму, когда мы поженились. Она была у него в мыслях все первые годы. Он работал за троих, лишь бы заработать побольше денег на все, что нам нужно будет. Как только Боб подрос настолько, чтобы хоть немного помогать мне, и нас можно было оставить одних, он поехал сюда, оформил заявку, построил тут все своими собственными руками, а потом привез нас сюда, и это место стало нашим домом. И никакое другое не сможет нам его заменить.
Шейн глубоко вздохнул и понемногу выдохнул. Он улыбнулся ей — а у меня почему-то сердце за него заболело.
— Джо должен гордиться такой женой, Мэриан. Не терзайтесь больше, Мэриан. Вы не потеряете эту ферму.
Мать тяжело опустилась на стул. Ее лицо, по крайней мере, с той стороны, что мне видна была, просияло. А потом, как и положено женщине, она начала противоречить сама себе.
— Но этот Флетчер — подлый и хитрый человек. Вы уверены, что все кончится хорошо?
Шейн уже сорвался с места и шел к сараю. Он остановился и снова повернулся к ней:
— Я сказал: вы не потеряете эту ферму.
И было понятно, что так и будет — по тому, как он это сказал, и потому, что это сказал он.
9
У нас в долине опять настало мирное время. С то вечера, как Шейн съездил в городок, ковбои Флетчера перестали пользоваться дорогой вдоль гомстедов. Они вообще не трогали нас, даже на том берегу лишь изредка мелькал какой-нибудь всадник. У них хватало причин, чтобы оставить нас в покое. Они были заняты — чинили хозяйский дом и огораживали еще один кораль, готовились к прибытию нового стада, которое Флетчер собирался пригнать весной.
И, тем не менее, как я заметил, отец теперь стал таким же бдительным и настороженным, как Шейн. Они оба теперь всегда все делали вместе. Они больше не расходились, чтобы работать по отдельности в разных частях фермы. Они работали вместе, и в городок ездили вместе, если что-то нужно было. И еще отец стал все время носить револьвер, даже в поле. Он нацепил его сразу после завтрака на следующее утро после драки с Крисом и вопросительно глянул на Шейна, застегивая пряжку, — я этот взгляд заметил. И Шейн покачал головой, и отец кивнул, приняв к сведению его решение, а потом они вышли вместе, не сказав вслух ни слова.
Стояли красивые осенние дни, ясные и волнующие душу, воздух был прохладен лишь настолько, что ты чувствовал его легкое покалывание; пока не случилось еще сильных холодов, которые скоро хлынут с гор и затопят долину. Была пора сбора урожая, поднимающая дух и уравнивающая настроение души с бодрым состоянием тела. И казалось невозможным, что в эту прекрасную пору может внезапно и стремительно вспыхнуть насилие…
По субботам к вечеру все забирались в легкую повозку, мать с отцом садились на сиденье, мы с Шейном устраивались сзади, свесив ноги, и отправлялись в городок. Это был перерыв в повседневной рутине, которого мы ждали всю неделю.
В это время в заведении Графтона всегда царило оживление, люди, все знакомые, входили и выходили. Мать закупала припасы на следующую неделю, убивая на это массу времени и тараторя с другими женщинами. Она, как и жены других фермеров, была большой любительницей обмениваться кулинарными рецептами, и они устроили тут себе главный рынок для этой меновой торговли. Отец передавал мистеру Графтону заказ на все, что нужно, и немедленно отправлялся за почтой. Он регулярно получал каталоги сельскохозяйственного оборудования и проспекты из самого Вашингтона. Он бегло перелистывал их, просматривал письма, если какие были, а потом усаживался на бочку и разворачивал свою газету. Но не проходило и минуты, как он ввязывался в спор с первым попавшимся собеседником о лучших для Территории сортах растений, и по-настоящему газету читал Шейн.
А я обычно шнырял по магазину, набивал пузо крекерами из открытого бочонка, стоящего в конце стойки, и играл в прятки с крупным и мудрым старым котом мистера Графтона, большим мастаком по части ловли мышей. Сколько раз, переворачивая ящики, я выгонял оттуда этих толстых пушистых тварей прямо ему в когти… Если мать была в подходящем настроении, у меня в кармане оказывался пакет леденцов.
На этот раз у нас имелась особая причина задержаться дольше обычного, причина, которая мне была вовсе не по вкусу. Наша учительница, Джейн Графтон, заставила меня отнести матери записку с приглашением зайти побеседовать. Обо мне. Я и вообще-то был не особенно силен и прилежен в учебе. А сейчас меня, к тому же, очень беспокоили дела на большом ранчо и то, как они могут отразиться на нас, — а это ничуть не способствовало занятиям. Мисс Графтон и в лучшие-то времена едва терпела меня. Но что довело ее до такой злости, чтобы матери записку писать, так это погода. Какой нормальный человек может ожидать, что мальчик, у которого хоть капля энергии есть, усидит запертый в классе в такую погоду? За эту неделю я два раза уговаривал Олли Джонсона смыться со мной вместе после большой перемены и проверить, клюет ли еще рыба в нашем любимом пруду за городом.
Мать покончила с последним пунктом в своем списке, поискала меня глазами, слегка вздохнула и распрямила плечи. Я понял, что она направляется в жилые комнаты за магазином беседовать с мисс Графтон. Я скорчился и сделал вид, что не замечаю ее взгляда. В магазине осталось всего несколько человек, хотя салун в соседнем помещении работал вовсю. Она подошла к отцу, который все еще листал каталоги, и оторвала его от этого занятия.
— Идем, Джо. Тебе это тоже не помешает выслушать. Должна тебе заявить, мальчик уже слишком большой, чтобы я сама могла с ним справиться.
Отец быстро оглядел магазин и замер, прислушиваясь к голосам, доносящимся из соседнего помещения. За весь вечер мы не видели никого из людей Флетчера, и отец как будто был спокоен. Он взглянул на Шейна, складывающего газету.
— Это недолго. Мы вернемся через минуту.
Они скрылись в дверях, ведущих в заднюю часть здания, а Шейн подошел к проему, соединяющему магазин и салун. Он окинул зал быстрым настороженным взглядом и шагнул внутрь. Я последовал за ним. Но мне не полагалось туда даже заходить, так что я остановился у входа. Шейн стоял возле бара и с самым серьезным видом подшучивал над Уиллом Атки, говоря, что, по-видимому, не будет брать сегодня содовой шипучки. В зале сидели несколько небольших компаний, в большинстве из местной округи, я их всех знал хотя бы в лицо. Те, что были рядом с Шейном, слегка отодвинулись, с любопытством косясь на него. А он, вроде как, ничего и не заметил.
Он поднял стакан к губам и попробовал выпивку на вкус, опираясь одним локтем на стойку, не пытаясь ни пройти дальше в зал и присоединиться к обществу, ни спрятаться в сторонке, просто он готов был проявить дружелюбие, если кому-то захочется, или враждебность, если, опять-таки, кто-то начнет напрашиваться.
Я шарил глазами по залу, пытаясь припомнить, кого тут как зовут, и вдруг заметил, что одна из распашных дверок чуть приоткрыта, и в щель украдкой заглядывает Рыжий Марлин. Шейн это тоже увидел. Но только ему не было видно, что на веранде есть и еще люди, потому что они держались ближе к стене, с той стороны, где магазин. Я их заметил через окно рядом — громоздкие тени в темноте. И так испугался, что едва мог с места двинуться.
Но я должен был. Должен был, несмотря на все мамины запреты. Я прокрался в салун, прямо к Шейну, и зашептал:
— Шейн! Их там снаружи целая куча!
Только я опоздал. Рыжий Марлин был уже внутри, остальные заходили торопливо и рассеивались по залу, стараясь перекрыть проход в магазин. Среди них был Морган; на его плоском лице застыла угрюмая решимость, а широкие плечи почти заполнили дверной проем, когда он заходил; рядом с ним стоял ковбой, которого звали Кудряшом за густую шапку непослушных волос. Он был глуповатый и медлительный, зато толстый и сильный, и он несколько лет работал вдвоем с Крисом. Еще двое последовали за ними — это были новые для меня люди, по виду крепкие и опытные, много лет проработавшие со стадом.
Оставалась еще канцелярия сзади с выходом наружу, на боковое крыльцо и проезд за домом. У меня тряслись колени, но я вцепился в Шейна и попытался сказать ему об этом. Однако он остановил меня резким жестом. Лицо у него было ясное, глаза горели. Он даже как будто был счастлив, ну, не так, что ему весело и радостно, просто счастлив, что кончилось ожидание, и то, что ждало в будущем, наконец пришло, вот оно, видное и понятное, и он готов… Он положил руку мне на голову, чуть покачал, растрепал волосы.
— Бобби, мальчик, ты хочешь, чтобы я удрал?
Любовь к этому человеку пронизала меня, по всему телу пробежала теплая волна, колени перестали трястись, и я почувствовал такую гордость, что вот я здесь, с ним, — даже слезы на глазах выступили. Он сказал:
— Уйди отсюда, Боб. Не очень-то это будет красиво.
Я знал, что он прав, и был готов сделать, как он сказал. Но не смог уйти дальше своего наблюдательного пункта на ящике сразу за проходом в магазин, откуда мог видеть почти весь салун. Я там торчал, как приклеенный, и мне даже в голову не пришло побежать за отцом.
Теперь Морган двинулся вперед, а его люди рассыпались за ним цепью. Он прошел примерно полдороги до Шейна и остановился. В помещении воцарилась тишина, только шаркали ноги, когда люди от стойки и ближайших столов отступали к задней стене, а некоторые торопливо выбирались через переднюю дверь. Ни Шейн, ни Морган не обращали на них внимания. Они смотрели только друг на друга. Они и глазом не повели даже когда мистер Графтон, который чуял заваруху у себя в заведении с любого расстояния, ворвался в салун через проход из магазина, громыхая сапогами по дощатому полу, и протиснулся за стойку мимо Уилла Атки. У него было очень решительное лицо. Руки скрылись под стойкой, а потом вынырнули оттуда, сжимая дробовик с обрезанными стволами. Он положил его перед собой на стойку и сказал сухо, отвращением в голосе.
— Стрельбы здесь не будет, джентльмены. И весь ущерб придется заплатить.
Морган коротко кивнул, не сводя глаз с Шейна. Он подошел ближе и снова остановился, на расстоянии чуть больше вытянутой руки. Голову он слегка опустил. Руки со сжатыми кулаками висели вдоль тела.
— Никому не удастся попортить одного из моих парней и уйти безнаказанно. Мы вываляем тебя в дегте и перьях и вывезем вон из долины, Шейн, верхом на шесте. Сперва мы тебя малость поучим, а после прокатим на шесте вон из долины, там ты и останешься.
— Так вы, значит, все уже спланировали, — сказал Шейн негромко. Он двинулся, еще не договорив. Он вошел в дело так быстро, что просто поверить невозможно было в то, то случилось. Он схватил со стойки свой недопитый стакан и выплеснул Моргану в лицо, а когда руки Моргана взметнулись кверху — то ли чтоб схватить, то ли чтоб ударить его — он поймал запястья и откинулся назад, увлекая Моргана за собой. Он перекатился спиной по полу, а сведенными вместе ногами так ударил Моргана ниже пояса, что тот взлетел в воздух, перевернулся и, нелепо раскинув ноги, шмякнулся плашмя на пол и заскользил по доскам, обрушивая на себя стулья и столы.
Остальные четверо бросились на Шейна. Но он успел перевернуться на четвереньки, нырнул за ближайший стол и резко опрокинул его на них. Они разлетелись в разные стороны, уклоняясь от стола, а он одним быстрым, легким движением выскочил из-за него и кинулся на крайнего, оказавшегося ближе всех — это был один из новичков. Не обращая внимания на посыпавшиеся тумаки, он прорвался к нему вплотную, и я увидел, как его колено взметнулось и ударило этого человека в пах. У того вырвался тонкий крик, буквально визг, он, скорчившись, повалился на пол и пополз к дверям.
Морган тем временем поднялся на ноги — качаясь, вытирая лицо рукой, выкатывая глаза, как будто пытался снова четко увидеть вокруг себя. Остальные трое молотили Шейна, стараясь зажать его в коробочку между собой. Они отвешивали ему увесистые удары, окружив со всех сторон. А он вывернулся из этого вихря мелькающих рук, быстро и уверенно. Это было неимоверно, но они не могли причинить ему боль. Видно было, как обрушивается рука, слышался мощный удар кулака в тело. Но на него удары не действовали. Казалось, Они только подпитывают его свирепую энергию. Он метался между ними, как пламя. Он вырвался из свалки, тут же развернулся и обрушился на них. Один человек по-настоящему теснил троих! А потом выбрал второго новичка и двинулся на него…
Кудряш, медлительный и неуклюжий, пыхтя от злости, попытался поймать Шейна, обхватить его и зажать ему руки. Шейн чуть изогнулся вбок, опустил плечо и, когда Кудряш начал стискивать захват, резко двинул его плечом под челюсть, — тот разжал руки и отлетел в сторону.
Теперь они стали осторожнее, и ни один уже не рвался сойтись с ним поближе. Но тут Рыжий Марлин бросился на него сбоку, вынудив повернуться, а тем временем второй новичок сделал странную штуку. Он подпрыгнул высоко в воздух, как кролик, когда хочет осмотреться, и свирепо ударил Шейна сапогом в голову. Шейн видел это, но не мог избежать удара, он только чуть отклонил голову в сторону, и удар пришелся сбоку. Шейна крепко тряхнуло. Но удар не смог блокировать его мгновенную реакцию. Руки Шейна метнулись вперед, поймали сапог, и нападавший рухнул наземь, ударившись поясницей. В момент удара Шейн выкрутил ему ногу и налег на нее всем весом. Человек этот свился на полу в клубок, как змея, когда ее ударишь, резко застонал, прямо взвыл, и рывками пополз прочь — драться ему больше не хотелось.
Но Шейну для этого пришлось повернуться и наклониться — он оказался спиной к Кудряшу, и здоровяк тут же полез на него. Руки Кудряша сомкнулись вокруг Шейна, прижав его локти к телу. Рыжий Марлин немедленно бросился на помощь, они вдвоем крепко зажали Шейна между собой.
— Держи его! — прорычал Морган. Он надвигался и в глазах его пылала ненависть. Но даже теперь Шейн смог вырваться. Тяжелым рабочим башмаком, острым краем каблука, он резко наступил на ногу Кудряшу и рванулся в сторону. Кудряш вздрогнул, отшатнулся назад и потерял устойчивость, а Шейн мгновенно нырнул вниз, согнувшись всем телом, и я увидел, как их руки заскользили и выпустили его. Но Морган, круживший возле них, тоже это увидел. Он схватил со стойки бутылку и разбил ее у Шейна на затылке.
Шейн обвис и повалился бы на пол, если бы они не удержали его. Пока Морган обошел вокруг и остановился перед ним, не сводя глаз, жизненные силы вернулись к Шейну, и голова начала подниматься…
— Держи его! — повторил Морган. И двинул тяжелым кулаком, целясь Шейну в лицо. Шейн попытался отдернуть голову в сторону, и кулак не попал в челюсть, только смазал его по щеке, а массивный перстень на одном из пальцев пропахал камнем глубокую борозду в коже. Морган замахнулся, чтобы ударить второй раз. Но это ему не удалось…
Казалось, ничто не смогло бы отвлечь мое внимание от событий в салуне. Но вдруг рядом со мной послышалось как будто сдавленное рыдание, оно звучало непривычно — и все же знакомо, и оно отвлекло меня мгновенно.
Возле меня в проходе стоял отец!
Он был громадный и страшный, он смотрел поверх опрокинутого стола и разбросанных стульев на Шейна, на темную багрово-фиолетовую ссадину у него сбоку головы, на кровь, стекающую по щеке…
Таким отца я еще никогда не видел — и не думал, что увижу. Это был не просто гнев. Его переполняла ярость, она трясла его как жуткий озноб.
Я никогда бы не подумал, что он может двигаться с такой быстротой. Он накинулся на них раньше, чем они успели даже заметить, что он в комнате. Он обрушился на Моргана с безжалостной силой, и этот крупный человек кубарем покатился по залу. Широкая ладонь метнулась вперед, поймала Кудряша за плечо, даже отсюда видно было, как пальцы впились в тело. Другой рукой он схватил толстяка за пояс, оторвал его от Шейна, поднял над головой — у отца при этом рубашка лопнула вдоль спины, в разрыве вздулись узлами и буграми громадные мускулы — и отшвырнул измолотое тело от себя. Кудряш перекувыркнулся в воздухе, без толку размахивая руками и ногами, и грохнулся на стол у самой стены. Стол под ним треснул, разлетелся в щепки, а Кудряш влип в стену. Он попытался подняться, упираясь руками в пол, но руки подогнулись, он упал снова и замер.
Шейн, должно быть, взорвался в ту же секунду, как отец оторвал от него Кудряша, потому что тут же раздался грохот в другом месте. Это был Рыжий Марлин — он с перекошенным лицом врезался в стойку бара и схватился за нее, чтобы удержаться на ногах. Он закачался, кое-как восстановил равновесие и побежал к входной двери. Он несся, как сумасшедший, сломя голову, не разбирая дороги. Он пролетел через распашные дверцы, даже не притормозив, чтобы толкнуть их. Створки разлетелись, со свистом рассекая воздух, а мои глаза метнулись к Шейну, потому что он рассмеялся.
Он стоял посреди зала, стройный и величественный, кровь у него на лице была яркая, как кокарда, — и он смеялся.
Это был негромкий смех, негромкий и мягкий, его рассмешил не Рыжий Марлин или что-то еще, нет, он просто радовался, что живой, что наконец-то смог дать себе волю, выпустить из-под крышки клокочущие желания, отозваться на них душой и телом. Гибкая сила, такая непохожая на прямолинейную мощь отца, пела в каждой жилочке его тела.
Морган стоял в дальнем углу, лицо у него было хмурым и неуверенным. Ярость отца чуть приутихла, — могучее усилие, с которым он швырнул Кудряша, как будто слегка разрядило его. Он проводил взглядом сбежавшего Рыжего Марлина и двинулся к Моргану. Но голос Шейна остановил его.
— Погоди, Джо. Этот человек — мой. — Он оказался рядом с отцом и положил руку ему на локоть. — Ты лучше их убери отсюда. — Он кивну в мою сторону, и я с удивлением заметил, что поблизости стоит мать и смотрит. Она, должно быть, пришла вместе с отцом и была здесь все время. Рот у нее чуть приоткрылся. Глаза сверкали, она смотрела на весь зал, не на кого-то или что-то отдельное, а на весь зал.
Отец был разочарован.
— Морган больше мне по размеру подходит, — обиженно проворчал он. Он не беспокоился за Шейна. Он выискивал предлог, чтобы взяться за Моргана самому. Но дальше этого он не пошел. Только оглядел людей, жмущихся к стене.
— Это — драка Шейна. Если кто вмешается, будет иметь дело со мной. — По голосу было слышно, что он на них не злится, он им даже не грозил. Он просто внес ясность. А потом подошел к нам и сверху вниз посмотрел на мать. — Подожди снаружи, у повозки, Мэриан. Морган давно уже напрашивался… а женщине на это глядеть ни к чему.
Мать покачала головой, не отводя глаз от Шейна.
— Нет, Джо. Он — один из нас. Я должна увидеть все.
И мы остались там вместе, все трое, и это было правильно, потому что это ведь был Шейн.
Он направлялся к Моргану — вот так плавно, грациозно передвигался обычно по магазину старый кот. Он забыл о нас и о разбросанных по полу избитых людях, и о других людях, жмущихся там, под задней стеной, и о мистере Графтоне и Уилле Атки, которые скрючились за стойкой. Все его существо было нацелено на массивную фигуру впереди.
Морган был выше, раза в полтора шире и давно пользовался в долине репутацией нахрапистого забияки и беспощадного бойца. Однако происходящее ему не нравилось, он чувствовал, что попал в безвыходное положение. Но он знал, что просто стоять и ждать — еще хуже. И бросился на Шейна, пытаясь сокрушить, невысокого противника своим весом. Но тот скользнул в сторону, а когда Морган с разгону пролетел мимо него, залепил ему в живот резкий крюк и тут же второй рукой врезал сбоку по челюсти. Удары были короткие, молниеносные, кулаки промелькнули с такой быстротой, что как будто размазались в воздухе. Но при каждом ударе массивный корпус Моргана вздрагивал и останавливался на долю секунды, прежде чем сила энерции увлекала его дальше вперед. Он кидался снова и снова, выбрасывая здоровенные кулачищи. Но каждый раз Шейн ускользал и осыпал его градом быстрых хлестких ударов.
Морган остановился, тяжело дыша, — он уже понял бесплодность прямых атак. Теперь он ринулся на Шейна, широко расставив руки, пытаясь схватить его, побороть и свалить. Но Шейн был готов и подпустил его, не уклоняясь, не обращая внимания на руки, раскинутые в стороны, чтобы поймать его. Он выбросил кверху Правую ладонь, открытую, точно как Эд Хауэлз рассказывал, и Морган сам на нее напоролся, а она ткнулась прямо ему в губы и проехала по лицу вверх, отбросив его голову назад, так что он попятился и зашатался.
Лицо Моргана вспухло и покрылось красными пятнами. Он проревел что-то, как помешанный, и схватил стул. Выставил его перед собой, ножками вперед, и снова бросился на Шейна, а тот ловко отступил в сторону. Но Морган ожидал этого и, резко остановившись, взмахнул стулом и ударил Шейна сбоку. Стул разлетелся на куски, а Шейн как будто споткнулся и, совершенно неожиданно для человека, так уверенно держащегося на ногах, поскользнулся и упал на пол.
Забыв об осторожности, Морган кинулся на него — и тут ноги Шейна согнулись, он поймал Моргана на свои тяжелые рабочие башмаки и швырнул вверх и назад. Морган грохнулся в стойку с такой силой, что она затряслась по всей длине.
А Шейн мгновенно оказался на ногах и прыгнул на Моргана, как будто в полу под ним пружины были спрятаны. Левая рука с растопыренной ладонью ткнула Моргана в лоб, так что у того голова запрокинулась назад, а правая, сжатая в кулак, врезалась прямо в кадык. Мучительная боль перекосила лицо, глаза расширились от страха. А Шейн размахнулся правой рукой как дубинкой и, послав за рукой все тело, ударил его по шее под ухом. Раздался тошнотворный тупой звук, глаза Моргана закатились, обнажив белки, он обмяк, медленно сложился и упал лицом вперед на пол.
10
Морган повалился на пол — ив большом помещении салуна воцарилась такая тишина, что, когда Уилл Атки начал выпрямляться, выбираясь из-под стойки, шелест его одежды и скрип суставов прозвучали громко и отчетливо. Уилл замер, смущенный и немного испуганный.
Но Шейн не смотрел ни на него, ни на других, переминающихся у задней стены и жадно глазеющих. Он смотрел только на нас, на отца, мать и меня, и мне показалось, что ему больно видеть нас здесь.
Он глубоко дышал, грудь вздымалась, когда он набирал воздуху — и задерживал дыхание надолго, до боли… а потом медленно и шумно выдыхал. И вдруг меня поразило, что он молчит, что он спокоен. Со стороны видно было, какой он избитый; весь в крови. Всего на несколько секунд раньше ты видел только великолепие движений, переливающуюся жестокую красоту линий тела и силу взрывного действия. Ты чувствовал, что этот человек не знает устали, что он несокрушимый. А теперь, когда он стоял неподвижно и огонь в нем успокаивался и дотлевал, ты видел — и от этого сразу вспоминал — что его только что страшно избивали.
Воротник его рубашки был темный и мокрый. В него впиталась кровь, и не только из разодранной щеки. Намного больше сочилось из-под спутанных волос в том месте, куда Морган ударил бутылкой. Шейн машинально потрогал голову рукой, на руке появились липкие пятна. Он угрюмо посмотрел на руку и обтер ее о рубашку. Он слегка покачивался, а когда направился к нам, ноги под ним задрожали, и он чуть не упал.
Один из горожан, мистер Уэйр, приветливый человек, который содержал почтовую станцию, бросился к нему, сочувственно приговаривая что-то, как будто хотел помочь. Шейн резко выпрямился. Глаза его вспыхнули — он не желал помощи. Стройный, подтянутый, без тени дрожи, он подошел к нам, и было видно, что Он продержится на одном своем духе сколь угодно долго и выдержит самую дальнюю дорогу.
Но в этом не было нужды. Единственный человек В нашей долине, единственный человек, думаю, во всем мире, от которого он согласился бы принять помощь — не попросить О помощи, но принять ее — был здесь и был готов. Отец шагнул ему навстречу и обнял за плечи своей большой рукой.
— Все в порядке, Джо, — сказал Шейн так тихо, что вряд ли кто-то еще в помещении услышал его. Он прикрыл глаза и оперся на отцовскую руку, тело его чуть расслабилось, голова наклонилась набок. Отец согнулся, второй рукой подхватил Шейна под колени и поднял на руки, как брал меня, когда я засиживался слишком поздно, становился совсем сонным и в постель меня надо было нести.
Отец, держа Шейна на руках, глянул на мистера Графтона.
— Вы мне сделаете одолжение, Сэм, если подсчитаете ущерб и запишите на мой счет.
Но мистер Графтон, такой строгий в счетах и въедливый в сделках, поразил меня:
— Я запишу это на счет Флетчера. И уж присмотрю, чтобы он заплатил.
А мистер Уэйр поразил меня еще больше. Он заговорил торопливо и был очень настойчив:
— Послушайте меня, Старрет. Давно пора уже этому городку заиметь немного гордости. И еще, наверное, пора нам уже относиться более по-соседски к вам, гомстедерам. Я устрою сбор, чтобы покрыть затраты. Я тут стоял с самого начала, и с самого начала мне за себя стыдно было, стоять вот так и смотреть, как они впятером набросились на вашего человека.
Отцу было приятно. Но он знал, что ему нужно делать.
— Это очень любезно с вашей стороны, Уэйр. Но это — не ваша драка. Я бы на вашем месте не мучился, что остался в стороне. — Он опустил глаза к Шейну, и видно было, как его переполняет гордость. — По сути дела, я бы сказал, силы сегодня вечером были, считай, равные, даже если б я не полез в свалку. — И снова перевел взгляд на мистера Графтона. — Флетчеру нечего сюда вмешиваться, ни гроша с него не берите. Я плачу. — А потом гордо закинул голову. — Нет, черт побери! Мы платим. Мы с Шейном!
Он подошел к распашным дверям, повернулся боком, чтобы толкнуть их и открыть. Мать взяла меня за руку и мы двинулись следом. Она всегда знала, когда говорить, а когда молчать, и не сказала ни слова, пока отец поднял Шейна на сиденье повозки, забрался следом, устроил его в сидячем положении, обнял одной рукой, а в другую взял вожжи. Прибежал рысцой Уилл Атки с нашими вещами и сложил их в повозку. Мы с матерью забрались на задок, отец прикрикнул на лошадей, и мы отправились домой.
Довольно долго все молчали, только стучали по дороге копыта и слегка поскрипывали колеса. А потом я услышал впереди смешок. Это был Шейн. Холодный воздух привел его в чувство, он сидел ровно, чуть покачиваясь в такт движения повозки.
— Что ты сделал с толстяком, Джо? Я не видел, с рыжим возился.
— Ой, да просто вроде как откинул его с дороги, — отец не хотел особо распространяться.
Отец — но не мать.
— Он поднял его, как… как мешок с картошкой и швырнул прямо через весь зал. — Она это говорила не Шейну, ни кому-то другому. Она говорила это просто в ночь, в мягкую темноту вокруг нас, и в ее глазах отражались звезды.
Мы повернули и въехали на нашу ферму, и отец погнал нас всех в дом, а сам остался распрячь лошадей. Мать прошла в кухню, поставила воду греться на плиту и немедленно послала меня спать. Она загнала меня в мою комнатку, а я, конечно, тут же высунул нос из-за двери. Она стояла ко мне спиной. Она вытащила чистые тряпочки, сняла с печи воду и принялась обрабатывать Шейну голову. Она действовала очень осторожно, нежно даже, и все время потихоньку напевала что-то, так, себе под нос Ему стало здорово больно, когда вода попала на рану под спутанными волосами, а потом еще раз, когда мать начала смывать запекшуюся кровь со щеки. Но, кажется, ей самой было еще больнее, — в самые трудные мгновения у нее рука дергалась, она вся дрожала — а он сидел себе спокойно и все улыбался, подбадривал ее.
Вошел отец и присел у печи, наблюдая за ними. Достал трубку и принялся очень старательно ее набивать и раскуривать.
Она закончила. Шейн не дал ей наложить повязку.
— Здешний воздух — самое лучшее лекарство, — сказал он.
Ей пришлось удовлетвориться тем, что она тщательно промыла раны и убедилась, что кровь больше нигде не течет. Теперь настала очередь отца.
— Ну-ка, сними рубашку, Джо. Она разорвалась вдоль всей спины. Дай-ка я погляжу, что с ней можно сделать. — Но прежде, чем он успел подняться, она передумала. — Нет. Мы оставим ее как есть. Пусть напоминает про сегодняшний вечер. Ты был просто великолепен, Джо, так отшвырнул этого…
— Ерунда, — сказал отец. — Я просто разозлился. Он держал Шейна, чтоб Морган мог лупить его.
— И вы, Шейн. — Мать стояла посреди кухни, переводя глаза с одного на другого. — Вы тоже были великолепны. Морган такой громадный, страшный, но вы ему не оставили ни одного шанса. Вы были таким хладнокровным, таким быстрым… и таким грозным и…
— Женщина не должна видеть такие вещи, — перебил ее Шейн, и он сказал это вполне серьезно. Но она сама перебила его.
— Вы думаете, я не должна была смотреть, потому что это была грубая и опасная драка, а не просто кулачный бой для забавы, чтобы узнать, кто сильнее… злая схватка без правил, ради того, чтобы победить, — любой ценой, лишь бы победить. Конечно, так оно и было. Но не вы начали драку. Вы не хотели драться. До тех пор, пока они вас не вынудили. Вы это сделали, потому что у вас не было другого выхода.
Ее голос поднимался все выше, она смотрела то в одну сторону, то в другую и постепенно теряла контроль над собой.
— Были ли у какой-нибудь женщины двое таких мужчин?
И она отвернулась от них, не глядя, нащупала стул, упала на него, спрятала лицо в ладонях, и слезы хлынули ручьем.
Они двое смотрели на нее, потом друг на друга в том взрослом взаимопонимании, которое оставалось за пределами моих представлений. Шейн поднялся и шагнул к матери. Он мягко положил руку ей на голову, и я снова почувствовал его пальцы у себя в волосах и охватившую меня любовь. Он тихо вышел за дверь и исчез в темноте.
Отец затянулся трубкой. Она погасла, и он рассеянно закурил ее снова. Поднялся со стула, шагнул к двери и вышел на веранду. Я смутно различал его в темноте, он стоял там и смотрел за реку.
Постепенно рыдания матери утихли. Она подняла голову и вытерла слезы.
— Джо.
Он повернулся, вошел внутрь и остановился в дверях. Она поднялась. Она протянула к нему руки, он тут же оказался рядом и обнял ее.
— Ты думаешь, я не знаю, Мэриан?
— Но ты и в самом деле не знаешь. Не знаешь наверняка. Потому что я сама не знаю.
Отец смотрел поверх ее головы на кухонную стену, ничего не видя.
— Не терзайся, Мэриан. Я достаточно взрослый мужчина и сам все понял, когда его тропа пересеклась с моей. Что бы ни случилось, все будет хорошо.
— Ох, Джо… Джо! Поцелуй меня! Держи меня крепко и никогда не отпускай.
11
То, что случилось в этот вечер на кухне, не оставляло меня несколько дней. Но не особенно тревожило, потому что отец сказал, что все будет хорошо… а как можно было, зная его, сомневаться, что он сделает, чтоб было хорошо?
И люди Флетчера нас больше не беспокоили. Вообще. Как будто вовсе не было большого ранчо на том берегу реки, раскинувшегося по всей долине и даже перебравшегося на наш берег чуть выше по течению от фермы Эрни Райта, — так могло показаться, если смотреть с нашей фермы. Они нас совершенно оставили в покое, мы почти не видели их даже в городе. Сам Флетчер, говорили ребята в школе, снова уехал. Он уехал на почтовом дилижансе в Шайенн, а, может, и дальше, и, кажется, никто даже не знал, зачем он уехал.
Но отец с Шейном стали теперь еще осторожнее, чем раньше. Они держались вместе еще теснее и проводили в поле лишь столько времени, сколько необходимо. Больше не было долгих бесед на веранде по вечерам, хотя ночи стали такие прохладные и красивые, что просто манили выйти наружу и постоять под мерцающими звездами. Мы отсиживались в доме, и отец все время придирчиво напоминал, чтобы лампа постоянно была как следует затенена, а еще он почистил свою винтовку, и теперь она висела, всегда заряженная, на двух гвоздях рядом с кухонной дверью.
Но мне все эти предосторожности казались бессмысленными. Поэтому как-то за обедом, примерно неделей позже, я спросил:
— Что-то еще случилось нехорошее? Ведь эта история с Флетчером — дело законченное, разве нет?
— Законченное? — переспросил Шейн и глянул на меня поверх кофейной чашки. — Бобби, мальчик, оно только начинается.
— Это ты верно говоришь, — сказал отец. — Флетчер зашел слишком далеко, чтобы теперь идти на попятную. Для него это задача, которую надо решить сейчас или никогда. Если ему удастся выжить нас отсюда, то он прекрасно устроится на долгие годы. Зато если не удастся, то рано или поздно придется самому убираться из долины, это уже просто вопрос времени. В прошлом году три-четыре человека тут уже появлялись, смотрели, что и как, они готовы вколотить заявочные столбы и переехать сюда, как только сочтут, что это безопасно. Готов побиться об заклад, Флетчер чувствует себя так, будто поймал за хвост медведя, и теперь совсем не против найти возможность выпустить этот хвост.
— Почему же тогда он ничего не делает? — спросил я. — Мне кажется, здесь последнее время здорово спокойно.
— Тебе кажется, вот как? — сказал отец. — А мне кажется, ты еще здорово молодой, чтобы тебе что-то там могло казаться. Не обольщайся, сынок. Флетчер задумал какую-то пакость. И долго тянуть не станет. У меня было бы куда легче на душе, если бы я знал, что у него на уме.
— Видишь ли, Боб, — Шейн говорил со мной так, как мне нравилось, — как вроде я взрослый мужчина и могу понять все, что он скажет, — Флетчер бахвалился и действовал так грубо, что сейчас дело доведено до крайности — или он все получит, или все потеряет. Это все равно, как если бы он пустил с горы камень, на который сам верхом уселся. Камень катится по склону, и ему остается только надеяться, что он доберется до низу живьем. Может, он еще этого не понял. Но я думаю, что все он понимает. И пускай внешнее спокойствие и тишина тебя не обманывают. Когда слышен шум, ты знаешь, куда смотреть, и видишь, что делается. А когда все тихо, надо быть осторожным вдвойне.
Мать вздохнула. Она смотрела на щеку Шейна — рана Уже заживала и превратилась в тонкий шрам, протянувшийся почти от самого уголка рта и назад, до уха.
— Я подозреваю, что вы оба правы. Неужели же опять предстоит драка?
— Как в тот вечер? — спросил отец. — Нет, Мэриан, не думаю. Флетчер не такой дурак теперь.
— Он не такой дурак, — сказал Шейн, — потому что знает — это ничего не даст. Если он такой человек, как я о нем думаю, то он это понял с первого раза, когда натравил на меня Криса. Я сомневаюсь, чтобы эта последняя драка была устроена по его приказу. Это Морган сам затеял. Флетчер выискивает какой-нибудь более тонкий способ — и более действенный.
— Гм-м-м, -сказал отец, слегка удивившись. — Какой-нибудь юридический трюк, что ли?
— Может быть. Если найдет. А если нет… — Шейн пожал плечами и глянул за окно. — Есть и другие способы. С таким человеком, как Флетчер, трудно что-то предсказывать. Все зависит от того, насколько далеко он намерен зайти. Но, что бы он ни задумал, как только у него все будет готово, он начнет действовать быстро и активно.
— Гм-м-м, — сказал отец снова. — Теперь когда ты так все объяснил, я вижу, что ты прав. Это как раз в его духе. Могу побиться об заклад, ты уже раньше сталкивался с кем-то вроде него. — Шейн не ответил, только все так же глядел за окно, и отец продолжал: — Хотел бы я иметь столько терпения, сколько у тебя. Меня это ожидание просто изводит…
Но долго нам ждать не пришлось. Буквально на следующий день, в пятницу, когда мы доедали ужин, Лью Джонсон и Генри Шипстед принесли новости. Флетчер вернулся, и вернулся не один. С ним приехал какой-то человек.
Лью Джонсон видел, как они сходили с почтового дилижанса. У него была возможность насмотреться на них, пока они возле станции ожидали лошадей с ранчо. Правда, уже начинало темнеть, и он не смог толком разглядеть лица незнакомца. Однако света из окон почтовой станции хватило, чтобы увидеть, какой породы этот человек.
Он был высокий, довольно широкий в плечах и тонкий в талии. Держал себя с горделивой важностью. Усы у него были шикарные, ухоженные, а глаза — Джонсон успел заметить, когда в них отразился свет из окна — были холодные, и имели особый блеск, который обеспокоил Джонсона.
По одежде своей этот незнакомец был явный щеголь. Правда, это ни о чем не говорит. Когда он повернулся, пиджак — из той же материи, что и брюки, — раскрылся, и Джонсон смог разглядеть то, что раньше было припрятано. Чужак носил два револьвера, здоровенные пушки сорок пятого калибра, в кобурах, подвешенных довольно низко и не сбоку, а просто спереди. Кобуры эти были внизу привязаны тонкими ремешками к ногам. Джонсон сказал, что заметил маленькие пряжки, когда на них блеснул свет.
Фамилия этого человека была Уилсон. Так его Флетчер позвал, когда появился ковбой и привел двух лошадей. А имя у него было смешное. Старк 18. Старк Уилсон. И это еще не все…
Лью Джонсон забеспокоился и пошел в заведение Графтона, чтобы потолковать с Уиллом Атки. Уиллу всегда было известно больше всех насчет людей, которые могли бы тут объявиться, потому что он исправно наматывал на ус все, что удавалось подслушать из разговоров посетителей, забредающих в бар. Уилл сперва не поверил, когда Джонсон назвал имя. «Да что ему здесь делать?» — все спрашивал Уилл. А потом пробормотал, что этот Уилсон — поганый тип, убийца. Он — ганфайтер, говорят, умеет одинаково стрелять с обеих рук и выхватывает оружие так быстро, как самые лучшие из них. Уилл добавил, что слышал, будто он приехал в Шайенн из Канзаса, говорили, он там троих убил, и никому не известно сколько еще на юго-западных территориях, где он обычно вертелся.
Лью Джонсон все тарахтел, добавлял детали по мере того, как припоминал их. Генри Шипстед горбился на стуле у печки. Отец хмуро косился на свою трубку, рассеянно выискивая по карманам спичку. И тут Шейн заткнул Джонсона, да так внезапно, что нас всех просто поразило. Голос его был резкий, чистый, он как будто потрескивал в воздухе. Просто чувствовалось, как он начал командовать в этой комнате, нами всеми, в ней сидящими, командовать.
— Когда они появились в городе?
— Вчера вечером.
— И вы только теперь надумали рассказать об этом! — Голос Шейна звучал сердито и презрительно. — Да, Джонсон, фермером ты родился, фермером и помрешь. — И резко повернулся к отцу. — Джо, соображай побыстрее. У кого самая горячая голова? Кого легче всего завести, чтоб наделал глупостей? Это Торри? Или Райт?
— Эрни Райт, — медленно проговорил отец.
— Шевелись, Джонсон. Давай забирайся на свою кобылу и спешно лети к Райту. Доставь его сюда. И Торри подбери тоже. Только сперва Райта.
— Для этого ему придется отправиться в город, -тяжело проговорил Шипстед. — Мы их встретили по дороге, они уже въезжали в город.
Шейн вскочил на ноги. Лью Джонсон неохотно плелся к выходу. Шейн оттолкнул его в сторону. Он сам бросился к дверям, распахнул их толчком и вылетел наружу. Остановился и наклонился вперед, прислушиваясь.
— Ну тебя к черту, парень, — пробурчал Шипстед, -чего ты горячишься? Мы им сказали про Уилсона. Они заедут сюда на обратном пути… — И тут его голос угас. Теперь мы все уже слышали — по дороге неслась галопом лошадь.
Шейн вернулся в комнату.
— Вот тебе и ответ, — с горечью в голосе сказал он. Схватил ближайший стул, поставил к стене и сел. Огонь, полыхавший в нем минуту назад, угас. Он сидел, погруженный в собственные мысли, темные и безрадостные.
Мы слышали, как лошадь заскользила и остановилась перед нашим домом. Звуки были такие отчетливые, что вы будто сквозь стенку видели, как упираются передние ноги и копыта врезаются в землю. Тут же в дверь ворвался Фрэнк Торри. Шляпу он где-то потерял, волосы растрепались. Грудь ходила ходуном, будто это не лошадь неслась галопом, а он сам. Он уперся руками в дверные косяки, чтобы не упасть, и голос его прозвучал хриплым шепотом, хоть он и пытался кричать на всю комнату:
— Эрни убит! Они его застрелили!
При этих словах мы все вскочили на ноги и уставились на него. Все — кроме Шейна. Он не шелохнулся. Можно было подумать, что ему даже не интересно, что там сказал Торри.
Отец взял ситуацию в свои руки.
— Зайди внутрь, Фрэнк, — негромко сказал он. — Я так понял, что теперь мы уже ничем не можем ему, Эрни, помочь… Сядь, рассказывай толком да ничего не пропускай.
Он подвел Фрэнка Торри к стулу и усадил силой. Потом закрыл дверь и вернулся на свое место. И выглядел он сейчас усталым и постаревшим.
Фрэнку Торри понадобилось какое-то время, чтобы собраться и рассказать все по порядку. Он был напуган. Страх глубоко влез ему в душу, и он сам себя стыдился.
Они с Эрни Райтом, — рассказал он нам, — ездили на почту справиться о посылке, которую Энри ожидал. Потом заглянули к Графтону, освежиться на дорогу, прежде чем ехать обратно. Ну, последнее время все было так спокойно, что они даже и не думали про какие-нибудь неприятности, хотя Флетчер и этот новый человек, Старк Уилсон, сидели за большим столом, в покер играли. Но Флетчер и Уилсон, видать, ждали такого случая. Они себе посмеивались в кулак, а после подошли к бару.
Флетчер был любезный и вежливый до невозможности, кивнул Торри и завел разговоры с Эрни. Он сказал, что ему очень жалко, но вот ему позарез нужна земля, на которую Эрни подал заявку. Очень уж подходящее место, чтобы устроить зимние укрытия для нового стада, которое он вот-вот пригонит. Он, мол, знает, что Эрни еще не подтвердил своего права на эту землю, пяти лет не прошло. Но это неважно, он все равно согласен заплатить справедливую цену.
— Я тебе дам три сотни долларов, — сказал он, — и это больше, чем ты вложил в свои строения.
Эрни уже вложил в свою ферму куда больше. Он и раньше отклонял предложения Флетчера — три раза, а, может, и четыре. Он сразу беситься начал, как всегда, когда Флетчер заводил свои сладкие речи.
— Нет, — коротко отрезал он. — Я не продам ферму. Ни сейчас, ни потом.
Флетчер пожал плечами, как будто сделал все, что мог, и быстро кивнул Старку Уилсону. Этот Уилсон сидел и вроде как мирно улыбался Эрни Райту. Но только в глазах у него, — сказал Торри, и намека на улыбку не было.
— Я бы на вашем месте передумал, — сказал он Эрни. — То есть, если у вас есть чем думать.
— А вы держитесь подальше, — отрезал Эрни. — Вас это не касается.
— Я вижу, вы еще не слышали, — ласково так говорит Уилсон. — Я — новый деловой агент мистера Флетчера. Я устраиваю за него его сделки. Его дела с упрямыми ослами вроде тебя. — А потом сказал то, что, видать, Флетчер ему присоветовал. — Дурак ты проклятый, Райт. Только чего ж еще можно ждать от полукровки?
— Это ложь! — заорал Эрни. — Моя мать не была индианкой!
— Эй ты, фермер гибридный, — говорит тут Уилсон, быстро так и резко, — ты, кажется, сказал, что я ошибаюсь?
— Я сказал, то ты Богом проклятый брехун!
Ну, тут в салуне так тихо стало, — рассказывал нам дальше Фрэнк Торри, — что слышно было, как тикает старый будильник на полке за баром. Даже Эрни понял, что наделал, буквально в ту же секунду, как рот закрыл. Но он был просто бешеный и уставился на Уилсона совсем уж нагло и безрассудно.
— Та-а-ак, — сказал Уилсон, которому этого было вполне достаточно, и слово это протянул с угрожающей мягкостью. Потом откинул назад правую полу пиджака. Теперь кобура оказалась на виду, а из нее торчала рукоятка револьвера в полной готовности.
— Возьми свои слова назад, Райт. Иначе уползешь отсюда на брюхе.
Эрни шагнул в сторону от бара, руки у него застыли по бокам тела. Злость удерживала его на ногах, хотя он с трудом одолевал нахлынувший ужас. Он знал, что все это значит, но встретил свою судьбу лицом к лицу. Рука его твердо держала револьвер и тащила его кверху, когда первая пуля Уилсона впилась в него, и он покачнулся. Вторая пуля наполовину развернула Райта, на губах появилась пена, потом с лица исчезло всякое выражение, он обмяк и повалился на пол.
Пока Фрэнк Торри рассказывал, появился Джим Льюис, а через несколько минут — Эл Хауэлз. Дурные вести не лежат на месте. Они уже как будто знали, что что-то плохое случилось. Может, слышали этот бешеный галоп — в тихом ночном воздухе звуки разносятся далеко. Все они набились к нам в кухню, и были ошарашенные и притихшие дальше некуда, я их в жизни такими не видел.
Я тесно прижался к матери и радовался, что она меня обнимает руками. Я видел, что она мало обращает внимания на остальных. Она следила за Шейном, а он сидел в другом конце комнаты, печальный и молчаливый.
— Так, значит, выходит, — угрюмо сказал отец. — Придется нам прямо смотреть правде в глаза. Или мы продадим свои участки, и по его цене, или он спустит с цепи своего наемного убийцу. Фрэнк, а тебе Уилсон ничего не сделал?
— Он на меня глянул, — Торри затрясся от одного воспоминания. — Он на меня глянул и говорит: «Как нехорошо, не правда ли, мистер, что Райт не захотел передумать?»
— А ты что?
— А я сбежал оттуда поскорее и кинулся сюда.
Джим Льюис ерзал на своем стуле и нервничал все сильнее с каждой минутой. Наконец он не выдержал, вскочил и почти заорал:
— Да черт его все побери, Джо! Не может ведь он просто так расхаживать по улицам и в людей стрелять!
— Закройся, Джим, — пробурчал Генри Шипстед. — Ты что, не видишь, как оно было подстроено? Уилсон приставал к Эрни, пока тот не дошел до точки, дальше ему ничего не оставалось, кроме как за пушку хвататься. Уилсон может спокойно заявлять, что стрелял в порядке самозащиты. И постарается провернуть такую же штуку с каждым из нас.
— Это точно, Джим, — согласился Лью Джонсон. — Даже если бы мы попробовали завести здесь маршала, он не сумел бы удержать Уилсона. Тут, мол, была стычка на равных и победил тот, кто оказался быстрее, — вот так будет считать большинство, да многие ведь сами все видели. И маршал в любом случае не появился бы там вовремя.
— Но мы должны остановить его! — теперь Льюис уже кричал по-настоящему. — Какие шансы у любого из нас против Уилсона? Мы не ганфайтеры. Мы — просто кучка старых ковбоев и фермеров. Можешь называть это как угодно, а я назову это преднамеренным убийством!
— Да!
Это слово как будто разрубило воздух. Шейн стоял на ногах, лицо у него затвердело, вдоль челюсти пролегли каменные гребни.
— Да. Это настоящее преднамеренное убийство. Можно представить его как самозащиту, можно нагородить нелепых слов насчет равной и честной схватки, и все же это убийство. — Он посмотрел на отца, и боль засветилась у него глубоко в глазах. Но, когда он повернулся к остальным, в голосе его звучало только презрение.
— Вы пятеро можете забиться в свои норы. Вам не о чем тревожиться — пока. А если придет время, так вы всегда сумеете продать фермы и унести ноги. Флетчер не станет сейчас возиться с такими как вы. Он настроился идти до конца, и он знает, как разыграть свои карты. Он выбрал Райта, чтобы продемонстрировать свои намерения. Это уже сделано. А теперь он нацелится прямо на единственного настоящего человека в этой долине, человека, на котором вы все здесь держитесь и который будет делать все, чтобы поддерживать вас и сохранять вам ваше достояние, до тех пор, пока в нем жизнь теплится. В эту минуту он один стоит между вами и Флетчером с Уилсоном, и вы должны благодарить судьбу, что хотя бы раз в сто лет в этой стране появляется такой человек, как Джо Старрет.
«И такой человек, как Шейн…»
Я не мог понять, прозвучали эти слова только у меня в мыслях, или я просто услышал, как их пошептала мать. Она посмотрела на него, потом на отца, и в ее взгляде были испуг и гордость одновременно. Отец возился со своей трубкой, он набивал ее так сосредоточенно, будто для этого требовалось все его внимание.
Другие беспокойно зашевелились. Слова Шейна как будто добавили им уверенности, но им стыдно было. И не понравилось, как он это все говорил.
— Сдается мне, ты здорово разбираешься во всех этих грязных делишках, — сказал Эд Хауэлз, и в его голосе послышался оттенок злости.
— Да, разбираюсь.
Шейн как будто выложил эти слова на стол — и они так и остались лежать, ясные, короткие и жуткие. Лицо у него было суровое, и все же за внешней жестокостью скрывалась печаль, которая пыталась прорваться наружу. Но он глядел на Хауэлза неподвижным взором — и тот потупился и отвернулся.
Отец наконец раскурил трубку.
— Может, это для нас всех счастливый случай, — сказал он сдержанно, — что Шейн уже прожил тут с нами какое-то время. Он может доходчиво разъяснить нам, как карты легли. Эрни, возможно, был бы сейчас живой, если бы у тебя, Лью Джонсон, хватило соображения рассказать нам про Уилсона сразу. Хорошо хоть, что у Эрни семьи не было… — Он повернулся к Шейну. — Как ты думаешь, что предпримет Флетчер теперь, когда он показал свой козырь?
Было видно, что возможность сделать что-нибудь, хотя бы просто обговорить ту беду, что навалилась на нас, снимала часть тяжести, навалившейся на душу Шейна.
— Первым делом он займет ферму Эрни Райта, прямо завтра. Теперь у него целая куча народу будет постоянно работать на этой стороне реки, может, он перегонит сюда часть стада и будет держать скот сразу за гомстедами, у нас на глазах, чтобы все время давить на нас. Как скоро он возьмется за тебя, Джо, — это зависит от того, как он тебя расценивает. Если он думает, что ты можешь сломаться, так он подождет и посмотрит, как на тебя подействовало то, что случилось с Райтом. А если он тебя знает по-настоящему, так он выждет день-другой, чтобы дать тебе время обдумать все, а потом ухватится за первый попавшийся повод и спустит на тебя Уилсона. Ему захочется, чтобы это произошло, как и с Райтом, на людях, в каком-то месте, где будет полно свидетелей. А если ты не дашь ему повода, так он постарается организовать его сам.
— Гм-м-м, — задумчиво сказал отец. — Я был уверен, что ты мне все выложишь напрямую, без уверток… и звучит это похоже на правду. — Он затянулся трубкой и помолчал немного. — Я думаю, ребята, ближайшие несколько дней он будет выжидать. Во всяком случае, сию минуту немедленной опасности нет. Сегодня вечером Графтон позаботится о теле Эрни. Мы можем встретиться в городе утром и устроить похороны. А после этого нам лучше держаться подальше от города и без крайней надобности из дому не высовываться. Я бы посоветовал вам всем обмозговать это дело. И давайте соберемся снова здесь завтра вечером. Может, сумеем надумать чего-нибудь. Мне бы хотелось сперва поглядеть, как это все воспримут в городе, прежде чем что-то решать.
Они были рады на том и закончить. Они были рады — свалить все на отца. Они были порядочные люди и добрые соседи. Но только ни один из них по своей воле теперь не выступил бы против Флетчера. Они будут держаться до тех пор, пока отец здесь. А если его не станет, Флетчер своего добьется. Вот это они понимали сейчас, когда бормотали «спокойной ночи» и толпились в дверях, чтобы разойтись по дороге в разные стороны.
Отец стоял в дверях и смотрел, как они уходят. А потом пошел обратно на свое место. Двигался он медленно и казался измученным и вымотанным.
— Кому-то придется пойти завтра на ферму Эрни, — сказал он, — и собрать его вещи. У него родня есть где-то в Айове.
— Нет. — Голос Шейна прозвучал категорически. -Ты туда и близко не подойдешь. Может, Флетчер на это рассчитывает. Пусть этим займется Графтон.
— Эрни был моим другом, — сказал отец просто
— Эрни сейчас там, где дружба не важна. Твой долг — остаться в живых.
Отец посмотрел на Шейна, и это вернуло его к реальности и как-то подбодрило. Он кивнул в знак согласия и повернулся к матери, которая торопливо возразила ему:
— Ты что, Джо, не понимаешь? Если ты будешь избегать любых мест, где можно встретить Флетчера и… и этого Уилсона, все устроится. Он не может задержать такого человека, как Уилсон, в этой маленькой долине навсегда.
Она говорила быстро, и я знал, почему. Не так она старалась убедить отца, как себя. Отец это тоже понимал.
— Нет, Мэриан. Мужчина не может забиться в нору и прятаться, как заяц. Если у него в душе хоть капля гордости имеется.
— Ну, хорошо, пускай. Но можешь ты держаться спокойно и не дать ему втянуть тебя в драку?
— И это тоже не выйдет. -Отец был мрачен, но уже держался лучше и смелее. — Когда надо, человек может снести очень многое. Особенно, если у него хватит благоразумия. — Его глаза на мгновение повернулись ко мне. — Но есть такие вещи, которые человек снести не может. Нет… если хочет и дальше жить со спокойной совестью.
И тут Шейн меня поразил — он вдруг глубоко вздохнул, долгим прерывистым вдохом. Он сражался с чем-то внутри себя, со своим старым тайным отчаянием, и глаза у него стали такие измученные и темные на бледном лице. Он, казалось, не мог поднять на нас взгляд. Он шагнул к дверям и вышел наружу. Мы слышали его шаги, удаляющиеся в сторону сарая.
— А теперь меня поразил отец. У него тоже перебилось дыхание, он тоже втягивал воздух долгими прерывистыми вздохами. Он вскочил с места и начал мерять кухню большими шагами. Когда он повернулся к матери и заговорил, голос его будто хлестал ее, в нем была напряженность, почти злость, — и тут я понял, что он прекрасно видел все изменения в Шейне, и это грызло его все последние недели.
— Есть такая вещь, которой мне не вынести, Мэриан. То, что мы делаем с ним. Что со мной будет — это не очень важно. Я люблю похвастать и знаю, что мне есть чем хвастать. Но по любой мерке мне с ним не сравняться — и это я тоже знаю. Если бы я с самого начала понимал его так, как сейчас, в жизни б не стал уговаривать остаться здесь. Но я и мысли не допускал, что Флетчер зайдет так далеко. Шейн выиграл свою главную битву еще до того, как въехал в эту долину. И эта победа ему вовсе не легко досталась. Так можем ли мы заставить его проиграть из-за нас? Черт с ним, с Флетчером, пусть получит, чего хочет! Мы распродадим все и уедем…
Я не думал. Я только чувствовал. По какой-то странной причине я чувствовал пальцы Шейна у себя в волосах, они потихоньку раскачивали мою голову. Я ничего не мог с собой поделать и закричал через всю комнату:
— Отец? Шейн не сбежит! Он ни перед чем не отступит!
Отец перестал расхаживать, замер, и глаза у него Удивленно сощурились. Он смотрел на меня, но вовсе меня не видел. Он слушал, что говорит мать.
— Боб прав, Джо. Мы не можем допустить, чтобы Шейн сдался. — Очень странно было слышать, как она говорит отцу то же самое, что говорила Шейну, то же самое — только с другим именем. — Он никогда не простит нам, если мы отступим. Этого мы ни за что не можем сделать. Тут дело не только в том, чтобы и дальше стоять против Флетчера. И не в том даже, чтобы удержать за собой кусок земли, которую Флетчер хочет превратить в свое пастбище. Нет. Дело в том, чтоб мы и в самом деле оказались такими людьми, какими Шейн нас считает. Боб прав. В таком деле Шейн ни за что не отступит. И именно по этой причине нам тоже нельзя отступить.
— Послушай, Мэриан, ты ведь не думаешь, что мне сильно хочется сбежать? Нет. Ты слишком хорошо меня знаешь, чтоб так подумать. Против этого все во мне восстает. Но что означает моя глупая гордость, и эта ферма, и все наши планы по сравнению с таким человеком, как он?
— Я знаю, Джо. Но ты посмотри на шаг дальше. — Они оба говорили очень серьезно, не перебивали друг друга, выслушивали до конца, как будто наощупь искали способ понять другого и передать полностью свои мысли. — Я не могу как следует объяснить это, Джо. Просто я знаю, что мы ввязались во что-то, куда более важное, чем любой из нас, и что отступление — это самое страшное для нас, хуже любой беды. Тогда уже у нас впереди не будет ничего настоящего, ни у одного из нас, может, даже у Боба, на всю нашу жизнь…
— Хм! — буркнул отец. — Торри мог бы так поступить. И Джонсон. Да все они… И это бы им спать не мешало.
— Джо! Джо Старрет! Ты что, хочешь меня до белого каления довести? Кто говорит о Торри и Джонсоне? Я говорю о нас!
— Хм-м-м, — протянул отец, как будто рассуждая про себя. — Соль вся из жизни выйдет… Просто никакого вкуса не будет… и не много тогда смысла и значения останется…
— Вот, Джо! Вот! Это как раз то, что я пытаюсь сказать. И я знаю, что как-то все у нас устроится. Не знаю, как. Но так и будет, если мы повернемся к опасности лицом, будем бороться и верить друг в друга. Все будет хорошо. Потому что все должно быть хорошо.
— Это — женские рассуждения, Мэриан. Но, в любом случае, есть в твоих словах доля правды. Мы будем играть эту игру до конца. Нам придется смотреть в оба и все очень точно рассчитывать. Но, может быть, мы подождем, пока Флетчер сделает ход, и попробуем его переиграть его же картами. Горожанам не очень понравится эта история с Уилсоном. Такие люди, как этот парень, Уэйр, имеют свою голову на плечах.
Сейчас, когда мысли у отца начали укладываться по местам, он выглядел уже повеселее. Они отправили меня спать, а сами с матерью еще долго сидели и разговаривали на кухне. Я залез в постель у себя в комнатке и смотрел через окно, как звезды крутятся колесом далеко-далеко в темноте, пока наконец не заснул.
12
Утреннее солнце озарило наш дом и весь мир вокруг. Мы хорошо позавтракали, отец с Шейном не торопились, потому что выехали в поле с утра пораньше и сделали какие-то работы, а теперь ждали, пока придет пора отправляться в город. Наконец они оседлали лошадей и уехали, а я болтался перед домом, не в силах заняться какой-нибудь игрой.
Мать кончила возиться с посудой, увидела, что я стою и смотрю на дорогу, и тут же позвала меня на веранду. Она втащила нашу старую ободранную доску для игры в парчези и заставила меня крепко попотеть, чтобы обыграть ее. Она такие игры здорово любила. Она от них заводилась, как ребенок, радостно визжала, когда выбивала много очков или дубль, и гордо считала вслух очки, когда двигала вперед свои фишки.
Когда я выиграл три партии подряд, она спрятала доску на место и принесла два больших яблока и самые любимые книжки, которые у нее сохранились еще с тех времен, когда она сама в школу ходила. Она грызла яблоко и читала мне вслух, и я совсем не заметил, как тени стали короткими, и ей пришлось оторваться, чтобы приготовить обед, а тут и отец с Шейном подъехали к сараю.
Они вошли, когда она ставила обед на стол. Мы все сели, и это было почти как праздник, не просто потому, что в этот день они не работали, а потому, что взрослые разговаривали весело, будто твердо решили не допустить, чтобы эта история с Флетчером испортила наши Добрые времена. Отец был доволен тем, как все прошло в городе.
— Да, сэр, — говорил он, пока мы доедали обед. — Хорошие похороны получились у Эрни. Он был бы доволен. Графтон произнес отличную речь и, черт меня побери, я верю, что он именно то и думает, что говорил! Этот парень, Уэйр, заставил своего работника сколотить по-настоящему красивый гроб. И не взял за него ни цента. И Симс с каменоломни высек хороший камень. И тоже не взял ни цента. И толпа меня просто удивила. Никто и слова хорошего про Флетчера не сказал. А собралось там добрых тридцать человек…
— Тридцать четыре, — уточнил Шейн. — Я их по головам пересчитал. Они не просто отдавали последние почести Эрни Райту, Мэриан. Многие из тех, кого я заметил, ради этого не удосужились бы прийти на похороны. Они показали свое отношение к некоему человеку по фамилии Старрет, который сам произнес великолепную речь. Ваш муж становится уважаемым гражданином в этих местах. Как только городок вырастет и будет организован как следует, Джо, думаю, начнет занимать почетные посты. Дайте ему время, он мэром станет.
Мать крепко всхлипнула, у нее дыхание перехватило.
— Дайте… ему… время… — медленно повторила она. Посмотрела на Шейна — и тут в глазах ее промелькнул панический ужас. Веселье исчезло, и прежде чем кто-то успел хоть слово сказать, мы услышали, как к нам во двор сворачивают кони…
Я бросился к окну, чтобы посмотреть наружу. Меня удивило, что Шейн, обычно такой настороженный и быстрый, не оказался там раньше меня. Вместо этого он отодвинул стул назад и негромко сказал, не вставая с места:
— Это Флетчер, Джо. Он слышал, как город воспринял этот случай, и знает, что должен действовать быстро. Но ты не нервничай. Время его подгоняет, однако здесь он ничего не станет затевать.
Отец кивнул Шейну и подошел к двери. Он сбросил с себя пояс с револьвером, когда зашел в дом, и сейчас не стал надевать его, а снял винтовку с гвоздей на стене. Держа ее в правой руке стволом книзу, он открыл дверь и вышел на веранду, прямо на самый край. Шейн спокойно двинулся за ним следом и, привалившись к косяку, остановился в дверях — сосредоточенный и внимательный. Мать стояла рядом со мной у окна, выглядывая наружу и комкая в руках передник.
Их было четверо: Флетчер и Уилсон впереди, два ковбоя — за ними. Они остановились футах в двадцати от крыльца. Я в первый раз почти за год видел Флетчера. Он был высокий человек, когда-то, наверное, красивый в этой изящной одежде, какую он всегда носил, с высокомерным видом и тонко вытесанным чертами лица, окаймленного коротко подстриженной черной бородой, со сверкающими глазами. Но теперь в его чертах появилась тяжеловесность, а тело начало заплывать жирком. В лице просвечивало какое-то язвительное выражение и отчаянная решимость, которых я прежде никогда не замечал.
Старк Уилсон, несмотря на свой хлыщеватый вид, о котором упоминал Фрэнк Торри, казался сухощавым и подтянутым. Он лениво сидел в седле, но его поза никого бы не обманула. Пиджака на нем не было, и оба револьвера торчали на виду. Выглядел он самоуверенным, безмятежным и смертельно опасным. Губы под усами чуть кривились, выражая одновременно убежденность в своих силах и презрение к нам.
Флетчер сиял приветливой улыбкой. Он явно считал, что держит колоду в руках и сдаст карты, как захочет.
— Простите, что беспокою вас, Старрет, так скоро после вчерашнего прискорбного случая. Я предпочел бы, чтоб этого удалось избежать. Совершенно искренне. В деловых вопросах можно отлично обойтись без стрельбы, если только люди проявляют здравый смысл. Но Райту не следовало называть мистера Уилсона лжецом. Это была ошибка с его стороны.
— Была, — коротко сказал отец. — Но Эрни всегда считал, что надо говорить правду. — Я видел, как Уилсон напрягся и губы у него сжались. Отец на него не глядел. — Говорите, что хотите, Флетчер, и убирайтесь с моей земли.
Флетчер все еще улыбался.
— Нам нет смысла ссориться, Старрет. Что сделано, то сделано. Будем надеяться, что не потребуется снова совершать что-нибудь подобное… Так вот, вы работали со скотом на большом ранчо и можете понять мое положение. Мне немедленно требуются все пастбища, которые я смогу получить. Но даже если бы не это, не могу я допустить, чтобы орды птенчиков 19 продолжали слетаться сюда и своими гнездами отрезали меня от моей законной воды.
— Мы об этом уже разговаривали раньше, — сказал отец. — Вы мою позицию знаете. Если у вас есть еще что сказать, говорите — и на том покончим.
— Ладно, Старрет. Вот что я предлагаю. Мне нравится, как вы ведете дело. У вас есть какие-то диковинные представления о скотоводческом бизнесе, но если уж вы беретесь за дело, то вцепляетесь в него и делаете как следует. Вы с вашим работником — это то сочетание, которое мне могло бы пригодиться. Я хочу, чтобы вы оказались с моей стороны забора. Я выгоняю Моргана и предлагаю вам занять место старшего объездчика. И, судя по тому, что мне говорили, из вашего работника вышел бы чертовски грамотный старший гуртовщик. Это место — его. Когда вы получите полное право собственности на эту землю, я ее у вас выкуплю. Если захотите и дальше жить здесь, это можно будет уладить. Если хотите по-прежнему играться со своим маленьким стадом, и это можно будет уладить. Но мне нужно, чтоб вы работали на меня.
Отец был удивлен. Он не ожидал ничего подобного. Он негромко обратился к Шейну, стоящему сзади. Он не повернулся, не отвел глаз от Флетчера, но голос его доносился четко.
— Могу я отвечать и за тебя, Шейн?
— Да, Джо. — Шейн тоже говорил негромко, но его голос звучал отчетливо, и в нем слышалась нотка гордости.
Отец чуть выпрямился там, на краю крыльца. Он по-прежнему смотрел прямо на Флетчера.
— А как с другими? — медленно спросил он. — Джонсон, Шипстед и все остальные. Как насчет них?
— Им придется уехать.
Отец не колебался ни секунды.
— Нет.
— Я дам вам тысячу долларов за эту ферму как она есть сейчас — и это моя наивысшая цена.
— Нет.
Ярость, сжигающая Флетчера изнутри, прорвалась на лицо, и он начал поворачиваться в седле к Уилсону. Но сумел сдержать себя и снова выдавил свою всезнающую язвительную улыбку.
— Поспешность не приносит прибыли, Старрет. Я увеличиваю ставку до тысячи двухсот долларов. Это куда лучше того, что может произойти, если вы будете упорствовать. Я не приму вашего ответа сию минуту. Я даю вам время до вечера обдумать его. Я буду ждать у Графтона и надеюсь услышать от вас разумные слова.
Он крутнул коня и поехал прочь. Два ковбоя повернули тоже и догнали его у дороги. Но Уилсон не последовал за ним сразу. Он наклонился вперед, не слезая с седла, и бросил на отца насмешливый взгляд.
— Да, Старрет. Ты уж подумай как следует. Вряд ли тебе пришлось бы по вкусу, чтобы кто-то другой жил в свое удовольствие, пользуясь этой твоей фермой — и этой женщиной, что вон там, в окне.
Он поднял одной рукой поводья, чтобы повернуть лошадь, — и вдруг выпустил их и настороженно замер. Должно быть, из-за того, что разглядел у отца в лице. Нам этого видно не было, матери и мне, потому что отец стоял к нам спиной. Но мы видели, как стиснулись пальцы на винтовке, которую он держал сбоку от себя.
— Не надо, Джо!
Шейн оказался рядом с отцом. Проскользнул мимо, двигаясь плавно и ровно, вниз по ступенькам и чуть в сторону и остановился возле Уилсона, по правую руку от него, не дальше чем в шести футах. Уилсон был озадачен, у него дернулась правая рука — и замерла, когда Шейн остановился и он увидел, что Шейн не вооружен.
Шейн посмотрел на него снизу вверх, и презрительный голос Шейна прозвучал, как удар бича.
— Ты разговариваешь как мужчина, потому что нацепил на себя эти блестящие железки. Сними их — и тут же съежишься, как нашкодивший мальчишка.
Дерзость этих слов на мгновение ошеломила Уилсона, и тут прозвучал голос отца:
— Шейн! Прекрати!
Мрачное выражение исчезло с Лица Уилсона. Он криво усмехнулся Шейну.
— Это уж точно, и впрямь надо, чтоб за тобой кто-то присматривал.
Крутнул своего коня и бросил его в галоп, чтобы присоединиться к Флетчеру и остальным, ожидающим на дороге.
Только тут я заметил, что мать стискивает мое плечо, да так, что просто больно. Теперь она опустилась на стул и прижала меня к себе. Нам было слышно, как отец с Шейном разговаривают на веранде.
— Он бы продырявил тебя, Джо, раньше, чем ты успел поднять винтовку и дослать патрон.
— Ну а ты, ты, дурак сумасшедший! — Отец пытался скрыть свои чувства за показным гневом. — Ты-то отвлек его на себя, так что я как раз успел бы до него добраться.
Мать вскочила на ноги. Она оттолкнула меня в сторону. Она окинула их пылающим взглядом, остановившись в дверях.
— И оба вы поступали как идиоты только потому, что он сказал какую-то гадость обо мне. Так вот, чтоб вы оба знали, — когда нужно, я умею сносить оскорбления ничуть не хуже, чем любой из вас!
Я выглянул у матери из-за спины и увидел, как они оба изумленно уставились на нее.
— Но, Мэриан, — мягко возразил отец, подходя к ней. — Какая же еще причина может быть серьезнее для мужчины?
— Да, — так же мягко сказал Шейн. — Какая еще причина?..
Он смотрел не просто на мать. Он смотрел на них обоих.
13
Не знаю, сколько еще они бы стояли там на веранде, охваченные теплыми чувствами. Но я разрушил это настроение, задав вопрос, который сперва показался мне совсем простым, и только когда я договорил, до меня дошло все его значение:
— Отец, и что ты собираешься сказать Флетчеру вечером?
Ответа не было. Да он и не нужен был. Полагаю, именно в этот момент я начал взрослеть. Я знал, что он скажет Флетчеру. Я знал, что он должен сказать. И еще я знал, что именно потому, что это мой отец, он пойдет к Графтону и скажет. И я понял, почему они больше не могут смотреть друг на друга и почему ветерок, веющий с нагретых солнцем полей, вдруг стал таким холодным и безрадостным.
Они не смотрели друг на друга. Они не сказали друг другу ни слова. Но как-то я догадался, что даже в этом молчании они были друг Другу ближе, чем когда-либо раньше. Они знали себя и друг друга, и каждый из них знал, что другой понимает ситуацию всю целиком, до конца. Они знали, что Флетчер сдал себе выигрышную карту и вовлек отца в единственную игру, от которой ему не отвертеться, потому что он не мог позволить себе уйти от такой игры. Они знали, что слова не имеют значения, когда и так все понятно. Молчание связало их крепче, чем любые слова. f
Отец сел на верхнюю ступеньку крыльца. Он вытащил трубку, чиркнул спичкой, затянулся, и глаза его застыли на горизонте, на горах далеко за рекой. Шейн взял стул, на котором я сидел, когда играл с матерью. Поставил к стене дома, опустился на сиденье знакомым машинальным движением и тоже уставился в даль. Мать вернулась на кухню и принялась убирать со стола, кажется, не особенно сознавая, что делает. Я помогал ей мыть посуду, хотя обычное удовольствие от того, что я разделяю с ней работу, исчезло, и в кухне не раздавалось ни звука, только капала вода да брякала тарелка о тарелку.
Когда мы все закончили, она вышла к отцу. Села рядом с ним на ступеньке, опершись ладонью на доску между ними, а он накрыл ее руку своей, и мгновения исчезали, расплываясь в медлительной, все укорачивающейся процессии времени.
Мне стало жутко, одиноко. Я слонялся по дому, не находя себе занятия, выходил на веранду, пробирался мимо них троих и брел к сараю. Искал там чего-нибудь, нашел старую рукоятку от лопаты и начал выстругивать из нее своим новым ножом игрушечную саблю. Я думал об этом уже несколько дней. Но теперь эта сабля сделалась какой-то неинтересной. Я построгал еще немного, а потом бросил эту палку прямо в кучку стружек на полу сарая. Все, что происходило до этого дня, казалось очень далеким, как будто из другого существования. Единственное, что имело значение, это длина теней, которые ползли по двору все дальше по мере того, как солнце опускалось все ниже на послеполуденном небе.
Я взял мотыгу, пошел на мамин огород, где земля запеклась коржами вокруг репы — она единственная была еще не убрана. Но не особенно я был настроен на работу. Меня хватило на два рядка, потом мотыга выпала у меня из рук, и я так и оставил ее там лежать. Я снова приплелся к веранде, а они все еще сидели там, точно так же как раньше.
Я сел на одну ступеньку ниже отца и матери, между ними, и, ощущая их ноги с двух сторон, как будто почувствовал себя лучше. А потом мне на голову опустилась рука отца.
— Похоже, туговато тебе, Боб, — Со мной он мог говорить, потому что я был всего лишь ребенок. А на самом деле он говорил сам с собой.
— Я пока не вижу, чем все закончится. Но вот что я вижу. Когда не станет Уилсона, наступит конец и всему делу. С Флетчером будет покончено. Горожане за этим присмотрят. Я не смогу быстрее Уилсона вытащить револьвер. Но в моем неуклюжем теле хватит силы, чтоб удержаться на ногах, пока я его тоже достану. — Мать шевельнулась, но промолчала, и его голос звучал дальше. — Дела могли сложиться и хуже. Человеку легче, когда он знает, что если с ним что случится, так его семья останется в хороших руках, получше, чем его собственные.
Позади нас раздался резкий звук. Шейн вскочил так быстро, что его стул ударился о стену. У него были крепко стиснуты кулаки, руки дрожали. Он сдерживал себя из последних сил, лицо побледнело, его всего трясло. Душевные муки доводили его до отчаяния, глаза были истерзаны мыслями, от которых он не находил избавления, все это отчетливо проступило у него на лице, но ему было безразлично, что кто-то увидит. Он рванулся к крыльцу, сбежал по ступенькам мимо нас и скрылся за углом дома.
Мать вскочила и бросилась за ним сломя голову. И вдруг остановилась возле угла, схватившись рукой за деревянную стену, тяжело дыша и не зная, на что решиться. А потом медленно пошла назад, широко расставив руки, как будто боялась упасть. Она снова опустилась на ступеньку, совсем близко к отцу, и он прижал ее к себе большой рукой.
Тишина распространялась все шире, пока не заполнила всю долину, а тени ползли через двор все дальше. Вот они коснулись дороги и слились с более глубокой тенью, которая означала, что солнце уже скрылось за горами далеко позади дома.
Мать выпрямилась и, пока она поднималась, отец встал тоже. Он взял ее за обе руки и задержал перед собой.
— Я рассчитываю на тебя, Мэриан… верю, что ты поможешь ему победить и на этот раз. Уж если кто и сумеет ему помочь, так это ты. — Он улыбнулся — странной такой, чуть печальной улыбкой, он возвышался надо мной, самый большой человек на всем белом свете. — Ты мне сейчас ужин не готовь, Мэриан. Чашка твоего кофе — вот все, что мне нужно.
Они прошли в дверь вместе.
Но где Шейн? Я поспешил к сараю. Я уже почти добежал, но тут увидел, что он снаружи, на пастбище. Он глядел поверх травы, поверх пасущихся коров на великие одинокие горы, позолоченные у вершин солнцем, садящимся у них за спиной. Я смотрел на него, а он поднял руки кверху, вытянув пальцы до самого крайнего предела, и как будто пытался ухватить все великолепие, сияющее в небесах.
Он резко повернулся и пошел прямо назад, длинными ровными шагами, с высоко поднятой головой. Теперь в нем была какая-то новая, едва уловимая, но непоколебимая уверенность. Он подошел ближе, и тогда я увидел, что лицо у него спокойное, ничем не омраченное, а в глазах пляшут крохотные искорки.
— Беги в дом. Беги, малыш. И улыбайся. Все будет хорошо. — Он прошел мимо меня, не замедлив шага, и свернул к сараю.
Но я не мог уйти в дом. И не решался шагу сделать за ним после того, как он велел мне уйти. Во мне закипало неистовое возбуждение, пока я ждал возле угла веранды, следя за дверью сарая.
Минуты уходили в прошлое, сумерки все густели, из кухонного окна упал сноп света, когда там зажгли лампу. А я стоял и ждал. Наконец он появился и быстро пошел в мою сторону, а я все смотрел и смотрел, а потом сорвался и понесся в дом, и кровь колотилась у меня в голове.
— Отец! Отец! Шейн надел револьвер!
А он был тут же, прямо за мной. Отец с матерью едва успели глаза от стола поднять, а он уже возник в дверях. Он был одет как в самый первый день, когда Он въехал верхом на своем коне в нашу жизнь, во всех этих темных поношенных изысканных вещах, начиная с черной шляпы с широкими подогнутыми полями и кончая мягкими черными сапогами. Но глаза сами прикипали к единственному светлому пятну — обращенной наружу щечке из слоновой кости на рукоятке револьвера, выделяющейся резко и отчетливо на темном фоне одежды. Тисненый пояс-патронташ лежал у него на бедрах, высоко с левой стороны, чуть ниже с правой, где его оттягивала кобура, повисшая вдоль бедра точно так, как он говорил — рукоятка револьвера находилась примерно посредине между локтем и запястьем правой руки, свободно свисающей вдоль тела и готовой к действию.
Пояс, кобура, револьвер… Это не были вещи, которые он надевал на себя или носил. Они были частью его, частью этого человека, слагаемым полной суммы слитых воедино сил, суммы, которую он собой и представлял, Шейн. Вот теперь стало видно, что в первый раз этот человек, который жил с нами вместе, который был одним из нас, стал завершенным, полным, стал самим собой, таким, каким отшлифовала его жизнь.
Теперь, когда на нем больше не было неуклюжей рабочей одежды, он снова казался тонким, почти хрупким, как в самый первый день. Но разница была не только в этом. То, что раньше казалось железом, снова стало сталью. Он был тонкий — как закаленный и отточенный клинок, как лезвие бритвы. Он стоял в дверях, тонкий и темный — и все же как-то заполнял собой весь дверной проем.
Это был не наш Шейн — и все же это был он. Я вспомнил, как Эл Хауэлз говорил, что это самый опасный человек, какого он в жизни видел. И сразу же вспомнил, как отец говорил, что более безопасного человека у нас в доме не бывало. Я понял, что оба были правы, и что вот этот человек, стоящий здесь, это и есть наконец настоящий Шейн.
Он уже находился в комнате и разговаривал с ними обоими тем добродушно-шутливым тоном, каким раньше говорил только с матерью.
— Ну, славная из вас родительская пара! Даже Боба до сих пор не покормили. Набейте ему брюхо хорошим ужином. Да и себе тоже. А мне надо уладить в городе небольшое дельце.
Отец пристально глядел на него. В его лице вспыхнула внезапная надежда — и так же быстро исчезла.
— Нет, Шейн. Ты не должен. Даже если ты думаешь, что это самое благое дело, какое мне человек может сделать. Но я тебе не позволю. Тут я сам должен встать. Флетчер затеял всю свою игру против меня. И уклониться нельзя. Это — мое дело.
— Вот в этом ты ошибаешься, Джо, — мягко сказал Шейн. — Это мое дело. Это — мое занятие. Мне казалось забавным побыть фермером. Однако ты показал мне новое значение этого слова, и я горжусь, что за это время, может быть, кое-чему научился. Но мне пришлось бы учиться еще очень долго, ибо на свете мало таких дел, с которыми не может справиться фермер.
Напряжение долгого дня сказалось на отце. Он отодвинулся от стола.
— Чёрт побери, Шейн, рассуждай разумно. Мне и так тяжело — не добавляй мне трудностей. Ты этого не можешь сделать.
Шейн подошел ближе, встал сбоку стола, посмотрел на отца.
— Смогу, и с легкостью, Джо. Я сделал это своей профессией.
— Нет. Не позволю я тебе этого. Допустим, ты уберешь Уилсона с дороги. Но это ничему не положит конец. Это только сравняет счет, и дело обернется еще хуже, чем раньше. Подумай, что это будет означать для меня. И в каком положении я останусь? Я уже не смогу ходить здесь с поднятой головой. Все будут говорить, что я струсил, — и будут правы. Ты ничего не можешь тут сделать — вот в чем загвоздка.
— Нет? — голос Шейна стал еще мягче и вежливее, но в нем появилось спокойное, несгибаемое достоинство, какого никогда не было раньше. — Ни один человек на свете не будет мне указывать, что я могу делать и чего не могу. Даже ты, Джо. Ты забываешь, что есть еще и другие способы…
Он продолжал говорить, чтобы отвлечь внимание отца. А тем временем в руке у него оказался револьвер, и, прежде чем отец шевельнуться смог, Шейн взмахнул им, быстро и резко, и ствол ударил отца по голове сбоку, чуть подальше виска, над ухом. Удар был сильный, кость тупо загудела под ним, отец сложился и упал на стол, но стол под его тяжестью наклонился, и он соскользнул на пол. Рука Шейна подхватила его снизу, не дав удариться, Шейн повернул безвольное тело отца кверху, поднял его на стул и поправил стол — а тем временем кофейные чашки тарахтели по доскам пола. Голова отца откинулась назад, Шейн подхватил ее и осторожно наклонил вперед, пока голова и широкие плечи не оперлись на стол, лицом книзу, улегшись в сложенные обмякшие руки.
Шейн выпрямился и посмотрел на мать. Она не шелохнулась с того самого момента, как он появился в дверях, даже когда отец свалился и стол у нее под руками перекинулся набок. Она смотрела на Шейна, подняв голову, шея изогнулась красивой гордой линией, глаза расширились, и в них светилась нежная теплота.
Темнота давно сомкнулась над долиной, а они все смотрели друг на друга через стол, и только лампа, слегка покачивающаяся у них над головами, освещала их, заключив в круг ровного света. Они были одни в эту минуту, которая принадлежала только им двоим. И все же, когда они заговорили, речь пошла об отце.
— Я боялся, — пробормотал Шейн, — что он все именно так воспримет. Только он и не мог думать иначе — и оставаться Джо Старретом.
— Я знаю.
— Он отдохнет немного и придет в себя — может быть, в голове пошумит немного, но в остальном он будет в полном порядке. Вы ему скажите, Мэриан. Вы ему скажите, что никакому человеку не надо стыдиться, что его одолел Шейн.
Странно было слышать это имя, когда человек говорил сам о себе. Никогда он не был ближе к хвастовству. А потом я понял, что тут не было ни малейшего намека на хвастовство. Он всего-навсего констатировал факт, простой и элементарный, как сила, которая жила в нем.
— Я знаю, — сказала она. — И мне нет нужды говорить ему. Он тоже знает. — Она поднялась, серьезная и сосредоточенная. — Но есть кое-что кроме этого, что я должна знать. Мы тут говорили всякое… слова, которые нам можно было произносить между собой, и с этим все нормально. Но я имею право знать теперь. Я тоже принимаю в этом участие. И то, что я сделаю, зависит от того, что вы скажете мне сейчас. Вы делаете это только \ ради меня?
Шейн колебался долго. Очень долго…
— Нет, Мэриан.
Его взгляд как будто расширился и охватил нас всех — мать, и неподвижную фигуру отца, и меня, съежившегося на стуле у окна, и как будто эту комнату, и дом, и всю ферму. А потом он уже смотрел только на мать, и она была единственное, что он мог видеть.
— Нет, Мэриан. Могу ли я разлучить вас хотя бы в мыслях и после этого считать себя человеком?
Он оторвал глаза от нее и посмотрел в ночную тьму за открытой дверью. Лицо его окаменело, мысли обратились к тому, что предстояло ему в городе. Так спокойно и легко, что я едва уловил его движения, он вышел наружу и исчез в темноте.
14
Ничто не смогло бы удержать меня дома в этот вечер. В мыслях у меня осталось только одно — неистовое желание бежать вслед за Шейном. Мать провожала его взглядом, а я ждал, боясь дух перевести. Дождался, пока она вернулась к отцу и наклонилась над ним, а потом выскользнул за двери, на веранду. На мгновение мне показалось, что она это заметила, но уверен я не был, а она меня не окликнула. Я тихо спустился по ступенькам, в вольную ночь.
Шейна нигде не было видно. Я остановился в самой густой тени, огляделся и наконец увидел, как он снова выходит из сарая. Луна висела низко над горами, чистый яркий полумесяц. Она давала достаточно света, чтобы ясно различать силуэт Шейна. Он нес свое седло, потом я разглядел, что к нему приторочена седельная скатка — и у меня вдруг так заболело внутри, ну прямо насквозь пронизало. Он подошел к воротам выгона, ни быстро, ни медленно, просто твердым ровным шагом. В каждом его движении была кошачья уверенность и молчаливая, беспощадная неизбежность. Я слышал, как он там, у ворот, тихонько посвистел, и его конь пришел из укрытого тенью дальнего конца пастбища, бесшумно ступая копытами по высокой траве, — темная и могучая тень, вырезанная в лунном свете, плывущая через поле прямо к человеку.
Я знал, что мне надо сделать. Я прокрался вдоль ограды кораля, держась поближе к ней, пока не выбрался на дорогу. И как только свернул за угол ограды, и сарай загородил меня от выгона, я со всех ног побежал к городу, мягко шлепая ногами по глубокой дорожной пыли. Я здесь каждый день ходил в школу, и раньше никогда дорога не казалась мне длинной. А теперь расстояние растягивалось передо мной, все удлиняясь и удлиняясь, как будто в насмешку.
Никак нельзя было допустить, чтобы он меня увидел. Я бежал и все время оглядывался через плечо. Пробежал ферму Джонсона, почти миновал участок Шипстеда и вырвался на последний открытый кусок дороги перед окраиной городка, когда наконец увидел, что он выезжает на дорогу. Я кинулся к обочине и спрятался за кустами терновника. Скорчился там, стараясь восстановить дыхание, и ждал, пока он проедет мимо. Топот копыт громыхал у меня в ушах, смешиваясь с ударами моего собственного сердца. Я воображал, что он несется бешеным галопом, и был твердо уверен, что он давно уже промчался мимо меня. Но когда я раздвинул кусты и высунулся посмотреть, он двигался умеренным шагом и был прямо напротив меня.
Он там на дороге казался высоким и жутким, он в этом мистическом полусвете маячил гигантской тенью. Он был сейчас тем человеком, которого я увидел в самый первый день, незнакомцем, темным и запретным, прокладывающим свой одинокий путь из неизвестного прошлого в абсолютном одиночестве своей собственной непреклонной и инстинктивной непокорности. Он был символом всех смутных, бесформенных образов опасности и угрозы, извлеченных воображением из неизведанного царства человеческих возможностей, которых я тогда не мог ни понять, ни представить. Угроза горела на нем, как клеймо, и даже издали ошеломляла, будто удар молнии.
Я ничего не мог поделать с собой. Я закричал, споткнулся и упал. Он соскочил с коня и оказался надо мной раньше, чем я успел подняться, и поднял меня, и его руки держали меня сильно и внушали уверенность. Я смотрел на него с испугом, чуть не плача, — но постепенно страх покидал меня. Никакой он не был незнакомец. Это просто тени обманули меня. Это был Шейн. Он слегка потряс меня и улыбнулся.
— Бобби, малыш, сейчас тебе гулять не время. Беги-ка домой и помоги матери. Я ведь сказал тебе, что все будет хорошо.
Он опустил меня на землю и медленно повернулся, глядя на далекие просторы долины, посеребренной лунным светом.
— Посмотри на эту землю, Бобби. Оставь ее у себя в памяти такой, как она сейчас. Это красивая земля, Бобби. В таком месте хорошо быть мальчиком и взрослеть душой, как положено мужчине.
Я устремил взгляд туда же, куда и он, и увидел нашу долину как будто в первый раз; во мне кипело больше чувств, чем я мог вытерпеть. У меня комок к горлу подступил, я потянулся к нему рукой — и не нашел.
Он уже снова возвышался в седле, и две тени, человека и коня, слившись в одну, двигались по дороге к желтым квадратам, которые были пятнами света, падающего из окон дома Графтона в четверти мили отсюда. Я помешкал немного, но слишком уж сильно меня туда тянуло. И я бросился следом за ним, летя сломя голову посреди дороги.
Не знаю, слышал он меня или нет, но он продолжал свой путь. На длинной веранде заведения у дверей салу* на стояли несколько человек. Рыжие волосы позволили легко узнать среди них Марлина. Люди эти внимательно следили за дорогой. Когда Шейн попал в полосу света от ближайшего большого окна — это было окно магазина — они настороженно замерли. А потом Рыжий Марли с перепуганным лицом опрометью нырнул в дверь.
Шейн остановился — не у коновязи, а у крыльца со стороны магазина. Спешившись, он не перебросил поводья через голову коня, как обычно делают ковбои. Он зацепил их за переднюю луку седла, и конь, кажется, понял, что это означает. Он стоял неподвижно у самых ступенек, подняв голову в ожидании, готовый лететь по первому зову.
Шейн прошел вдоль веранды и приостановился перед двумя людьми, которые там еще стояли.
— Где Флетчер?
Они посмотрели друг на друга, потом на Шейна. Один начал было:
— Он не желает…
Голос Шейна остановил его. Он просто хлестнул по ним, низкий, не сулящий ничего хорошего, он прямо в мозги впивался:
— Где Флетчер?
Один из них мотнул рукой к двери, и они шевельнулись, чтобы освободить ему дорогу, но его голос пой-мал их:
— Идите внутрь. Прямо к бару — и не оборачиваться!
Они вылупились на него, беспокойно поежились, поспешно повернулись оба разом и вместе протолкнулись в качающиеся двери салуна. Когда двери пошли обратно, Шейн схватился за створки, за каждую одной рукой, рванул их на себя и исчез внутри.
Торопясь и спотыкаясь, я взбежал на ступеньки и кинулся в магазин. Там оставались только Сэм Графтон и мистер Уэйр, да и они оба спешили к проходу в салун и были так взбудоражены, что даже не заметили меня. Они остановились в проходе. Я взобрался у них за спиной на испытанный наблюдательный пункт — мои ящик, с которого мне было все видно через их головы.
Большая комната была забита народом. Почти все, кого можно было обычно встретить в городе, находились там, все, кроме наших соседей — гомстедеров. Было тут и много других, новых для меня лиц. Люди выстроились локоть к локтю почти во всю длину бара. Все места за столиками были заняты, много людей расселись вдоль дальней стены. Большой круглый покерный стол в заднем конце зала между лестницей, идущей на маленький балкон, и дверью в канцелярию Графтона был уставлен стаканами и столбиками фишек. Все вокруг стояли, и было странно, что сзади за этим столом оставался свободный стул. Должно быть, кто-то только что сидел на нем, потому что перед пустым местом на столе оставались фишки, а рядом с ними лежала сигара, от которой еще поднималась струйка дыма.
Рыжий Марлин стоял позади пустого стула, привалившись к задней стене. Тут он заметил дымок и как будто слегка всполошился. Старательно делая небрежный вид, он бочком уселся на стул и подобрал сигару.
Вуаль разреженного дыма плавала слоями под потолком над всем залом, закручивалась лентами вокруг висячих ламп. Так всегда выглядел салун Графтона в разгар вечерней работы. Но сегодня что-то было не как всегда, чего-то не хватало. Шорохи, скрипы, гомон голосов, которые должны были подниматься над этой сценой, составляя неотъемлемую часть ее, — вот чего сегодня недоставало, и тишина воздействовала сильнее, чем любой звук. Внимание всех в зале, как будто они обладали единым общим разумом, было сосредоточено на темной фигуре у распашных дверей — она застыла спиной к дверцам, касаясь их.
Это был Шейн, Шейн из приключения, которое я придумал для него, хладнокровный и опытный, один против зала, полного людей, в ясном одиночестве своего собственного непобедимого совершенства.
Его глаза обыскивали комнату. Вот они задержались на человеке, сидящем за маленьким столиком в переднем углу, в низко надвинутой на лоб шляпе. И тут меня как долбануло что-то — я с изумлением понял, что это Старк Уилсон и что он изучает Шейна с озабоченной миной на лице. Глаза Шейна прошлись по залу, изучая каждое лицо. Они остановились на человеке у стены, в них мелькнуло самое начало улыбки и он едва заметно кивнул головой. Это был Крис, высокий и тощий, с рукой на перевязи, и когда он заметил кивок, то чуть-чуть покраснел и переступил с ноги на ногу. А потом распрямил плечи, и по лицу прошла медленная улыбка, теплая и приветливая, улыбка человека, который наконец понял сам себя.
Но глаза Шейна уже скользнули дальше. Вот они сузились, остановившись на Рыжем Марлине. А потом перепрыгнули к Уиллу Атки, который пытался стать совсем маленьким у себя за баром.
— Где Флетчер?
Уилл неловко комкал тряпку в руках.
— Я… я не знаю. Он был здесь совсем недавно.
Звуки собственного голоса в тишине напугали Уилла, он выронил тряпку, наклонился было за ней, но замер, ухватившись руками за внутренний край стойки, чтобы держаться ровно.
Шейн слегка поднял голову, чтобы поля шляпы не закрывали обзор. Обшарил глазами балкон, идущий вдоль задней стены. Балкон был пуст, все двери закрыты. Он двинулся вперед, не обращая внимания на посетителей у бара, и спокойно прошел мимо них вдоль всего длинного помещения. Распахнул дверь в канцелярию Графтона, шагнул внутрь, в темноту.
А тишина все держалась. Он снова возник в дверях канцелярии, глаза его повернулись к Рыжему Марлину.
— Где Флетчер?
Тишина была натянутая и невыносимая. Она должна была лопнуть. Нарушил ее звук, с которым поднялся на ноги Старк Уилсон в дальнем переднем углу. Его голос, ленивый и вызывающий, разнесся по залу.
— Где Старрет?
Слова, казалось, еще висели в воздухе, а Шейн уже двигался к передней части помещения. Но Уилсон двигался тоже. Он скользнул к распашным дверям и занял позицию чуть левее них, в нескольких футах от стены. Эта позиция позволяла ему контролировать широкий проход, тянущийся к задней стене между стойкой и столиками, проход, по которому сейчас шагал Шейн.
Шейн прошел примерно три четверти пути и остановился ярдов за пять от Уилсона. Он слегка наклонил голову, быстро покосился на балкон, а потом смотрел Уже только на Уилсона. Позиция ему не понравилась. У Уилсона за спиной была передняя стена, а он остался посреди зала, открытый со всех сторон. Шейн это понял, взвесил и принял как неизбежное.
Они стояли в проходе лицом друг к Другу, а люди, выстроившиеся вдоль стойки, теснили один другого, торопясь убраться на противоположную сторону комнаты. Уилсон всем своим видом выражал пренебрежительное высокомерие, уверенность в себе и в том, что он полностью контролирует ситуацию. Он был не из тех, кто недооценивал смертельную опасность, сосредоточенную в худощавой фигуре Шейна. Но даже теперь, я думаю, он не мог поверить, что кто-то в нашей долине согласился добровольно выступить против него.
— Где Старрет? — сказал он еще раз, все еще насмешливо копируя Шейна, но теперь уже было ясно, что это действительно вопрос.
Шейн пропустил его слова мимо ушей, как будто они и не были произнесены.
— Мне надо сказать несколько слов Флетчеру, — сказал он с мягкой интонацией. — Но это может подождать. Тут ты проталкиваешь его дела, Уилсон, так что, думаю, мне лучше сперва уладить вопрос с тобой.
Лицо Уилсона стало серьезно, глаза холодно блеснули.
— Я с тобой не ссорился, — отрезал он, — даже если ты человек Старрета. Не поднимай шума, уходи отсюда — и я тебя выпущу. Мне нужен Старрет.
— То, что тебе нужно, Уилсон, и то, что ты получишь, — это две разные вещи. Больше ты никого не убьешь. Это, считай, уже в прошлом. М-да…
Теперь Уилсон понял. Просто видно было, как до него дошло, что происходит. Этот тихий человек загонял его в угол в точности так, как он загнал Эрни Райта. Он смерил Шейна взглядом, и то, что он увидел, пришлось ему не по вкусу. Что-то промелькнуло у него в лице — не страх, но вроде как удивление, озадаченность, досада… как будто его обманули. Но через мгновение у него уже не осталось выхода — этот мягкий голос как будто пригвоздил его, и перед ним не осталось ничего, кроме неизбежного ближайшего мгновения.
— Я жду, Уилсон. Или мне силой заставить тебя расстегнуть кобуру?
Время остановилось, во всем мире не осталось ничего, кроме двух людей, глядящих в вечность, укрытую в глазах другого. И вдруг комнату сотрясла внезапная вспышка действий, почти невидимых в их неимоверной быстроте, и грохот двух револьверов слился в единый долгий непрерывный взрыв. И Шейн остался стоять, непоколебимый, как крепко укоренившийся дуб, а Уилсон закачался, правая рука беспомощно повисла, из-под рукава на кисть тонкой струйкой потекла кровь и револьвер выскользнул из немеющих пальцев.
Он попятился к стене, и горькая недоверчивая обида исказила его черты. Левая рука согнулась в локте, второй револьвер показался из кобуры — и тут же пуля Шейна ударила его в грудь, у него подогнулись колени, он начал медленно сползать по стене вниз, пока безжизненная тяжесть тела не повалила его боком на пол.
Шейн глядел через разделяющее их пространство и, уронив револьвер обратно в кобуру, как будто забыл обо всем остальном.
— Я дал ему шанс, — пробормотал он, и в голосе отозвалась глубокая, большая печаль. Но эти слова для меня не имели никакого значения, потому что я заметил на его темно-коричневой рубашке, низко, сразу над поясом, чуть сбоку от пряжки, более темное пятно, которое постепенно расширялось. Потом его заметили и другие, пронесся легкий шумок, и зал начал возвращаться к жизни.
Зазвучали голоса, но никто не успел прислушаться к ним. Их оборвал грохот выстрела в заднем конце зала. Казалось, ветер рванул рубашку Шейна на плече, и стекло в окне у него за спиной разлетелось в самом низу, у рамы.
И тогда я увидел это.
Только я один увидел. Остальные в этот момент поворачивались, чтобы посмотреть назад. А мои глаза не отрывались от Шейна, и я увидел. Я увидел, как человек двинулся, буквально весь сразу, и длилось это одно мимолетное мгновение. Я видел, как пошла вперед голова, и повернулось тело, и мощно рванулись ноги. Я видел, как ударила по кобуре ладонь и рука выхватила револьвер в одном молниеносном взмахе. Я видел, как поднялся ствол, как будто… как будто указывающий палец… и вырвалось пламя, а человек еще продолжал двигаться. А там, на балконе, Флетчер, которого пуля прошила в тот момент, когда он целился, чтобы выстрелить второй раз, покачнулся на каблуках и повалился спиной в открытую дверь позади него. Он вцепился пальцами в косяки и вытащил свое тело вперед. Он доплелся до перил и попытался поднять револьвер. Но силы уже покидали его, он повалился на перила, проломил их и рухнул вниз вместе с обломками.
Сквозь оглушительную и пустынную тишину зала прорвался голос Шейна, как будто долетевший с большого расстояния.
— Я надеюсь, на этом все кончится, — сказал он. Машинально, не глядя, он откинул в сторону барабан револьвера и перезарядил его. Пятно у него на рубашке теперь стало больше, оно расползалось веером над ремнем, но он, казалось, даже не знал этого — или не обращал внимания. Только движения у него теперь были медленные, заторможенные невыносимой усталостью. Руки оставались уверенными и твердыми, но они шевелились медленно, и револьвер упал в кобуру под собственным весом.
Он отступал, волоча ноги, назад, к распашным дверям, рока не уперся в них спиной. Свет у него в глазах был неровный, как мерцание огонька оплывшей свечи в темноте. А потом, когда он там стоял, случилось… чудо?
Ну как иначе можно назвать это изменение, происшедшее с ним? Из таинственных источников воли поплыла жизненная сила. Она прибывала как будто ползком, как прилив энергии, которая поднялась в нем, сразилась со слабостью и стряхнула ее. Она засияла у него в глазах, и они вновь стали живыми и внимательными. Она вскипела в нем, распространяя знакомую мощь, которая вздыбилась, как волна, и вновь запела в каждой трепещущей жилке его тела.
Он стоял лицом к залу, полному людей, он прочитал страницы всех этих лиц одним скользнувшим по ним взглядом, и этот его мягкий голос повелел всем им со спокойным, несгибаемым превосходством:
— А теперь я сяду на коня и уеду. И ни один из вас не поедет следом.
Он с безразличием повернулся к ним спиной, абсолютно уверенный, что они сделают так, как он сказал., Его силуэт прорезался на фоне дверей и пятна ночной тьмы над ними, прямой и величавый. А в следующее мгновение двери сомкнулись, мягко прошелестев в воздухе.
Теперь в помещении вскипела бурная деятельность. Люди столпились вокруг тела Уилсона и Флетчера, хлынули к бару, возбужденно заговорили. К выходу, впрочем, ни один из них не приближался. Возле дверей оставалось пустое пространство, как будто кто-то обвел их запретной чертой.
А мне было наплевать, что они делают и что говорят. Мне надо было бежать к Шейну. Мне надо было захватить его вовремя. Мне надо было точно знать — а сказать мне мог только он.
Я вылетел из дверей магазина как раз вовремя. Он уже сидел в седле и отъезжал от крыльца.
— Шейн, — отчаянно прошептал я, стараясь, чтобы меня не могли услышать внутри. — Ох, Шейн!
— Бобби! Бобби, мальчик! Что ты здесь делаешь?
— Я там был все время! — выпалил я. — Ты мне должен сказать. Мог этот Уилсон…
Он знал, что тревожит меня. Он всегда знал.
— Уилсон, — сказал он, — был очень быстрый. Быстрее я никого не видел.
— А мне наплевать на Уилсона, — сказал я, и у меня хлынули слезы. — Пусть хоть вообще самый быстрый на свете. Он бы никогда не смог подстрелить тебя, верно ведь? Ты бы ведь еще раньше уложил его на месте, если бы ты… если бы ты не перестал тренироваться?..
Он замялся на мгновение. Он смотрел на меня, и внутрь меня, и он все знал. Он знал, что творится у мальчишки в мозгах и что может помочь ему остаться чистым в душе, несмотря на полные мути и грязи годы взросления.
— Конечно. Конечно, Боб. Да он бы и до кобуры не успел дотронуться.
Он наклонился в седле, потянулся рукой к моей голове. Но боль хлестнула его, как бичом, рука подпрыгнула вверх, к тому месту на рубашке над поясом, сильно вдавилась в живот, и он слегка покачнулся в седле.
Мне самому стало так больно, что я вынести не мог. Я глядел на него, не говоря ни слова, а потом — я ведь был всего-навсего мальчик, ничего я не мог сделать — я отвернулся и уткнулся лицом в твердый, теплый лошадиный бок.
— Боб…
— Да, Шейн.
— Человек есть то, что он есть, Боб, из своей шкуры не выскочишь. Я попробовал — и проиграл. Но я думаю, судьба все уже решила заранее, в тот самый миг, когда я увидел веснушчатого мальчонку на заборе возле дороги и настоящего мужчину у него за спиной, человека, который сможет вырастить этого мальчонку и дать ему такой шанс в жизни, какого у других мальчишек никогда не будет.
— Но… но, Шейн, ты…
— После убийства возврата нет, Боб. Справедливое оно было или нет, но клеймо на тебе осталось, и пути назад уже нет. Теперь твоя очередь. Отправляйся домой к отцу и матери. Вырастай сильным и честным и заботься о них. О них обоих.
— Да, Шейн.
— А теперь осталось одно-единственное, что я еще могу для них сделать.
Я почувствовал, что конь двинулся от меня. Шейн смотрел на дорогу и на открытую равнину, и конь повиновался молчаливым командам поводьев. Шейн уезжал, и я знал, что никакое слово никакая мысль не смогут удержать его. Большой конь, терпеливый и сильный, уже шел тем ровным шагом, который принес его к нам в долину, и оба они, человек и конь, превратились в единый темный силуэт на дороге, как только покинули место куда падал свет из окон.
Напрягая глаза, я смотрел ему вслед, и потом сумел различить в лунном свете характерные очертания его фигуры, все уменьшающейся с расстоянием. Потерянный и одинокий, я смотрел, как он уезжает, — прочь из города, уже далеко на дороге, там, где она сворачивает на ровную местность за пределами долины. На веранде у меня за спиной были люди, но я видел лишь одну темную фигуру, которая все уменьшалась, становилась неразличимой на исчезающей вдали бесконечной дороге. Облако закрыло луну, и он растаял, я не мог уже различить его в сплошной тени, а потом облако ушло, и дорога вытянулась прямой узкой ленточкой до самого горизонта, а он исчез…
Я поплелся назад и повалился на ступеньки, спрятав голову в руках, чтобы скрыть слезы. Голоса людей вокруг были бессмысленными звуками в поблекшем и пустом мире…
Домой меня отвез мистер Уэйр.
15
Отец и мать по-прежнему сидели на кухне, почти в тех же позах, как я их оставил. Мать придвинула свой стул поближе к отцу. Он сидел ровно, с усталым и осунувшимся лицом, сбоку на голове выделялась уродливая красная отметина. Они не поднялись нам навстречу. Они сидели молча и смотрели, как мы заходим в дверь.
Они даже не пожурили меня. Мать протянула руки, привлекла меня к себе и позволила зарыться лицом в её передник — я не делал так уже года три, а то и больше. Отец просто глядел на мистера Уэйра. Он не доверял своему голосу и потому не решался заговорить первым.
— Ваши беды позади, Старрет.
Отец кивнул.
— Вы приехали сказать мне, что он убил Уилсона, прежде чем они добрались до него. Я знаю. Это ведь был Шейн.
— Уилсона, — сказал мистер Уэйр. — И Флетчера.
Отец вздрогнул.
— И Флетчера тоже?.. Черт побери, ну конечно… Уж если он берется за работу, то всегда делает все как следует. — Потом отец вздохнул и провел пальцем вдоль ссадины на голове. — Это он так дал мне понять, что с этим делом хочет управиться сам. Могу сказать вам, Уэйр, сидеть тут и ждать — это была самая тяжелая работа за всю мою жизнь.
Мистер Уэйр поглядел на ссадину.
— Я тоже так думаю. Послушайте, Старрет. Ни один человек в городе не думает, что вы остались здесь по собственной воле. И чертовски мало таких, кто не радуется, что именно Шейн вошел в салун нынче вечером.
Из меня хлынули слова.
— Ты должен был увидеть его, отец. Он был… он был… — я не сразу смог найти нужное выражение. — Он был… великолепный, отец! Уилсон даже попасть бы в него не смог, если б он тренировался все время! Шейн мне сам так сказал!
— Он тебе сказал! — Стол опрокинулся с грохотом, когда отец вскочил на ноги. Он схватил мистера Уэйра за отвороты пиджака. — Господи, приятель! Почему же вы сразу не сказали мне?! Он живой?
— Да, — сказал мистер Уэйр. — Вполне живой. Уилсон попал в него. Но еще не отлили такую пулю, чтоб смогла убить этого человека! — По лицу мистера Уэйра скользнуло какое-то изумленное, нездешнее выражение. — Временами я задумываюсь, сможет ли вообще что-то и когда-то…
Отец встряхнул его.
— Где он?
— Он уехал, — сказал мистер Уэйр. — Уехал один, никто не поехал за ним следом — он сам так захотел. Уехал из долины, а куда — никому не известно.
Отец выпустил его и уронил руки. Снова опустился на свой стул. Взял со стола трубку, и она хрустнула у него в пальцах. Он выронил обломки на пол и опустил к ним глаза. Он все еще смотрел на них, когда на крыльце послышались шаги и кто-то вошел в кухню.
Это был Крис. Правая рука его, туго перебинтованная, висела на повязке, глаза горели неестественно ярко, густой румянец заливал щеки до самых глаз. В левой руке он нес бутылку, бутылку красной вишневой содовой шипучки. Он вошел прямо в кухню и поднял стол той рукой, в которой держал бутылку. Со стуком поставил бутылку на стол — и как будто сам испугался этого шума. Он был смущен и голос временами изменял ему. Но говорил он твердо.
— Это я Бобу принес. Конечно, замена из меня вовсе никудышняя, Старрет. Но как только эта рука заживет, я буду проситься к вам на работу.
У отца скривилось лицо, губы шевельнулись, но он не произнес ни слова. За него сказала мать:
— Шейн был бы доволен, Крис.
А отец по-прежнему молчал. Крис и мистер Уэйр глядели на него, и им было ясно: что бы они ни сделали, — что бы ни сказали, это ничуть не поможет. Они повернулись и вышли вместе, быстрым широким шагом.
Мы с матерью сидели и смотрели на отца. Мы тоже ничего не могли сделать. Он сам должен был перебороть то, что его мучило. Он сидел так тихо, что, казалось, даже дыхание остановилось. Потом его охватило внезапное беспокойство, он вскочил на ноги и бесцельно зашагал по кухне. Он с ненавистью глядел на стены, как будто они душили его, а после вдруг повернулся и вылетел за двери, во двор. Мы слышали его шаги, когда он обогнул дом и направился в поле, а потом нам уже больше ничего не было слышно.
Не знаю, сколько времени мы с ней так сидели. Знаю только, что фитиль в лампе почти весь сгорел, начал брызгать искрами, потом огонек совсем угас, и темнота принесла облегчение и утешение. Наконец мать поднялась, все еще держа меня на руках, такого здоровенного парня. Меня просто поразило, откуда в ней столько силы. Она крепко прижимала меня к себе, и отнесла в мою комнату и помогла мне раздеться при тусклом лунном свете, проникающем через окно. Она меня уложила, укрыла, подоткнула одеяло, присела на край кровати и тогда, только тогда, прошептала мне:
— Ну вот, Боб. Расскажи мне, как все было. Точно так, как ты видел.
Я начал рассказывать, а когда я договорил, она только тихо пробормотала:
— Спасибо тебе.
Она выглянула в окно и пробормотала эти слова снова, и они были обращены не ко мне, а она все стояла и смотрела, и взгляд ее скользил над землей и уходил к громадным серым горам вдали…
Она, должно быть, просидела здесь всю ночь, потому что когда я проснулся, чем-то внезапно испуганный, первые лучи рассвета уже пробивались в окно, а кровать была теплая там, где она сидела. Наверное, меня и разбудило ее движение, когда она уходила. Я выбрался из постели и сунулся на кухню. Она стояла в открытых наружных дверях.
Я натянул свои одежки и на цыпочках подкрался к ней через кухню. Она взяла меня за руку, я вцепился в нее, потому что мы обязательно должны были держаться вместе и вместе пойти и разыскать отца.
Мы нашли его у кораля, в дальнем конце, который Шейн пристроил. Солнце уже начало пробиваться через ущелье в горах за рекой, это было еще не ослепительное сияние полудня, а просто свежий обновленный красноватый свет раннего утра. Руки отца были сложены на верхней жерди ограды, голова опущена на руки. Повернувшись к нам, он откинулся назад и прислонился к жерди спиной, как будто ему была нужна поддержка. Глаза у него были обведены черными кругами и смотрели слегка диковато.
— Мэриан, мне тошно видеть эту долину и все, что в ней есть. Я могу попробовать остаться на этом месте, но сердца моего уже здесь не будет. Я знаю, это тяжело скажется на тебе и на мальчике, но нам придется вытащить из земли свои заявочные столбы и двинуться. дальше. Может, в Монтану. Я слышал, в той стороне есть хорошие земли для заселения.
Мать дослушала его. Она выпустила мою ладонь и выпрямилась, такая гневная, что у нее глаза сощурились и подбородок дрожал. Но она дослушала его до конца.
— Джо! Джо Старрет! — ее голос звенел, он был так натянут, что чуть не лопался, и полон чувств посильнее гнева. — Значит, ты бежишь, бросаешь Шейна, как раз когда он по-настоящему остается здесь?
— Но, Мэриан… Ты не поняла. Он уехал.
— Он не уехал. Он здесь, на этой ферме, ферме, которую он дал нам. Он здесь, вокруг нас, он в нас самих, и так всегда будет.
Она бросилась к высокому угловому столбу, одному из тех, которые вкопал Шейн. Она начала колотить по нему руками.
— Ну, Джо! Быстро! Хватайся за него! Вытащи его!
Отец изумленно уставился на нее. Но сделал, как она сказала. Никто не смог бы отказать ей в такую минуту. Он ухватился за столб и начал его тащить. Потряс головой, уперся ногами и напряг все силы. Громадные мускулы его плеч и спины вздулись узлами и буграми, и я подумал, что эта рубашка тоже лопнет. Жерди начали потрескивать, столб едва заметно сдвинулся, по земле у основания побежали в разные стороны мелкие трещинки. Но жерди держали, и столб устоял.
Отец повернулся от него. На лице его проступили капли пота, впалые щеки порозовели.
— Смотри, Джо! Смотри — видишь, что я хотела сказать? Теперь мы уже пустили здесь корни, которые никогда не сможем оборвать.
И тогда, наконец, утро легло на лицо отца, засветилось в его глазах, окрасило кожу новым цветом, подарило ему надежду и веру…
16
Я полагаю, вот и все, что можно рассказать. Народ в городке и ребята в школе часто толкуют о Шейне, накручивают небылицы и разглагольствуют о нем напропалую. А я — никогда. Те вечера в заведении у Графтона стали легендой, обросли бессчетными подробностями, разрослись и расползлись, как сам наш городок, который вырос и расползся по берегам реки. Но меня это никогда не беспокоило, независимо от того, какими странными и нелепыми стали эти истории от постоянных пересказов. Он принадлежал мне, отцу, матери и мне, и этого ничто и никогда не могло затмить.
Потому что мать оказалась права. Он остался здесь. Он был здесь, в нашей ферме и в нас самих. Когда бы ни понадобился он мне, он всегда был здесь. Я мог закрыть глаза — и он тут же оказывался рядом со мной, я ясно видел его и снова слышал его мягкий голос.
Я вспоминал его каждую из тех минут, которые открывали его мне. Но живее всего вставал он у меня перед глазами в то короткое и яркое, как вспышка молнии, мгновение, когда он поворачивался, чтобы выстрелить во Флетчера, спрятавшегося на балконе, в салуне у Графтона. Я вновь видел мощь и изящество согласованных сил, великолепных и прекрасных в своей непостижимости. Я видел человека и оружие, слитых в неразделимое смертоносное единство. Я видел человека и инструмент, хорошего человека и хороший инструмент, делающих то, что должно быть сделано.
И всегда разум мой возвращается в конце концов к той минуте, когда я увидел его из придорожных кустов У самой окраины городка. Я снова вижу его там, высокого и жуткого в лунном свете, едущего, чтобы убить или быть убитым, и останавливающегося помочь спотыкающемуся мальчонке и поглядеть на землю, красивую землю, где этот мальчонка получил возможность провести свое детство и вырасти с прямой натурой, как подобает мужчине.
И когда я слышу, как люди в городе болтают между собой и пытаются приписать ему какое-то определенное прошлое, я спокойно улыбаюсь про себя. Со временем они пришли к заключению, сформировавшемуся из разговоров с проезжими странниками, что Шейн — это некий Шеннон, получивший известность в Арканзасе и Техасе в качестве ганфайтера и игрока, а позднее исчезнувший из виду неведомо куда, неведомо по каким причинам. Когда эта версия стала казаться неубедительной, за ней последовали другие, слепленные, в свою очередь, из обрывков сведений, подобранных среди болтовни приблудных путешественников. Но когда они болтали такую ерунду, я просто смеялся, потому что я знал, что не мог он быть ничем таким.
Он был человеком, который приехал в нашу долину из самого сердца великого сияющего Запада, и когда его дело было выполнено, уехал обратно туда, откуда появился.
И звали его — ШЕЙН.