СОВЕТСКИЙ РАССКАЗ
ТОМ ПЕРВЫЙ
О НАШЕМ РАССКАЗЕ
(Вступительная статья)
Что такое рассказ? Точный ответ найти не просто. Попытки отгородить понятие «рассказ» от понятия «новелла» или, скажем, короткая повесть оказывались бесплодными.
Ясно одно: рассказом называют короткое произведение художественной литературы. Такая формулировка не утверждает ни особое строение, ни наличие или отсутствие вымысла. Она подчеркивает главное свойство, отличающее рассказ от других литературных жанров и определяет его особые качества. Это главное свойство — краткость.
Конечно, краткость — понятие относительное, известны рассказы-притчи в несколько строк, а пространные сочинения в два, а то и в три печатных листа иногда тоже почему-то величают рассказами. Сомерсет Моэм, например, ограничил протяженность рассказа (правда, не своего, а чужого) одним часом чтения.
Судя по произведениям советской многонациональной литературы, собранным в этом двухтомнике, С. Моэм не далек от истины.
Рассказ отличается от повести или романа прежде всего психологически. Сам выбор факта, извлечение его из общего потока жизни, признание, что именно этот факт достоин быть центром повествования, предметом художественного исследования и всеобщего интереса, делает его чем-то особенным, заставляет вглядеться в него, как в лицо, выхваченное из пестрой толпы демонстрантов и укрупненное линзой трансфокатора.
Рассказ обычно имеет дело с одним, отдельным явлением. И чем отчетливей угадывается читателем место и роль этого явления в общей структуре бытия, тем талантливей и долговечней рассказ.
Это чем-то похоже на фотозагадку: с очень близкого расстояния фотографируется небольшая часть предмета и предлагается узнать, что изображено на снимке. Чтобы трудней было угадать, фотограф старается выбрать необычный, неожиданный ракурс; рассказчик же мобилизует все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы помочь читателю увидеть и понять целое.
Из этих средств для короткого рассказа наиболее существенны мелодия повествования, деталь и трактовка центрального образа.
Мелодия прозы — это не музыка и не имитация музыки, а воспроизведение средствами литературы приблизительно того же впечатления, которое мы получаем, слушая музыку.
По словам И. Бунина, прежде чем начинать писать, он должен найти звук. «Как скоро я его нашел, все остальное дается само собой». Музыкальное ощущение идеи, которое И. Бунин называл «звуком», А. Островский «тоном», О. Мандельштам «дыханием словесного строя», а К. Паустовский «ритмом прозы», во многом определяет и композицию и отбор слов в рассказе.
Внутренняя мелодия повествования обогащает в одинаковой мере и рассказ и роман. Разница, однако, в том, что роман — произведение полифоническое, — так же как опера, не может строиться на единственном мотиве. А в коротком рассказе единство мелодии, единый аккомпанемент — одно из решающих условий его цельности. В этом смысле рассказ больше похож не на оперу, а на песню.
Ю. Олеша считал, что на современного читателя наиболее сильно влияют вещи, написанные за один присест.[1] Это и понятно, — верно найденная мелодия не успевает измениться или ослабнуть в рассказе, написанном «не переводя дыхания», она настойчиво подчеркивает искренность автора, его заинтересованность предметом изображения.
Читатель гораздо более чуток к мелодическому строю прозы, чем принято думать. Такая квалифицированная читательница, как академик М. Нечкина, не без основания полагает, что по тону, принятому литератором, легче всего установить, «нужно или не нужно произведение ему самому».[2]
Краткость не оставляет рассказчику времени на раскачку. Он обязан в считанные минуты овладеть вниманием читателя, настроить его, так сказать, на свой лад.
Не менее сильнодействующим, емким и экономным выразительным средством является художественная деталь. Известно, какое значение придавал ей Чехов. И действительно, деталь как будто специально создана в помощь литераторам, сочиняющим короткие вещи.
В отличие от случайной подробности, оригинальная, меткая, свежая деталь дает возможность читателю с помощью мгновенной «цепной реакции» ассоциаций увидеть и почувствовать предмет или явление в целом, сразу, минуя последовательно-логическую цепь частностей, увидеть и почувствовать так, как видит и чувствует автор.
В рассказе «В чистом поле за проселком» Е. Носов скупо упомянул про кузнеца Захара: «…все годы провисел его портрет на колхозной Доске почета. И когда помер, не сняли. Навсегда оставили». А мы видим не только кузнеца Захара. Перед нами дружный, благодарный, трудом спаянный коллектив колхозников, умный руководитель, — может быть, из военных, — перед нами время, недалекое от тех лет, когда погибавшие за родину воины-герои навечно включались в ротные списки и с тех пор ежедневно выкликаются на поверках.
Владимиру Фоменко помогло нарисовать облик молодого пасечника, демобилизованного конника сверхсрочной службы не только упоминание о гимнастерке с целлулоидовым воротничком, но и скромная речевая деталь: «без трех пять». Так, с военной точностью, отмечает пасечник, поглядев на часы.
В рассказе «Песня» Э. Капиев описывает постройку сакли. В Дагестане бытовала древняя традиция — вешать на окнах строения куклы и амулеты, чтобы злые духи не поселились раньше хозяев. «Одна из кукол изображала красноармейца-пограничника», — коротко замечает автор. Как много говорит эта крошечная деталь о противоборстве нового и отживающего.
В надлежащем тексте иногда и простое, «серое» слово преображается в выразительную деталь. После канцелярского словечка «ранбольной», которым медицинская сестра оценивает пришедшего на прием инвалида, вряд ли нужно долго описывать казенную обстановку амбулатории («Ясным ли днем» В. Астафьева).
Естественно, что художественная деталь присутствует в любом истинном произведении искусства. Но только в рассказе она чувствует себя дома, обретает особый блеск и выразительность.
В центре сочинений, посвященных описанию судеб человеческих, заветную мысль автора обычно воплощает главный герой. Мысль эту он не обязательно декларирует (Дон-Кихот, например, не имел о ней ни малейшего представления). Чем непринужденней идея писателя воплощается в персонаж, тем произведение совершенней.
Если далеко не во всяком романе удается без труда выделить такого героя из массы действующих лиц, то в коротком рассказе каждый шаг центрального персонажа сопровождается прожектором авторского внимания.
Классический рассказ доказал, что значительные «романные» мысли по плечу и этому жанру. Майор Ковалев («Нос» Гоголя), Мымрецов («Будка» Г. Успенского), чеховские Пришибеев, человек в футляре, душечка, Ионыч, печенег, бунинский человек из Сан-Франциско, скрипач Сашка («Гамбринус» А. Куприна), Челкаш М. Горького — все эти герои коротких рассказов — живые люди и одновременно типические образы, носители полновесных идей, нарицательные имена определенных концепций существования, особых социальных максим.
Молодой советский рассказ ввел в литературу нового героя, творца революции. Вчерашние пролетарии, батраки, солдаты, опрокинувшие помещичью монархию, учились по-новому жить, по-новому думать, по-новому различать добро и зло. Они отважно руководили коммунами, командовали дивизиями и заводами, ставили спектакли, самоуком осваивали иностранные языки, готовясь к мировой революции.
Такого героя старая литература не знала.
Вступив хозяином в недоступные прежде слои, герой этот очутился в чуждой языковой сфере. Он был вынужден осваивать незнакомые слова и понятия, сплавлять трудовой язык народа с мудреной лексикой «спеца», директора, управляющего, руководителя. Видимо, здесь одна из причин «сказового взрыва», характерного для новорожденного советского рассказа («Серапионы», Вяч. Шишков).
Гораздо более важной особенностью короткой прозы того времени было настойчивое стремление оглянуться назад, в недавнее прошлое, сравнить то, что было, с тем, что стало. Иногда сюжет рассказа сплетался из двух линий: прошлое — настоящее («Поезд на юг» А. Малышкина). Иногда просто, без комментариев, описывалось обычное явление времен царской империи, вызывавшее у советского читателя удивление и отвращение («Срочный фрахт» Б. Лавренева, «Подпоручик Киже» Ю. Тынянова).
Рассказы утверждали: «Вот какой гигантский шаг мы совершили от гнета и бесправия в царство свободы. Наши силы безмерны. Наше счастье в наших руках».
В этой оптимистической уверенности особенно отчетливо проявилась преемственность, соединяющая в непрерывную цепь русский классический и советский рассказы.
В сущности, между классиками и советскими писателями временного разрыва не было. Рассказы Александра Серафимовича хвалил еще Лев Толстой. А многие молодые писатели постоянно ощущали взыскательно-ободряющий взор Максима Горького.
Цель настоящего издания — показать богатство и многообразие жанра рассказа в советской литературе, познакомить читателя с достижениями советской новеллистики. Входящие в сборник произведения принадлежат писателям разных поколений, представляющим разные национальные литературы, писателям, связанным с несхожими художественными традициями.
Александр Твардовский видел особенность русского реалистического рассказа в том, что этот рассказ отдает предпочтение изображению «обыкновенного» перед «необыкновенным». Оценивая творчество Бунина, Твардовский пишет:
«Бесспорная и непреходящая художническая заслуга Бунина прежде всего в развитии им и доведении до высокого совершенства чисто русского и получившего всемирное признание жанра рассказа или небольшой повести той свободной и необычайно емкой композиции, которая избегает строгой оконтуренности сюжетом, возникает как бы непосредственно из наблюденного художником жизненного явления или характера и чаще всего не имеет „замкнутой“ концовки, ставящей точку за полным разрешением поднятого вопроса или проблемы».
И. А. Бунин «приковывает вдруг наше внимание к тому, что как бы совершенно обычно, доступно будничному опыту нашей жизни, мимо чего мы столько раз проходили, не остановившись и не удивившись».[3]
Рассказы такого рода, по мнению Твардовского, ведут свою родословную от знаменитых «Записок охотника», созданных И. Тургеневым в середине прошлого столетия, — в годы, предшествовавшие падению крепостного права.
Однако бессюжетность и будничность предмета изображения не все считают непременной принадлежностью русского рассказа.
Одному из мастеров короткого жанра — Михаилу Зощенко — даже казалось, что «вместе с Пушкиным погибла та настоящая народная линия в русской литературе, которая была начата с таким удивительным блеском и которая (во второй половине прошлого столетия) была заменена психологической прозой, чуждой, в сущности, духу нашего народа».[4]
Оба эти категорические высказывания не столь противоположны. В них выражена одна и та же мысль: русский рассказ последнего столетия представляет собой, по преимуществу, сочинение, пренебрегающее четким сюжетом и не имеющее, так же как и сама жизнь, «замкнутой» концовки. Разница только в том, что один писатель видит в этом достижение, а другой — недостаток.
Вспомнив короткие вещи Л. Толстого, Н. Лескова, А. Куприна, А. Чехова, К. Станюковича, легко убедиться, что литература наша никогда не ограничивалась односторонним, исключительно психологическим повествованием. И первые советские писатели свободно располагались на выбранном каждым из них расстоянии между крайними точками (обыкновенное — необыкновенное, психология — острый сюжет). В двадцатые годы, кроме М. Горького, М. Шолохова и А. Серафимовича, уже работали фантаст-реалист А. Грин, остроироничный В. Катаев, героический романтик И. Бабель. Внешне бесстрастно рассказывал драматические истории М. Булгаков, раздумывал о жизни и творчестве М. Пришвин, выписывал лирические пастели К. Паустовский, оттачивал строку до холодного блеска Ю. Олеша, мудро скоморошествовал Мих. Зощенко.
Этот далеко не полный перечень показывает, каким пестрым стилистическим спектром был расцвечен молодой советский рассказ.
Самыми разными средствами писатели увековечивали человека, который не только утверждал бытие, как деяние, но и стремился раскрыть сокровенный смысл своего деяния.
Показательно в этом отношении творчество А. Платонова. С внимательной нежностью изображал он механика, землероба, машиниста локомотива, электрика, землекопа в труде, в мыслях о труде, в трудовых замыслах. Особый стиль, выработанный Платоновым, соответствовал основательному строю мышления человека труда, его неторопливой дотошности, его чувству нерасторжимого единства с родной природой, его доброму отношению к машине, как к живому существу. Раскрепощенный труд в рассказах Платонова — неутолимая природная потребность человека, и мучительно тяжелая, и бесконечно радостная, как любовь.
В истории нашего рассказа были такие периоды, когда правдивое изображение жизни подменялось литературщиной, мелодия художественного слова — ритмизованной дешевкой, уродство областного жаргона выдавалось за речевую деталь, а творец и созидатель, упрямо преодолевающий горы трудностей, заменялся лобовым «положительным героем».
Максим Горький настойчиво пытался выправить положение, однако критическая суета рапповцев, хлопотливые наставники и писательские дядьки, определявшие, о чем можно писать, а о чем нельзя, нанесли литературе большой вред.
Известно, что таланты рождаются не по плану. Вряд ли можно ожидать, что каждый год будут появляться на свет, например, по два гениальных писателя и по три поэта. Обыкновенно после относительно долгого, длящегося порой десятилетиями, бесплодья возникает вдруг целая плеяда новых интересных имен. Литераторы появляются по нескольку человек сразу — пучками, квантами.
После победного окончания Великой Отечественной войны в литературу пришла большая группа писателей. Среди тех, кто начинал с рассказов, нельзя не упомянуть Г. Николаеву, Ю. Нагибина, О. Гончара, В. Лукашевича, А. Фоменко, Д. Гранина.
Почти все они были инженерами, агрономами, врачами, военными командирами. Они своими глазами видели необыкновенные дела обыкновенного человека, своими глазами видели, как обыкновенное сплавляется с необыкновенным в золотой слиток подвига. Народ учил свою литературу бесстрашию, и учение не проходило даром.
В военные годы писатели-рассказчики заново обрели способность смело смотреть в глаза не выдуманному, а действительному факту, как бы опасно этот факт ни выглядел. Свидетели и участники испытаний, пережитых народом, поняли, что беллетристическое пустословие в такое время — кощунство. Тема стала определяться злободневным, животрепещущим фактом.
Годы войны с особой силой подтвердили ту простую истину, что никакая, самая изощренная фантазия не может сравниться с красноречием действительности.
Рассказчику стало недосуг оглядываться назад. Насущные вопросы, сегодняшние герои плотным кольцом окружали его. Рассказ становился все более современным. Читатель привыкал ощущать в его сердцевине надежную косточку жизненной правды и узнавать себя.
Черты, которые принесло в нашу литературу послевоенное поколение, явственно проступают в рассказах Валентина Овечкина. Настойчиво пробивая стену «запретных» тем, он с принципиальной, партийной отвагой вскрывал недостатки районного и областного руководства, с дотошным знанием дела изображал тяжелое положение колхозов и вместе со своими героями искал выход. Доверие к его величеству факту оказалось весьма плодотворным. Факт подсказывал сочную, неожиданную деталь, современного, принципиального героя, действующего по велению совести. Рассказы Овечкина читаются с неослабевающим интересом и теперь, когда многие недостатки, против которых он поднимал голос, ушли в прошлое. Колхозные персонажи его выражают гораздо более глубокие, чем только «производственные», проблемы. Любопытно, что некоторые вещи В. Овечкина, ориентированные на очерк, с течением времени превратились в полноценные рассказы (например, «Борзов и Мартынов»).
Несмотря на все эти благоприятные сдвиги, рассказу начала пятидесятых годов не хватало разнообразия. После того как не стало И. Ильфа, Евг. Петрова и замолк Мих. Зощенко, заметно ослабла сатирическая линия в коротком жанре. Прилежное поклонение факту иногда порождало натуралистическую ограниченность. Это грозило односторонностью. Популярный, радужно-разноцветный жанр мог превратиться в черно-белый.
Может быть, это и случилось бы, если бы во второй половине пятидесятых годов не зашумели задорные голоса нового талантливого поколения. Сколько свежих, животрепещущих тем, сколько творческого разнообразия внесло в литературу это поколение! Здесь и строго реалистический рассказ классического типа (Ф. Абрамов, Ю. Казаков, Ч. Айтматов, В. Лихоносов, В. Белов), и лирическая проза (И. Друце), и философическая миниатюра (В. Куранов), и сатира (Г. Троепольский), и рассказ-очерк (В. Солоухин), и плодотворное использование некоторых приемов западной новеллы (В. Аксенов, Э. Вилкс, А. Битов) — вплоть до «потока сознания» (вполне законный прием, который одни считают изобретением Достоевского, а другие отвергают, как продукт загнивания капиталистической культуры).
Молодая проза, продвигаясь вперед, не теряет достижений прошлого, бережно сохраняет их, осваивает и умножает.
Одним из типичных представителей молодой прозы является многогранно талантливый Василий Шукшин.
В его коротких, иногда похожих на отрывки из пьес, рассказах выражена ведущая тенденция советского рассказа последнего времени: взгляд вперед, в будущее. Лучшие рассказы В. Шукшина, персонажи этих рассказов выражают нравственные проблемы, возникающие в социалистическом обществе, проблемы, требующие решения. Прочитав рассказ В. Шукшина, наполненный живой мелодией современной русской речи, рассказ как бы недописанный, остановленный на полдороге, ощущаешь потребность думать и действовать.
Активность, действенность современного рассказа — его отличительная черта. Другая его особенность — резко индивидуальный, самобытный стиль автора. Рассказчик, как правило, принимает на себя полную ответственность за сказанное, не скрывается под маской «лирического героя», смело разговаривает с читателем от своего собственного «я». Кстати, в такой же манере стали писать и «пожилые» писатели: А. Твардовский («Печники»), А. Яшин («Угощаю рябиной») и другие.
Основные параметры современного советского рассказа определились. Когда появится грядущая волна писателей, что принесет она нового, — знать пока не дано.
СЕРГЕЙ АНТОНОВ
АЛЕКСАНДР СЕРАФИМОВИЧ
ВРАЖЬЯ ЗЕМЛЯ[5]
1
Как глянешь на двор — кажется, очень богатый человек и, видно, земли много.
Весь двор заставлен двухлемешными плугами, железными боронами, молотилкой, сеялкой, огромными арбами на железном ходу: под длинными навесами — добрые возовые быки, пар восемь, да столько же лошадей, да куры, гуси, свиньи, овцы — дом полная чаша.
Но это обман.
Сам Карп — здоровенный старик, лет шестидесяти, с крепкой сивой бородой. В плечах косая сажень, быка на колени поставит. Лицо, черное от степного солнца, ветра, пыли, будто из нефти выделано.
Под стать и четыре сына. Старший, Михайло, так же крепко сшит, как и отец, тоже быка сломит.
Второй, Осип, не ужился, ушел своей доли искать где-то на шахтах.
Двое младших еще безусые, но кулаки, как кувалды, и в работе — за троих.
Старая длинная измученная женщина — горе, нужда изрезали лицо.
Невестка, жена Михайлы, с ребятишками, все ходит беременная и все работает не покладая рук.
А живут в маленькой избушке, будто наспех сколочена, будто задержались тут ненадолго.
Оно и правду сказать: никто из них не знает, долго ли тут просидят.
Лет сорок тому назад пришел Карп из Воронежской губернии двадцатилетним парнем и с тех пор исколесил все степи от Азовского моря до Волги, все искал ласковой матки-земли, ласковой доброй кормилицы, да не находил — все была мачеха.
То без конца и краю тянулись панские десятины, то казенные, то войсковые, а то кусочка, маленького кусочка земли не находилось — до него все расхватали.
Тогда сел он на чужую землю и стал жилы из себя тянуть. Думал: набьет денег, сколотит, купит себе кусок в вечность, чтобы и детям пошло. Любил он землю, как живую, берег и лелеял, и радовался на нее.
Но земля — хитрая, всю силу забрала у человека, всего высосала, а ему умела ничего не дать. И как приходил на нее человек с голыми руками, так и уходил.
Так с Карпом. Прежде ходил с участка на участок, один, потом женился, — с женой, потом пошли дети, — целым семейством. И все труднее было, все туже, все голоднее.
Железный человек был Карп. В работе ожесточилось сердце его, возненавидел землю.
— Бедному человеку земля — враг, — говорил он.
Прежде, бывало, наткнется в лощинке на хороший кусочек и думает любовно:
«Эх, местечко хорошее. Ежели не запускать его, беречь, отдых давать, кормилица вовек бы была».
А теперь глянет злым глазом:
«Ага… подряд два раза лен снять — и к черту… Али пшеницей замучить ее…»
Так и стал делать. Высмотрит участок, снимет и дальше идет искать человека с деньгами, который пошел бы с ним в игру.
Находит.
Карпа знали за железного работника, да и сыновья у него — добрая сила рабочая. Верили ему, приведут быков, лошадей, откроют кредит на складах. Наберет там молотилок, косилок, плугов, сеялок и начинает сосать землю. Всю высосет дотла, потом бросает, как выжатый лимон, и идет искать свежую, а тот участок лежит замученный, истощенный, обобранный.
— Мне нет доли, пущай и ей не будет, — говорил Карп, злобно оглядывая напоследок бросаемый участок, из которого все выпил, — одна зола осталась.
Как степной коршун, как хищник, ходил он по степи.
А счастья все не было. То выпадет урожай, все покроет, останутся на руках деньги, сам заведет хозяйство, то обманет земля, спалит зной хлеб, и опять останется человек с голыми руками.
И опять наберет в долг, опять кредитуется на складах, опять каждую неделю приезжают к нему агенты от фирмы проверять — все ли взятые машины целы.
Вот и этот двор заполнен машинами со складу, стоят быки и лошади, на которые дал денег маленький человек с бегающими глазами, Трофим Иванович. Ему же половина урожая.
Когда косили пшеницу, Трофим Иванович глаз не спускал, все копны пересчитывал: не утаил бы Карп.
Если склад забрал бы орудия, если б Трофим Иванович угнал быков и лошадей — оказался бы пустой двор у Карпа, только бы ребятишки Михайловы бегали.
2
На току у Карпа — ад кромешный.
Гудит паровая молотилка. Потные, с красными измученными лицами бабы, завязанные по самые глаза платками, без перерыва, едва поспевая, подают в барабан охапки пшеницы. Сухой, горячий ветер треплет пропотелые бабьи рубахи, платки, выбившиеся волосы; вырывает из рук солому, несет пыль, крутя ее столбами, до самого распаленного мутного неба.
А в двадцати шагах гудит паровик. Снизу из-под колосников ветер рвет пламя и искры. Паровик ставят под ветром, и искры уносятся и гаснут в пустой степи, а то бы от скирдов ничего не осталось.
Такие же пропотелые, завязанные бабы и мужики — их человек тридцать — сносят и торопливо, ни на секунду не останавливаясь, набивают отработанной соломой раскаленную ненасытную топку. Но сколько туда ни набивают тугих бесчисленных охапок, палящее чрево все пожирает моментально, втягивая в бушующее пламя, и опять прожорливо глядит ненасытно разинутый рот.
Из трубы рвутся клубы черного дыма, и ветер крутит и несет далеко по степи, словно с пожарища.
Тяжелый, саженей на пятнадцать, ремень несется от махового колеса, тяжко колеблется по всей громадной длине до самой молотилки — так, что воздух от него гудит ураганом и крутит пожирающий пшеницу барабан.
А к барабану все тянутся скрипучие, качающиеся возы, похожие на скирды, доверху груженные скошенной пшеницей. Быки в ярмах мотают рогатыми головами, отбиваются от наседающих мух и слепней.
Ни на секунду не останавливается эта безумная напряженная работа, и когда измученные, падающие от усталости бабы уже не в состоянии двинуть рукой, их заменяют другие, а те, отойдя немного, валятся и засыпают тяжелым, мутным сном под палящим солнцем, и мухи облепляют их, как мертвых.
Оттого, что так все напряженно, ни на минуту не покладая рук, работают, из желоба с грохотом трясущейся молотилки золотой струей течет вымолоченная, отвеянная, чистая пшеница.
Бабы и парии торопливо подставляют мешки, и в них льется золотая струя. Мешок тяжелеет, тяжелеет, пока до самого верха не вырастет живая золотая грудка. Мешок оттаскивают, завязывают, а там уже новые подставляют, и несколько человек непрерывно оттаскивают измятую, оббитую от зерна солому и таскают к паровику.
— Э, — кричит Карп, — ай заснули?.. Поворачивайся!.. Ну, живее!..
Некуда живее — все рвутся из сил, да и не зазеваешься: ни на секунду не переставая, мчится, тяжко колеблясь, огромный ремень, и все, косясь, подальше обходят его — чуть заденешь одеждой, рванет, и нет руки или ноги, а то мгновенно втянет в маховик и выбросит кровавый ком вместо человека. Гудит и крутится осатанелый барабан, требуя все новой и новой подачи, и суют туда охапки задыхающиеся от жары, от густой, подымающейся над молотилкой пыли люди. И пожирает пустую солому топка, и льется, все льется золотым ручьем пшеница.
Уже стоят готовые, крепко кованные железными шинами, длинные арбы, и, ухватив пятипудовые мешки за уши, парни быстро и ловко вскидывают на них. Добрые, хорошо откормленные кони нудятся от мух, нетерпеливо стукая копытами. А маленький человечек с бегающими глазками считает и записывает в книжку мешки.
Вот уже доверху завалена тяжелыми мешками арба. Подходит Карп.
— Ну, с богом. Прямо на ссыпку. Деньги получишь, у грудях привяжи, кабы не потерять. Шкворень положи с собой, мало ли что с деньгами-то. У плотины напоишь. Ну, с богом.
Средний сын Карпа, Николай, влезает на арбу, сует под себя концы ременных вожжей и трогает. Добрые кони сразу берут тяжко вязнущую колесами в пашне арбу, дружно вывозят на дорогу и по крепкому грунту бегут рысью, плотно влегши в потные хомута.
Солнце стало сваливаться к желтеющему жнивью, но палит нещадно.
Карп постоял, проводил глазами убегающую арбу и, когда она пропала за бугром, пошел к молотилке.
И опять он везде: то с бабами отгребает отработанную солому, то носит ее к паровику, то подает в барабан пшеницу или, весь красный, мокрый от жары, набивает солому в раскаленную топку. Понукает волов, подвозящих к молотилке пшеницу, наливает сыплющимся зерном мешки, ни одного работника или работницу с глаз не спустит. Ни одной минуты нельзя упустить: сто двадцать пять рублей в день за паровую молотилку, а ведь убрать сто десятин. Да рабочих человек пятьдесят. Никто не знает, когда Карп отдыхает, когда руки опустит, когда глаз заведет — железный, что ли?
— Эй, Никифор, садись на лошадь, гони в Зуевку, сбивай рабочих, ночью будем работать, — месячно нонче и ясно, вишь, небо чистое.
Никифор, длиннорукий, с таким же почернелым, как у отца, от солнца и степного ветра лицом, постоял и сказал хриплым степным голосом:
— Кабы чего не было, батя… ночью-то молотилка много портит народу.
— Тебе говорят!.. — заревел Карп так, что на минуту заглушил гудевшую молотилку.
Парень покорно повернулся, поймал стреноженную лошадь, распутал, навалился брюхом, болтая ногами, сел и поскакал.
— Смолы да пеньки захвати! — гаркнул вдогонку старик.
— Ладно, — мотнул головой, не оборачиваясь, сын, вскидывая ногами и локтями на скачущей лошади.
Опять старик везде, где ни посмотришь. Все тот же гул барабана, частые вздохи вырывающегося из паровика пара. Несется, гудя разбегающимся воздухом, тяжко колеблющийся ремень, и застилают степь, солнце, дальнее жнивье и небо черные удушливые клубы дыма. Степная фабрика.
Стало вечереть. Длинные косые тени потянулись по степи от дольных курганов, от скирдов, от копен. Даль поголубела. Затренькали ночные кузнечики. Потянули на ночлег утки, грачи. Стало пахнуть сухой, остывающей степью, чабором, спелым, ядреным пшеничным зерном и пахучим конским навозом.
Но около молотилки все это заслонял запах гари, перегоревшего масла, набирающаяся в нос, в горло, в глаза тонкая сухая соломенная пыль, дым, сквозь который склоняющееся солнце и степь казались коричневыми, и гудение безумно несшегося ремня, и грохот барабана, и металлическое дыхание рвавшегося пара.
Люди, которых ни на минуту не отпускала от себя машина, ничего не видели, не чувствовали — ни спокойствия готовившейся ко сну степи, ни остывающего неба, ни усталого доброго солнца.
А маленький человечек все ходит, все ходит, все смотрит, все записывает мешки.
Когда высыпали звезды, показался Никифор: на двух длиннейших арбах доставил прямо с наемки рабочих. Держась за грядки, выглядывали в красных и белых платочках девки, парни в картузах, были и бородатые мужики.
Как только подъехали, Карп гаркнул на всю степь:
— Сменяйся!..
Те, что возились возле молотилки, отошли, а которые приехали, стали так же торопливо-напряженно подавать пшеницу в барабан, отгребать отработанную солому, таскать ее в топку, подставлять мешки под золотой ручей зерна, и тяжко и грозно колебался огромный ремень, со свистом гоня воздух.
В разных местах закраснелись огни под котлами, — жгли солому и кизяки.
Не было слышно ни голосов, ни смеха, ни шуток, как в давние времена; каждый устало ложился где попало, на искромсанную, изорванную солому, и засыпал, и ужина не могли дождаться.
Степь засыпала молча, печально, вся задавленная несущимся грохотом паровика и молотилки.
Взошла луна. Степь вся серебрилась и по-ночному хотела ожить, да не могла — коричневый дым съел и месяц, который порыжел, и ночную, облитую сиянием даль, которая дымно помутнела, и приехавших людей, которые смутно и неясно метались в грохоте.
К полуночи, когда месяц обошел степь и стал светить с другой стороны, небо обложилось тучами, бездождными, сухими, невидимыми, и стало черно.
— Гей, хлопцы, — крикнул Карп, — несите паклю, засвичайте!
Засветились дымно-красные факелы, и далеко по степи побежали судорожные тени. Лилось багровое пламя, и на секунду выступал черный, выбрасывающий клубы дыма паровик, несущийся ремень; то люди, торопливо подающие в барабан пшеницу, то степь открывалась далекая, молчаливая, то низкие, сухие, подернутые кровью тучи, а то вдруг и люди, и паровик, и молотилка разом тонули в черном мраке, и лишь бежали гул и грохот, и снова вспыхивало, струилось и металось пламя, и багрово мерцали тени и машины.
А маленький человечек все ходит, все считает, все записывает мешки.
Ночь течет над степью, багровая, усталая. А Карп не смыкает глаз и везде поспевает, быстро проходя у самого гудящего, обдающего ветром ремня.
Звериный крик на секунду все покрыл — и гудение ремня, и грохот барабана, и взрывы пара — и оборвался. В первый момент никто ничего не понял. Видели только, как что-то большое и черное, переворачиваясь, взлетело над маховиком и тяжко ударилось оземь.
Бросились туда. Хозяин корчился на земле, в несказанной муке вцепляясь пальцами в землю и дергая одной ногой. Другой не было. Вместо нее из паха била кровь, и земля, напитываясь все больше и больше, чернела.
— Ой, горечко! — кричали девки, сбегаясь. — Видно, ремнем захватило, вырвало ногу.
Бежали сыны, все побросав.
Остановили паровик и молотилку. Стала такая тишина, слышно, как ползут с тихим шуршанием сухие тучи.
Все сгрудились кругом раненого.
Старший сын, Михайло, тяжело опустился возле отца на колени.
— Батько, што с тобой?.. — закрутил головой и скупо, не умея, заплакал, будто волк заскулил.
Разодрал на себе рубаху и стал натуго заматывать рану, чтоб кровь остановить. Старик скрипел зубами, судорожно цапаясь за землю. Потом замолк, глаза закатились, одни белки смотрели, а лицо стало пепельно-серое.
Все теснились, жалостно глядя на него.
— Кончается…
Михайло поднялся.
— Микифор, закладывай в арбу вороных, в больницу. Соломы накладите по самый верх.
Старик дрогнул. Белки медленно и трудно повернулись, глянули потухшие глаза, и зашептали потрескавшиеся губы.
Михайло наклонился.
— А?
Грудь старика высоко поднялась, подержалась и медленно стала падать.
— Н…нне… надо… — прохрипел он. — Н… нне… надо… помру… все одно… Где вы, хлопцы, не вижу… свету пущай… хочу глянуть… сынов…
Затрещала смоленая пакля. Опять багрово задергались по степи тени, и лицо старика точно зашевелилось, а у всех стали красные лица, одежа, руки.
Сыны стали кругом на колени, и Михайло, и Никифор, и Никола.
— Помру… ну што ж… напиталась земля моим… потом… кровью… пущай последнюю… допивает…
Зубы оскалились, стал тяжело дышать.
— Простите… люди добрые… простите вы все… до меня была лютая земля, а я был… лютой до людей… простите… Сыны мои… Божие благословение… на вас… и мое родительское… Не пришлось с вами… пойдете одни… бедовать… ничего не оставил… Зараз пущайте молотилку… к вечеру завтра кончите… время не теряйте… У Трофима Ивановича шестьсот взял последний раз… меня… не трожьте… погожу до вечера… штоб свиньи только… не съели… накройте… Трофим Иванович, прости ты… не обидь детей… старухе скажи…
Да не докончил, вытянулся, замер. Принесли парус, положили, отнесли к сторонке, положили возле скирды, закрыли смотревшие белками глаза, сложили накрест холодеющие руки, сверху покрыли брезентом.
Михайло поставил караулить покойника девку Гашку.
Она заскулила:
— Боюсь я. Вишь, он там ворочается.
— Дура, все ведь тут.
Поставили парня.
Михайло, а за ним братья покрестились, а потом положили по три земных поклона. Потом Михайло поднялся, постоял, вытер глаза, прошел к паровику и сказал машинисту:
— Пару давай.
Задышал паровик. С гудением, тяжко колеблясь, бежал громадный ремень, и ветер шумел от него. Грохотал барабан, и без устали люди подавали в него пшеницу.
Пылала смоленая пакля. По степи бродили багровые тени. Когда пламя вспыхивало, выступал паровик, лившаяся в мешки золотая струя, работающие люди, скирд, а у скирда парус с неподвижными очертаниями человека.
1917
Александр Серафимович. «Вражья земля».
Художник П. Пинкисевич.
ВСЕВОЛОД ИВАНОВ
КИРГИЗ ТЕМЕРБЕЙ[6]
Темербей спал на кошме, когда прибежал сынишка и, дергая, отца за рукав кафтана, прокричал плаксиво:
— Эый, апа! Лошади нету.
Темербею спать не хотелось, но все-таки он (дабы сын не подумал: сильно, мол, отец беспокоится) повернулся на другой бок и вяло проговорил:
— Уйди! Спать хочу.
Сынишка же плаксиво продолжал рассказывать, что спутал лошадь, пустил в степь, а она порвала путы и убежала. И он тряс плетенными из конского волоса путами.
— Нету лошади, апа.
Темербей полежал, сколько ему понадобилось, затем встал, пощупал жесткие путы и, повесив их на перегородку, сказал:
— Долго воевать русские будут? Штанов нету, брюхо, как арбуз, голое, — тьфу!..
Лошадь, знал Темербей, бродила недалеко, и он решил отправиться пешком, лошадь смирная, и ее можно изловить без аркана. Он подтянул пояс, хозяйственно оглянулся, взял недоуздок и пошел в степь.
Аул Темербея маленький: семь темно-серых, похожих на грибы юрт. У прикольев, полузакрыв розовыми веками влажные глаза, дремали тонконогие жеребята. Пахло кизяком и овцами.
За прикольями — степь: жгущий ноги песок и беловатое, безоблачное и жуткое поэтому небо. День только что начинался, а жара такая же, как и вчера к вечеру, — и словно не было короткой ночи.
Темербей ходил долго, думал, откуда бы достать чаю, выбирал в уме, какого барана отвезти к казакам для мены — может, у них найдется чай. А черные зрачки в узких разрезах глаз шарили по степи — нет ли лошади. Одно время он почувствовал под пяткою в сапоге песок, он отставил кривую ногу, наклонил голову, взглянул. Как раз над пяткой у сухожилия ичиг лопнул.
— Тыу!.. — недовольно шлепнул губами Темербей.
Он сорвал пучок высохшей травы и заткнул прореху. Срывая траву, он вспомнил, что в степи засуха и что с самой весны (а вот скоро и конец лета) не было дождя. Ему стало тоскливо, и, чтобы скорее вернуться домой, он пошел быстрее.
Он исходил верст восемь, когда встреченный киргиз сказал:
— Темербей! Лошадь твою Кизмет поймал и к тебе отогнал домой.
С Кизметом Темербей давно был в ссоре, и известие такое ему не понравилось.
— Что он обо мне заботится? Сам бы нашел, — сказал Темербей, отходя от киргиза.
Знакомец хотел предложить довезти Темербея до аула, но, видя его недовольное лицо и вздернутые кверху два клочка волос на подбородке, попрощался.
— Кошь!
И слегка тронул лошадь толстой нагайкой. Лошадь весело махнула хвостом и бойко пошла иноходью.
Темербей же досадовал и на Кизмета и на знакомца, не предложившего довезти. Он, не зная зачем, пошел дальше в степь. Так он прошел с полверсты и успокоился, а как только успокоился, то почувствовал усталость.
Он поднялся на холм и лег в густые кусты карагача. От них ложилась, правда, жидкая тень и пахло смолистостью. Темербею захотелось спать. Он заложил за щеку носового табаку, попередвигал по деснам мягкий ком и скоро почувствовал приятный туман в голове.
— Что мне! — довольным голосом сказал он, сплевывая.
Потом он снял бешмет, свернул его клубочком и остался в грязной ситцевой рубахе и в штанах из овчины шерстью наружу. Он рукой выровнял песок, положил голову на бешмет и, проговорив: «Хорошо!» — уснул.
Проснулся он от конского топота и еще какого-то странного, не знакомого ему звука, словно били чайником о чайник. Темербей взглянул вниз, в лощинку.
К холму, на вершине которого в кустах карагача лежал Темербей, подъезжали одиннадцать человек. Правда, это спросонья показалось Темербею, что они подъезжали, — двое из одиннадцати шли пешком, а один был даже без шапки. В сопровождавших этих двух пеших людей Темербей узнал нескольких знакомых из поселков казаков. Он хотел выйти из кустов и поздороваться, но странный звук повторился.
— Дьрынн!.. Дьрынн!..
Качавшийся в седле казак бил шашкой по стволу ружья и подпевал:
Волга-матушка широка,
Широка и глубока…
Лицо казака — круглое, с маленькими, цвета сыромятной кожи, усиками, весело улыбалось. Ему, должно быть, доставляло удовольствие и собственное пение и звук, производимый им ударом шашки о ружье.
Разглядывая его, Темербей заметил, что все казаки с ружьями, а двое пеших без ружей, и Темербей подумал, что лучше ему не вылезать.
Люди и лошади спустились в лощинку, и казак с бородой, блестящей и чистой, как хвост у двухлетка-жеребенка, с нашитыми на плече белыми ленточками, сказал что-то по-русски, после чего все казаки спешились. Лошадей увели в степь и спутали там.
Темербей подумал, что, вероятно, хотят варить чай, и ему опять захотелось выйти из кустов, но он подумал: «Почему сразу не вылез? Трусом назовут и будут смеяться».
Он очень уважал себя — ему стало стыдно, и он остался.
Казак помоложе принес две лопаты с короткими, плосковатыми рукоятками, он стукнул их одна о другую, сбивая присохшую на концы лопат глину, после чего передал их пешим людям.
Один из пеших — высокого роста человек, без шапки, в черных штанах, спущенных на сапоги, стоял, широко расставив ноги и насупив бритое с острым носом лицо. Концы штанов были очень широки, и сапоги почти тонули в этих больших кусках сукна. На нем была коротенькая тужурка с блестящими пуговицами, как у чиновника, и на тужурке лежал выпущенный ворот рубахи. Рубаха была из белого холста, а длинный ворот падал на спину, закрывая лопатки, и ворот этот был синий с белыми каемками. Лицо у этого человека загорело тем особенным коричневым загаром, который приобретают люди, впервые приехавшие в Туркестан. Солнце, должно быть, сильно палило ему голову, и оттого он часто поводил выгоревшими, почти белыми бровями и с силой сжимал веки.
Второй был ниже своего товарища, с рыхлым сероватым лицом. Он был курнос, и его толстые губы постоянно, словно нехотя, улыбались. Одет он был так же, как и казаки: в штаны и рубаху Цвета осенней травы, на макушке головы торчала тесная фуражка с полинялой красной ленточкой у козырька.
Казак с белыми тряпочками на плечах отмерил три шага и, топнув ногой, сказал что-то по-русски. Маленький пеший человек подошел и ковырнул лопатой землю там, где топнул казак. Казак отодвинулся и еще топнул, пеший человек опять ковырнул лопатой. Второй пеший, отвернувшись от товарища, держал лопату под мышкой и, почти не моргая, глядел в степь, и непонятно было Темербею, скука или что иное было на его лице.
Остальные казаки лежали и курили, горячо о чем-то рассуждая. По обрывкам киргизской речи, вставляемой время от времени в разговор, Темербей понял, что они говорят о покосе и о том, что старики неправильно роздали делянки покосов. Один казак, заметив пристальный взгляд в степь человека без шапки, поднял кулак и погрозил ему.
Человек без шапки отвернулся и стал глядеть на своего товарища. Маленький человек уже отмерил четырехугольник, и всковыренная черная земля походила на крышку широкого и длинного ящика, брошенного среди зеленой кошмы трав лощинки.
Потом двое пеших взяли лопаты и стали рыть землю. Казаки лежали там же и спорили о покосах.
Казак с белыми тряпочками на плечах сидел в трех шагах от работавших; в руках у него была винтовка, а шапку он положил на колени. Его кирпичное с редкими усами лицо выражало скрытое удовольствие, словно он в первый раз присутствовал в гостях у какого-то большого чиновника, а с другой стороны — ему, должно быть, очень хотелось домой; надоела эта степь, горячее солнце, и хотелось тени. Он несколько раз взглядывал на кусты карагача, где лежал Темербей, но они были далеко, — шагов двадцать, двадцать пять, и ему не хотелось или нельзя было идти. И он сидел по-киргизски, поджав ноги и положив грубые и грязные пальцы рук на ложе ружья.
Двое же продолжали, низко пригибаясь к земле, рыть. Влажная черная земля с блестящими нитями корней травы отлетала и жирно шлепалась. Уже появился бугорок, а Темербей все никак не мог понять, для чего роется эта яма.
Низенький человек уронил лопату, и высокий, быстро наклонившись, подал ее ему. На курносом лице низенького промелькнуло неудовольствие, что уронил лопату, и радость от услуги.
Высокий далеко отбрасывал землю и, видимо, работал неохотно, так что казак указал ему лениво рукой, — поближе, мол, клади! И Темербей сразу узнал хорошего хозяина — действительно, зачем отбрасывать далеко, если землю понадобится засыпать, только лишняя работа. Высокий же не послушался и продолжал, словно со злостью, далеко откидывать землю. Темербею такое непослушание не понравилось. Казак ничего больше не сказал, и Темербей подумал: «Наверное, работа казенная, раз так к ней относятся».
Низенький же работал лучше. Он не спеша брал полные лопаты земли и складывал их аккуратно, иногда сверху пришлепывая, и, когда стукала лопата о землю, он улыбался толстыми губами. Скоро он вспотел и, расстегнув ворот рубахи, закатал рукава. Высокий человек скинул короткую тужурку и отбросил ее в сторону. Молодой круглолицый казак, разбудивший Темербея пением, вскочил и быстро схватил тужурку. Торопливость эта показалась непонятной и жуткой Темербею, а казак понес и показывал тужурку с таким видом, словно она стала его собственностью.
У Темербея начинала болеть голова — и от неудобного положения тела в кустарниках, и от солнца, и от непривычки думать так долго. Хотелось к тому же пить, а вылезти — страшно.
Он закрыл глаза, но с закрытыми глазами было еще хуже. Казалось, войдет сейчас в кусты казак и спросит громко:
— Ты что подсматриваешь здесь, Темербей?
Он опять стал глядеть на работу двух людей.
Низенький, должно быть, устал и, вытащив из кармана грязную тряпку, отер ею пот и, как всегда при тяжелой земляной работе, глубоко и часто дыша, поднял голову и оглянулся. Лицо его искривилось болью, глаза покраснели; высокий заметил это и сурово указал на землю: дескать, работай! Низенький перервал вздох и продолжал копать.
Казакам надоело спорить о покосах; они по одному, по двое подходили к яме и, взглянув туда, громко ругались. Темербей понимал русскую брань, и, когда казаки ругались, он думал, что они, значит, недовольны медленно двигавшейся работой. Темербею тоже стало все надоедать, и он хотел, чтобы яму скорее выкопали и ушли, чтобы он мог тоже уйти домой и в прохладной юрте, на белой мягкой кошме, прислонившись спиной к ящикам, выпить чашку чая или две кумыса, а потом пойти к соседям и рассказать им о виденном. Или нет, соседей лучше пригласить к себе.
Но уже давно, там, внутри, плескалась мысль: «А зачем они роют? Для чего? Кому?» А сейчас она поднялась, как река во время разлива, и затопила все. И только, как сучья верхушек из-под воды, одиноко прыгали и дрожали мысли об ауле, скоте, сынишке.
И ружья в руках казаков, и лопаты, царапающие землю, и человек с белыми тряпочками — все как-то сразу соединилось и крикнуло словно в лицо Темербею гнилым словом:
«Убить!..»
Сразу как-то понял это Темербей, а когда понял, стало ему страшно. Он почувствовал себя одиноким и в то же время связанным с людьми, совершающими убийство, а сказать «не хочу» — не было силы. И показалось Темербею, что он словно ест дохлятину, и даже начинала щекотать горло тошнина.
А двое «кызыл-урус», красные русские, продолжали работать.
Уже низенький ушел по пояс в землю, а так как двоим в яме работать было тесно, то человек без шапки встал на краю ямы и глядел в степь поверх холмов и кустарников. Темербею было виднее с холма, он подумал, что высокий, наверное, ждет кого-то из степи. Темербею стало жалко их, и он, в тайной надежде увидеть кого-то там, взглянул.
Никого.
Серела редкая полынь кустарника на розовом песке. Глубоко и жарко дышало цвета жидкого молока небо, и горячий воздух был почти уловим глазом.
А высокий человек все смотрел и смотрел, словно хотел улететь глазами в степь. И Темербею было боязно глядеть на его крепкое тело, на загорелое, похожее на заношенное голенище лицо.
Казак выругался, и высокий человек прыгнул в яму сменить уставшего. Рыхлый пеший, тоже взглянув в степь, отвернулся. Он присел на выброшенную землю, и лицо его, словно по принуждению, жалобно улыбнулось.
Казак с белыми тесемками на плечах крикнул по-русски. Остальные казаки, вдруг став сразу серьезными, вскочили, схватили ружья и выстроились в ряд, как жеребята у аркана приколья. И видно было, что стоять так и слушаться тусклого здесь крика старшего казака было им приятно. Они понимали, что скоро уедут, и лежать здесь на жаре им надоело.
Услышав крик и движение, работавшие выскочили из ямы, и высокий с силой отшвырнул лопату в сторону, так что она врезалась ребром в землю. Они почти одновременно взглянули друг на друга и стали на краю ямы.
«Убьют», — подумал Темербей, и ему стало стыдно знать по именам и лицам этих казаков и думать, что придется еще где-нибудь встретиться. Он, сгибая хрупкий кустарник, старался плотнее прижаться к земле. Сердце у него билось так, что казалось, стук его отдается в земле, а телу стало холодно, и голова болела, словно был самый лютый мороз.
Под руками Темербея хрустнул сучок, он весь расслаб и с открытым мокрым ртом глядел, как против двоих встали с ружьями восемь и как один самый старый встал в стороне и приготовился кричать, одергивая рубаху.
Высокий протянул руку низенькому, и тот, подержав ее, как-то нехотя опустил и отвернулся. Высокий дернул подбородком, как дергает лошадь, оправляя узду, и сделал шаг вперед. В это время старший казак закричал, и как только он закричал, восемь казаков выстрелили разом, и Темербей зажмурил глаза. Ему показалось, что выстрелили в него, и он даже ощутил большую боль в плече.
Когда он решился взглянуть, пеших уже не было, а двое казаков засыпали лопатами яму, но им надоела скоро эта работа. Они взяли лопаты и, очищая землю о подошвы сапог, подошли к лошадям и поскакали догонять уехавших в степь казаков.
Темербей долго не выходил из кустов, но вот поднялся, спустился с холма и подошел к могиле, оставляя на влажной земле следы шагов.
Убитые были почти засыпаны землей, только торчала из земли кисть руки, должно быть, человек упал на спину и вытянул кверху руку. Рука эта была белая, с желтоватым отливом, и у большого пальца на ссадине темнело пятно крови.
Темербей наклонился, чтобы хотя как-нибудь засыпать могилу, но едва он дотронулся до земли, как вспомнил эту белую руку с длинными пальцами, отскочил от могилы и почувствовал, как непослушные, вдруг вспотевшие ноги, быстро подгибаясь, понесли его в степь. Он бежал, и в то же время его всего охватывало ощущение чего-то большого, неясного, — сознание, что самое страшное начнется сейчас, что у этой могилы он похоронил прежнего, давешнего, тихого, спокойного киргиза Темербея…
1921
Всеволод Иванов. «Киргиз Темербей».
Художник П. Пинкисевич.
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ
ТРУБКА КОММУНАРА[7]
Есть много прекрасных городов — всех прекрасней Париж, в нем смеются беспечные женщины, под каштанами франты пьют рубиновые настойки, и тысячи огней роятся на зеркальном аспиде просторных площадей.
Каменщик Луи Ру родился в Париже. Он помнил «июньские дни» 1848 года. Ему тогда было семь лет, и он хотел есть. Как вороненок, он молча раскрывал рот и ждал, напрасно ждал, — у его отца Жана Ру не было хлеба. У него было только ружье, а ружье нельзя было съесть. Луи помнил летнее утро, когда отец чистил свое ружье, а мать плакала, вытирая лицо передником. Луи побежал вслед за отцом — он думал, что отец с вычищенным ружьем застрелит булочника и возьмет себе самый большой хлеб, больше Луи, хлеб — с дом. Но отец встретился с другими людьми, у которых тоже были ружья. Они начали вместе петь и кричать: «Хлеба!»
Луи ждал, что в ответ на такие чудесные песни из окон посыплются булки, рогалики, лепешки. Но вместо этого раздался сильный шум и посыпались пули. Один из людей, кричавший «Хлеба!», крикнул: «Больно!» — и упал. Тогда отец и другие люди стали делать непонятные вещи — они повалили две скамейки, притащили из соседнего двора бочонок, сломанный стол и даже большой курятник. Все это они положили посередине улицы, а сами легли на землю. Луи понял, что взрослые люди играют в прятки. Потом они стреляли из ружей, и в них тоже стреляли. А потом пришли другие люди. У них также были ружья, но они весело улыбались, на их шапках блестели красивые кокарды, и все называли их «гвардейцами». Эти люди взяли отца и повели его по бульвару Святого Мартына. Луи думал, что веселые гвардейцы накормят отца, и пошел за ними, хотя было уже поздно. На бульваре смеялись женщины, под каштанами франты пили рубиновые настойки, и тысячи людей роились на аспиде зеркального тротуара. Возле ворот Святого Мартына одна из беспечных женщин, сидевшая в кофейной, закричала гвардейцам:
— Зачем вы ведете его так далеко? Он может и здесь получить свою порцию…
Луи подбежал к смеявшейся женщине и молча, как вороненок, раскрыл свой рот. Один из гвардейцев взял ружье и снова выстрелил. Отец закричал и упал, а женщина смеялась. Луи подбежал к отцу, вцепился в его ноги, еще подскакивавшие, как будто отец лежа хотел идти, и начал визжать.
Тогда женщина сказала:
— Застрелите и щенка!..
Но франт, пивший за соседним столиком рубиновую настойку, возразил:
— Кто же тогда будет работать?
И Луи остался. За грозным июнем пришел тихий июль, больше никто не пел и никто не стрелял. Луи вырос и оправдал доверие доброго франта. Отец Жан Ру был каменщиком, и каменщиком стал Ру Луи. В широких бархатных штанах и синей блузе он строил дома, строил летом и зимой. Прекрасный Париж хотел стать еще прекрасней, и Луи был там, где прокладывались новые улицы, — площадь лучистой Звезды, широкие бульвары Османа и Малерба, обсаженные каштанами, парадный проспект Оперы со строениями, еще покрытыми лесами, куда нетерпеливые торговцы уже свозили свои диковины — меха, кружева и ценные каменья. Он строил театры и лавки, кофейни и банки, строил прекрасные дома, чтобы беспечные женщины, когда на улице дует ветер с Ла-Манша и в рабочих мансардах тело цепенеет от ноябрьских туманов, могли беспечно улыбаться, строил бары, чтобы франты не переставали в темные беззвездные ночи пить свои рубиновые настойки. Подымая тяжелые камни, он строил легчайший покров города, прекраснейшего из всех городов — Парижа.
Среди тысяч блузников был один по имени Луи Ру, в бархатных штанах, припудренных известкой, в широкой плоской шляпе, с глиняной трубкой в зубах, и, как тысячи других, он честно трудился над благолепием Второй империи.
Он строил чудесные дома, а сам днем стоял на лесах, ночью же лежал в зловонной каморке на улице Черной вдовы, в предместье Святого Антония. Каморка пахла известкой, потом, дешевым табаком, дом пах кошками и нестираным бельем, а улица Черной вдовы, как все улицы предместья Святого Антония, пахла салом жаровен, на которых торговцы жарили картошку, пресным запахом мясных с лиловыми тушами конины, селедками, отбросами выгребных ям и дымом печурок. Но ведь не за улицу Черной вдовы, а за широкие бульвары, благоухающие ландышами, мандаринами и парфюмерными сокровищами улицы Мира, за эти бульвары и за лучистую Звезду, где днем на лесах качались блузники, прозван Париж прекраснейшим из всех городов.
Луи Ру строил кофейни и бары, он носил камни для «Кофейни регентства», излюбленной шахматными игроками, для «Английской кофейни», где встречались снобы, владельцы скаковых рысаков и знатные иностранцы, для «Таверны Мадрид», собиравшей в своих стенах актеров двадцати различных театров, и для многих других достойных сооружений. Но никогда Луи Ру, со дня смерти своего отца, не подходил близко к уже достроенным кофейням и ни разу не пробовал рубиновых настоек. Когда он получал от подрядчика несколько маленьких белых монет, эти монеты брал старый кабатчик на улице Черной вдовы, вместо них он давал Луи несколько больших черных монет и наливал в бокал мутную жидкость. Луи залпом выпивал абсент и шел спать в свою каморку.
Когда же не было ни белых, ни темных монет, ни абсента, ни хлеба, ни работы, Луи, набрав в кармане щепотку табаку или отыскав на улице недокуренную сигарету, набивал свою глиняную трубку и с ней шагал по улицам предместья Святого Антония. Он не пел и не кричал «Хлеба!», как это сделал однажды его отец Жан Ру, потому что у него не было ни ружья, чтобы стрелять, ни сына, раскрывающего рот, подобно вороненку.
Луи Ру строил дома, чтобы женщины Парижа могли беспечно смеяться, но, слыша их смех, он испуганно сторонился — так смеялась однажды женщина в кофейне на бульваре Святого Мартына, когда Жан Ру лежал на мостовой, еще пытаясь лежа идти. До двадцати пяти лет Луи не видал вблизи себя молодой женщины. Когда же ему исполнилось двадцать пять лет и он переехал из одной мансарды улицы Черной вдовы в другую, с ним случилось то, что случается рано или поздно со всеми людьми. В соседней мансарде жила молодая поденщица Жюльетта. Луи встретился вечером с Жюльеттой на узкой винтовой лестнице, зашел к ней, чтобы взять спички, так как его кремень стерся и не давал огня, а зайдя — вышел лишь под утро. На следующий день Жюльетта перенесла две рубашки, чашку и щетку в мансарду Луи и стала его женой, а год спустя в тесной мансарде появился новый жилец, которого записали в мэрии Полем-Марией Ру.
Так узнал Луи женщину, но в отличие от многих других, которыми справедливо гордится прекрасный Париж, Жюльетта никогда не смеялась беспечно, хотя Луи Ру ее крепко любил, как может любить каменщик, подымающий тяжелые камни и строящий прекрасные дома. Вероятно, она никогда не смеялась потому, что жила на улице Черной вдовы, где только однажды беспечно смеялась старая прачка Мари, когда ее везли в больницу для умалишенных. Вероятно, она не смеялась еще потому, что у нее были только две рубашки, и Луи, у которого часто не было ни белых, ни темных монет, угрюмо бродивший с трубкой по улицам предместья Святого Антония, не мог ей дать хотя бы одну желтую монету на новое платье.
Весной 1869 года, когда Луи Ру было двадцать восемь лет, а сыну его Полю два года, Жюльетта взяла две рубашки, чашку и щетку и переехала в квартиру мясника, торговавшего конским мясом на улице Черной вдовы. Она оставила мужу Поля, так как мясник был человеком нервным и, любя молодых женщин, не любил детей. Луи взял сына, покачал его, чтоб он не плакал, покачал неумело, — умел подымать камни, но не детей, и пошел с трубкой в зубах по улицам предместья Святого Антония. Он крепко любил Жюльетту, но понимал, что она поступила правильно, — у мясника много желтых монет, он может даже переехать на другую улицу, и с ним Жюльетта начнет беспечно смеяться. Он вспомнил, что отец его Жан, уйдя в июньское утро с вычищенным ружьем, сказал матери Луи, которая плакала:
— Я должен идти, а ты должна меня удерживать. Петух ищет высокого шестка, корабль — открытого моря, женщина — спокойной жизни.
Вспомнив слова отца, Луи еще раз подумал, что он был прав, удерживая Жюльетту, но и Жюльетта была права, уходя от него к богатому мяснику.
Потом Луи снова строил дома и нянчил сына. Но вскоре настала война, и злые пруссаки окружили Париж. Больше никто не хотел строить домов, и леса неоконченных построек пустовали. Ядра прусских пушек, падая, разрушали многие здания прекрасного Парижа, над которыми трудились Луи Ру и другие каменщики. У Луи не было работы, не было хлеба, а трехгодовалый Поль уже умел молча раскрывать свой рот, как вороненок. Тогда Луи дали ружье. Взяв его, он не пошел петь и кричать «Хлеба!», но стал, как многие тысячи каменщиков, плотников и кузнецов, защищать прекраснейший из всех городов, Париж, от злых пруссаков. Маленького Поля приютила добрая женщина, владелица зеленной лавки, госпожа Моно. Луи Ру вместе с другими блузниками, в зимнюю стужу, босой, у форта Святого Винценсия подкатывал ядра к пушке, и пушка стреляла в злых пруссаков. Он долгие дни ничего не ел — в Париже был голод. Он отморозил себе ноги, — в зиму осады стояли невиданные холода. Прусские ядра падали на форт Святого Винценсия, и блузников становилось все меньше, но Луи Ру не покидал своего места возле маленькой пушки: он защищал Париж. И прекраснейший из городов стоил такой защиты. Несмотря на голод и стужу, роились огни бульваров Итальянского и Капуцинов, хватало рубиновых настоек для франтов и не сходила беспечная улыбка с женских лиц.
Луи Ру знал, что больше нет императора и что теперь в Париже Республика. Подкатывая ядра к пушке, он не мог задуматься над тем, что такое «республика», но блузники, приходившие из Парижа, говорили, что кофейни бульваров, как прежде, полны франтами и беспечными женщинами. Луи Ру, слушая их злое бормотание, соображал, что в Париже ничего не изменилось, что Республика находится не на улице Черной вдовы, а на широких проспектах лучистой Звезды, и что, когда каменщик отгонит пруссаков, маленький Поль будет снова открывать свой рот. Луи Ру знал это, но он не покидал своего места у пушки, и пруссаки не могли войти в город Париж.
Но в одно утро ему приказали покинуть пушку и вернуться на улицу Черной вдовы. Люди, которых звали «Республика» и которые, наверное, были франтами или беспечными женщинами, впустили злых пруссаков в прекрасный Париж. С трубкой в зубах угрюмый Луи Ру ходил по улицам предместья Святого Антония.
Пруссаки пришли и ушли, но никто не строил домов. Поль, как вороненок, раскрывал свой рот, и Луи Ру начал чистить ружье. Тогда на стенах был расклеен грозный приказ, чтобы блузники отдали свои ружья — франты и беспечные женщины, которых звали «Республика», помнили июньские дни года 48-го.
Луи Ру не хотел отдать свое ружье, а с ним вместе все блузники предместья Святого Антония и многих других предместий. Они вышли на улицы с ружьями и стреляли. Это было в теплый вечер, когда в Париже едва начиналась весна.
На следующий день Луи Ру увидел, как по улицам тянулись нарядные кареты, развалистые экипажи, фургоны и телеги. На телегах лежало всякое добро, а в каретах сидели люди, которых Луи привык видеть в кофейнях Больших бульваров или в Булонском лесу. Здесь были крохотные генералы в малиновых кепи с грозно свисающими усами, молодые женщины в широких юбках, обрамленных кружевами, обрюзгшие аббаты в фиолетовых сутанах, старые франты, блиставшие вороньими, песочными и рыжими цилиндрами, молодые офицеры, никогда не бывшие ни у форта Святого Винценсия, ни у других фортов, важные и лысые лакеи, собачки с бантиками на гладко причесанной, шелковистой шерсти и даже крикливые попугаи. Все они спешили к Версальской заставе. И когда Луи Ру вечером пошел на площадь Оперы, он увидел опустевшие кофейни, где франты не пили больше рубиновых настоек, и заколоченные магазины, возле которых уже не смеялись беспечные женщины. Люди из кварталов Елисейских полей, Оперы и Святого Жермена, раздосадованные блузниками, не хотевшими отдать своих ружей, покинули прекрасный Париж, и аспидные зеркала тротуаров, не отражая погасших огней, грустно чернели.
Луи Ру увидел, что «Республика» уехала в каретах и в фургонах. Он спросил других блузников, кто остался вместо нее, — ему ответили: «Парижская коммуна», — и Луи понял, что Парижская коммуна живет где-то недалеко от улицы Черной вдовы.
Но франты и женщины, покинувшие Париж, не хотели забыть прекраснейший из всех городов. Они не хотели отдать его каменщикам, плотникам и кузнецам. Снова ядра пушек стали разрушать дома, теперь их слали не злые пруссаки, а добрые завсегдатаи кофеен «Английская» и других. И Луи понял, что ему надо вернуться на свое старое место у форта Святого Винценсия. Но владелица зеленной лавки, госпожа Моно, была не только доброй женщиной, а и доброй католичкой. Она отказалась пустить в свой дом сына одного из безбожников, убивших епископа Парижского. Тогда Луи Ру взял трубку в зубы, а своего сына Поля на плечи и пошел к форту Святого Винценсия. Он подкатывал ядра к пушке, а Поль играл пустыми гильзами. Ночью мальчик спал в доме сторожа водокачки при форте Святого Винценсия. Сторож подарил Полю новенькую глиняную трубку, точь-в-точь такую же, какую курил Луи Ру, и кусочек мыла. Теперь Поль, когда ему надоедало слушать выстрелы и глядеть на плюющуюся ядрами пушку, мог пускать мыльные пузыри. Пузыри были разных цветов — голубые, розовые и лиловые. Они походили на шарики, которые покупали нарядным мальчикам в Тюильрийском саду франты и беспечные женщины. Правда, пузыри сына блузника жили одно мгновение, а шарики детей из квартала Елисейских полей держались целый день, крепко привязанные, но и те и другие были прекрасны, но и те и другие быстро умирали. Пуская из глиняной трубки мыльные пузыри, Поль забывал раскрывать свой рот и ждать куска хлеба. Подходя к людям, которых все называли «коммунарами» и среди которых находился Луи Ру, он важно сжимал в зубах пустую трубку, подражая своему отцу. И люди, на минуту забывая о пушке, ласково говорили Полю:
— Ты настоящий коммунар.
Но у блузников было мало пушек и мало ядер, и самих блузников было мало. А люди, покинувшие Париж и жившие теперь в бывшей резиденции королей — в Версале, подвозили каждый день новых солдат — сыновей скудоумных крестьян Франции и новые пушки, подаренные им злыми пруссаками. Они все ближе и ближе подходили к валам, окружавшим город Париж. Уже многие форты были в их руках, и больше никто не приходил на смену убитым пушкарям, вместе с Луи Ру защищавшим форт Святого Винценсия. Каменщик теперь сам подкатывал ядра, сам заряжал пушку, сам стрелял, и ему помогали только два уцелевших блузника.
В бывшей резиденции королей Франции царило веселье. Открытые наспех дощатые кофейни не могли вместить всех желавших рубиновых настоек. Аббаты в фиолетовых сутанах служили пышные молебствия. Поглаживая грозно свисающие усы, генералы весело беседовали с наезжавшими прусскими офицерами. И лысые лакеи уже возились над господскими чемоданами, готовясь к возвращению в прекраснейший из всех городов. Великолепный парк, построенный на костях двадцати тысяч работников, день и ночь копавших землю, рубивших просеки, осушавших болота, чтобы не опоздать к сроку, назначенному Королем-Солнцем, был украшен флагами в честь победы. Днем медные трубачи надували свои щеки, каменные тритоны девяти больших и сорока малых фонтанов проливали слезы лицемерия, а ночью, когда в обескровленном Париже притушенные огни не роились на аспиде площадей, сверкали среди листвы торжествующие вензеля плошек.
Лейтенант национальной армии Франсуа д'Эмоньян привез своей невесте Габриель де Бонивэ букет из нежных лилий, свидетельствовавший о благородстве и невинности его чувств. Лилии были вставлены в золотой портбукет, украшенный сапфирами и купленный в Версале у ювелира с улицы Мира, успевшего в первый день мятежа вывезти свои драгоценности. Букет был поднесен также в ознаменование победы — Франсуа д'Эмоньян приехал на день с парижского фронта. Он рассказал невесте, что инсургенты разбиты. Завтра его солдаты возьмут форт Святого Винценсия и вступят в Париж.
— Когда начнется сезон в Опере? — спросила Габриель.
После этого они предались любовному щебетанью, вполне естественному между героем-женихом, прибывшим с фронта, и невестой, вышивавшей для него атласный кисет. В минуту особой нежности, сжимая рукой участника трудного похода лиф Габриели цвета абрикоса, Франсуа сказал:
— Моя милая, ты не знаешь, до чего жестоки эти коммунары! Я в бинокль видел, как у форта Святого Винценсия маленький мальчик стреляет из пушки. И представь себе, этот крохотный Нерон уже курит трубку!..
— Но вы ведь их всех убьете, вместе с детьми, — прощебетала Габриель, и грудь ее сильнее заходила под рукой участника похода.
Франсуа д'Эмоньян знал, что он говорил. На следующее утро солдаты его полка получили приказ занять форт Святого Винценсия. Луи Ру с двумя уцелевшими блузниками стрелял в солдат. Тогда Франсуа д'Эмоньян велел выкинуть белый флаг, и Луи Ру, который слыхал о том, что белый флаг означает мир, перестал стрелять. Он подумал, что солдаты пожалели прекраснейший из городов и хотят наконец помириться с Парижской коммуной. Три блузника, улыбаясь и куря трубки, ждали солдат, а маленький Поль у которого больше не было мыла, чтобы пускать пузыри, подражая отцу, держал во рту трубку и тоже улыбался. А когда солдаты подошли вплотную к форту Святого Винценсия, Франсуа д'Эмоньян велел трем из них, лучшим стрелкам горной Савойи, убить трех мятежников. Маленького коммунара он хотел взять живьем, чтобы показать своей невесте.
Горцы Савойи умели стрелять, и, войдя наконец в форт Святого Винценсия, солдаты увидели трех людей с трубками, лежавшими возле пушки. Солдаты видали много убитых людей и не удивились. Но, увидя на пушке маленького мальчика с трубкой, они растерялись и помянули — одни святого Иисуса, другие — тысячу чертей.
— Ты откуда взялся, мерзкий клоп? — спросил один из савойцев.
— Я настоящий коммунар, — улыбаясь, ответил Поль Ру.
Солдаты хотели приколоть его штыками, но капрал сказал, что капитан Франсуа д'Эмоньян приказал доставить маленького коммунара в один из одиннадцати пунктов, куда сгоняли всех взятых в плен.
— Сколько он наших убил, этакий ангелочек! — ворчали солдаты, подталкивая Поля прикладами. А маленький Поль, который никогда не убивал, а только пускал из трубки мыльные пузыри, не понимал, отчего это люди бранят и обижают его.
Пленника-инсургента Поля Ру, которому было четыре года от роду, солдаты национальной армии повели в завоеванный Париж. Еще в северных предместьях отстреливались, погибая, блузники, а в кварталах Елисейских полей, Оперы и в новом квартале лучистой Звезды люди уже веселились. Был лучший месяц — май, цвели каштаны широких бульваров, а под ними, вкруг мраморных столиков кофеен, франты пили рубиновые настойки и женщины беспечно улыбались. Когда мимо них проводили крохотного коммунара, они кричали, чтобы им выдали его. Но капрал помнил приказ капитана и охранял Поля. Зато им отдавали других пленных — мужчин и женщин. Они плевали в них, били их изящными палочками, а утомившись, закалывали инсургентов штыком, взятым для этого у проходившего мимо солдата.
Поля Ру привели в Люксембургский сад. Там, перед дворцом, был отгорожен большой участок, куда загоняли пленных коммунаров. Поль важно ходил меж ними со своей трубкой и, желая утешить некоторых женщин, горько плакавших, говорил:
— Я умею пускать мыльные пузыри. Мой отец Луи Ру курил трубку и стрелял из пушки. Я настоящий коммунар.
Но женщины, у которых остались где-то в предместье Святого Антония дети, может быть, тоже любившие пускать пузыри, слушая Поля, еще горше плакали.
Тогда Поль сел на траву и начал думать о пузырях, какие они были красивые — голубые, розовые и лиловые. А так как он не умел долго думать и так как путь из форта Святого Винценсия до Люксембургского сада был длинным, Поль скоро уснул, не выпуская из руки своей трубки.
Пока он спал, два рысака везли по Версальскому шоссе легкое ландо. Это Франсуа д'Эмоньян вез свою невесту Габриель де Бонивэ в прекрасный Париж. И никогда Габриель де Бонивэ не была столь прекрасна, как в этот день. Тонкий овал ее лица напоминал портреты старых флорентийских мастеров. На ней было платье лимонного цвета с кружевами, сплетенными в монастыре Малин. Крохотный зонтик охранял ее матовую кожу цвета лепестков яблони от прямых лучей майского солнца. Воистину она была прекраснейшей женщиной Парижа, и, зная это, она беспечно улыбалась.
Въехав в город, Франсуа д'Эмоньян подозвал солдата своего полка и спросил его, где помещается маленький пленник из форта Святого Винценсия. Когда же влюбленные вошли в Люксембургский сад и увидели старые каштаны в цвету, плющ над фонтаном Медичи и черных дроздов, прыгавших по аллеям, сердце Габриели де Бонивэ переполнилось нежностью, и, сжимая руку жениха, она пролепетала:
— Мой милый, как прекрасно жить!..
Пленные, из числа которых каждый час кого-нибудь уводили на расстрел, встретили галуны капитана с ужасом — всякий думал, что наступил его черед. Но Франсуа д'Эмоньян не обратил на них внимания, он искал маленького коммунара. Найдя его спящим, он легким пинком его разбудил. Мальчик, проснувшись, сначала расплакался, но потом, увидев веселое лицо Габриели, непохожее на грустные лица других женщин, окружавших его, взял в рот свою трубку, улыбнулся и сказал:
— Я — настоящий коммунар.
Габриель, удовлетворенная, промолвила:
— Действительно, такой маленький!.. Я думаю, что они рождаются убийцами, надо истребить всех, даже только что родившихся…
— Теперь ты поглядела, можно его прикончить, — сказал Франсуа и подозвал солдата.
Но Габриель попросила его немного подождать. Ей хотелось продлить усладу этого легкого и беспечного дня. Она вспомнила, что гуляя однажды во время ярмарки в Булонском лесу, видела барак с подвешенными глиняными трубками; некоторые из них быстро вертелись. Молодые люди стреляли из ружей в глиняные трубки.
Хотя Габриель де Бонивэ была из хорошего дворянского рода, она любила простонародные развлечения и, вспомнив о ярмарочной забаве, попросила жениха:
— Я хочу научиться стрелять. Жена боевого офицера национальной армии должна уметь держать в руках ружье. Позволь мне попытаться попасть в трубку этого маленького палача.
Франсуа д'Эмоньян никогда не отказывал ни в чем своей невесте. Он недавно подарил ей жемчужное ожерелье, стоившее тридцать тысяч франков. Мог ли он отказать ей в этом невинном развлечении? Он взял у солдата ружье и подал его невесте.
Увидев девушку с ружьем, пленные разбежались и столпились в дальнем углу отгороженного участка. Только Поль спокойно стоял с трубкой и улыбался. Габриель хотела попасть в двигающуюся трубку, и, целясь, она сказала мальчику:
— Беги же! Я буду стрелять!..
Но Поль часто видел, как люди стреляли из ружей, и поэтому продолжал спокойно стоять на месте. Тогда Габриель в нетерпении выстрелила, и так как она стреляла впервые, вполне простителен ее промах.
— Моя милая, — сказал Франсуа д'Эмоньян, — вы гораздо лучше пронзаете сердца стрелами, нежели глиняные трубки пулями. Глядите, вы убили этого гаденыша, а трубка осталась невредимой.
Габриель де Бонивэ ничего не ответила. Глядя на небольшое красное пятнышко, она чаще задышала и, прижавшись крепче к Франсуа, предложила вернуться домой, чувствуя, что ей необходимы томные ласки жениха.
Поль Ру, живший на земле четыре года и больше всего на свете любивший пускать из глиняной трубки мыльные пузыри, лежал неподвижный.
Недавно я встретился в Брюсселе со старым коммунаром Пьером Лотреком. Я подружился с ним, и одинокий старик подарил мне свое единственное достояние — глиняную трубку, из которой пятьдесят лет тому назад маленький Поль Ру пускал мыльные пузыри. В майский день, когда четырехлетний инсургент был убит Габриелью де Бонивэ, Пьер Лотрек находился в загоне Люксембургского сада. Почти всех из числа бывших там версальцы расстреляли. Пьер Лотрек уцелел потому, что какие-то франты сообразили, что прекрасному Парижу, который захочет стать еще прекрасней, понадобятся каменщики, плотники и кузнецы. Пьер Лотрек был сослан на пять лет, он бежал из Кайенны в Бельгию и через все мытарства пронес трубку, подобранную у трупа Поля Ру. Он дал ее мне и рассказал все, написанное мною.
Я часто прикасаюсь к ней сухими от злобы губами. В ней след дыхания нежного и еще невинного, может быть, след лопнувших давно мыльных пузырей. Но эта игрушка маленького Поля Ру, убитого прекраснейшей из женщин, Габриелью де Бонивэ, прекраснейшего из городов, Парижа, говорит мне о великой ненависти. Припадая к ней, я молюсь об одном — увидев белый флаг, не опустить ружья, как это сделал бедный Луи Ру, и ради всей радости жизни не предать форта Святого Винценсия, на котором еще держатся три блузника и пускающий мыльные пузыри младенец.
1922
ВЯЧЕСЛАВ ШИШКОВ
СПЕКТАКЛЬ В СЕЛЕ ОГРЫЗОВЕ[8]
Посвящается
Льву Рудольфовичу
Военная страда окончена, и красноармеец Павел Мохов опять в родном своем селе Огрызове.
Была весенняя пора, все цвело и зеленело, целыми днями тюрликали в выси жаворонки, а по ночам пели соловьи. Навозница кончилась, до сенокоса еще далече, крестьяне отдыхали, справлялись солнечные праздники: Никола-вешний, троица, духов день — с молебнами, трезвоном колоколов, крестными ходами, бесшабашной гульбой и мордобоем.
— Вот черти! Живут, как самая отсталая национальность, — возмущался Павел Мохов. — Ежели с птичьего полета поглядеть, то революции-то здесь и не ночевало никакой. Позор!
И, не долго думая, образовал театральный кружок-ячейку.
Народ ничего не понимал, в члены записывались очень мало. А когда дьячок пустил для озорства слух, что записавшимся будут селедки выдавать, в ячейку привалило все село — даже древние старцы и старухи.
Председатель Павел Мохов рассмеялся и колченогой старушонке Секлетинье задал такой вопрос:
— Хорошо, я тебя, бабушка, зарегистрирую. Вот тебе роль, играй первую любовницу. Можешь?
— Играй сам, толсторожий дурак, — зашамкала бабка, приседая на кривую ногу. — Подай мои селедки, что по закону причитается!.. Три штуки.
Вообще было много хлопот с кружком. Потом наладилось. Через неделю разыграли в школе веселый фарс, крестьяне хохотали, просили еще сыграть, сулили платить яйцами, молоком, сметаной.
Только вот беда: не было пьес. Написали в уездный город. Выслали «Юлия Цезаря». Когда подсчитали действующих лиц — сорок человек, — без малого все село должно играть, а кто же смотреть-то будет?
Тогда Павел Мохов и другой красноармеец, Степочкин, решили состряпать пьесу самолично. Долго ли? Раз плюнуть! На подмогу был приглашен новоиспеченный учитель Митрий Митрич, из бывших духовных портных.
Все трое, чтобы никто не мешал, после обеда заперлись в прокопченной бане, захватив с собой четверть самогону. К утру пьеса была окончена. В сущности, сочинял-то Мохов, а те двое — так себе. Осунувшаяся, словно после изнурительной болезни, вся троица вылезла на воздух и, пошатываясь, поплелась в великой радости. Лица у всех были в саже.
— Любящая мамаша, — обратился Павел к своей матери совсем по-благородному, — угостите автора чайком. Я теперь автор, сочинил сильно действующую трагедию под заглавием: «Удар пролетарской революции, или Несчастная невеста Аннушка». Пьеса со стрельбой… Поплачете и посмеетесь.
Красотка Таня ни за что не хотела участвовать в спектакле. Очень надо! Павел Мохов ей даже совсем не нравится. Пусть Павел Мохов много-то, пожалуйста, и не воображает о себе. Но Павел Мохов всячески охаживал Таню со всех сторон. Нет, не поддается.
Ну, ладно! Вот что-то она скажет, когда его пьесу поглядит.
Репетиция шла за репетицией. Пьеса подверглась коренной переработке и получила новое название: «Безвинная смерть Аннушки, или Буржуй в бутылке».
Всю последнюю неделю село жило под знаком «безвинной смерти Аннушки»: девицы воровали у родителей холсты для декораций, парни — конопляное масло для малярных работ, кузнец Филат украл в совхозе белил и красок.
Неутомимый Павел изготовлял огромную, склеенную из двадцати листов, плакат-афишу: он раскинул ее на полу в своей избе и целый день, пыхтя, ползал на брюхе, печатал всеми красками, подчеркивал.
Особенно кудряво было выведено: «Сочинил коллективный автор Павел Терентьевич Мохов, красный пулеметчик». Потом следовало предостережение; «Потому что в трагедии произойдет стрельба холостыми зарядами, то прошу в передних рядах, так и в самых задних рядах никаких паник не подымать в упреждение ходынки». И в конце: «Начало в шесть часов по старому стилю, а по новому стилю на три часа вперед. С почтением автор Мохов». И еще три отдельных плаката: «Прошу на пол не харкать». «Во время действия посторонних разговоров прошу не позволять». «В антрактах матерно прошу не выражаться».
В конце каждого плаката было: «С почтением автор Мохов».
После генеральной репетиции Мохов сказал:
— Успех обеспечен, товарищи! Будет сногсшибательно.
Мимо Таниной избы прошел подбоченившись и лихо заломив с красной звездой картуз.
А на другой день уехал в город, чтоб пригласить члена уездного политпросвета на показательный спектакль.
В день спектакля публика густо стала подходить из ближних деревень в село Огрызово. С любопытством рассматривали плакат-афишу, укрепленную на воротах школы.
В школе едва-едва могло уместиться двести человек, народу же набралось с полтысячи. Спозаранку, часов с трех, зал был набит битком. Публика плевала на пол, выражалась, плакат же «Прошу не курить, с почтением автор Мохов» был сорван и пошел на козьи ножки. В комнате от табачного дыма сизо. День был знойный, душный. С беременной теткой Матреной случился родимчик: заайкала, — и ее унесли…
В пять часов Павел Мохов стал наводить порядки. Весь мокрый, он стоял вместе с милицейским на крыльце и осаживал напиравший народ.
— Нельзя, товарищи, нельзя! Выше комплекта, — взволнованно кричал он. — Ведь ежели б стены были резиновые, можно раздаться, но они, к великому сожалению, деревянные.
— Допусти, Паша!.. Ну не будь сукиным сыном, допусти. Мы где ни то с краешку… На яичек… На маслица.
— В антрахту залезем, братцы, не горюй, — утешались не попавшие на зрелище крестьяне, — всех за шиворот повыдергаем! Не век же им смотреть! Половину они посмотрят, а другую половину мы.
Около шести часов прибыл со станции представитель уездного политпросвета, светловолосый красивый юноша, товарищ Васютин. Павел Мохов был крайне удивлен: ведь обещался приехать бородатый, а тут — здравствуйте пожалуйста! Однако Павел дисциплину понимает тонко: рассыпался в любезностях, провел его в свою избу, сдал на попеченье матери, а сам — скорей в школу и подал первый звонок. Публика отхаркнулась, высморкалась, смолкла и приготовилась смотреть.
Товарищ Васютин отмывал дорожную пыль, прихорашивался перед зеркалом, прыскал себя духами. Мать Павла усердно помогала ему переодеваться. Она очень удивилась, что гость без креста и натягивает белые штаны.
Франтом, с тросточкой, попыхивая сигареткой, краснощекий товарищ Васютин проследовал на спектакль. В кармане его щегольского пиджака лежали две ватрушки, засунутые матерью Павла.
— Промнешься, соколик, дак пожуешь.
Второй звонок подавать медлили.
В артистической комнате содом. Павел Мохов рвал и метал. Доставалось молодому кузнецу Филату. Филат должен, между прочим, изображать за сценой крики птиц, животных и плач ребенка — все это Павел ввел «для натуральности». На репетиции выходило бесподобно, а вот вчера кузнец приналег после бани на ледяной квас и охрип, — получается черт знает что: петух мычит коровой, а ребенок плачет так, что испугается медведь.
— Тьфу!.. Фефела… — выразительно плюнул Павел и, стрельнув живыми глазами, крикнул: — А где же суфлер? Живо за суфлером! Ну!
Меж тем стрелка подходила к семи часам. То здесь, то там подымались девушки, с любопытством оглядывая городского франта.
— Ну и пригожий… Ах, патретик городской…
Таня два раза мимо проплыла, наконец насмелилась:
— Здравствуйте, товарищ! — И протянула ему влажную от пота руку. Очень высокая и полная, она в белом платье, в белых туфлях и чулках.
— Пойдемте, барышня, освежимся! — И Васютин взял ее под руку. Рука у Тани горячая, мясистая.
Девушки завздыхали, завозились, парни стали крякать и подкашливать, кто-то даже свистнул.
Милицейский и шустрый паренек Офимьюшкин Ванятка тем временем разыскивали по всему селу суфлера Федотыча.
— Ужасти в нашем месте скука какая. Одна необразованность, — вздыхала Таня, помахивая веером на себя и на кавалера.
— А вы что же, в городе жили?
— Так точно. В Ярославле. У одной барыни паршивой служила по глупости, у буржуазки. Теперь я буржуев презираю. Подруг хороших здесь тоже нет. Например, все девушки наши боятся гражданских браков. А вы, товарищ, женились когда-нибудь гражданским браком? — И полные малиновые губы Тани чуть раздвинулись в улыбку.
— Как вам сказать? И да, и нет… Случалось, — весело засмеялся Васютин, и рука его не стерпела: — Этакая вы пышка, Танечка…
— Ах, право… мне стыдно. Какой вы, право, комплиментщик!
Гость и Таня торопливо шли по огороду вдоль цветущих гряд.
Вечер был удивительно тих. Солнце садилось. Кругом ни души, только кошка играла с котятами под березкой. Сквозь маленькое оконце овина, рассекая теплый полумрак, тянулся сноп света. Он золотил пучки сложенной в углу соломы.
В овине пахло хлебной пылью, мышами и гнездами ласточек.
— Товарищи! — появился перед занавесом Павел Мохов. — Внимание, внимание! По независимым от публики обстоятельствам товарищи, наш суфлер неизвестно где… Так что его невозможно, сволочь такую, отыскать… То спектакль, товарищи, начнется по новому стилю!
А ему навстречу:
— По-новому так по-новому!.. Начинай скорее, Пашка!.. Другие не жравши с утра сидят… Животы подвело!
И еще кричали:
— Это мошенство! Подавай творог! Подавай яйца назад!
Но Павел не слышал. Обложив милицейского и Офимьюшкина Ванятку, что не могли найти суфлера, он самолично помчался отыскивать его.
Суфлер — старый солдат Федотыч, двоюродный дядя Павла Мохова. Он хороший чтец по покойникам и большой любитель в пьяном виде подраться: все передние зубы у него выбиты. Но, несмотря на это, он суфлер отменный и находчивый: чуть оплошай актер, он сам начинает выкрикивать нужные слова, ловко подделывая голос.
Павел подбежал к его избе. Так и есть — замок. Он к соседям, он в сарай, он в баню…
И весь яростно затрясся: Федотыч лежал на спине и, высоко задрав ноги, хвостал их веником, голова его густо намылена, он был похож на жирную, в белом чепчике, старуху.
— Зарезал ты меня! Зарезал!.. — затопал, завизжал Павел Мохов.
Веник жарко жихал и шелестел, как шелк.
— Павлуха, ты? Скидавай скорей портки да рубаху! Жару много, брат!..
— Спектакль! Старый идиот! Спектакль ведь!
— Какой спектакль? Ты чего мелешь-то? У нас какой день-то седни? — и вдруг вскочил. — Ах-ах-ах-ах…
— Запарился?
Федотыч нырнул головой в рубаху.
— Башку-то ополосни! В мыле.
Задорно прогремел звонок. Сцена открылась, и вместе с нею открылись все до единого рты зрителей. На сцену вышла высоченная, жирная попадья.
Ни одна девушка не пожелала играть старуху. Взялся кузнец Филат. Лицо у него длинное, как у коня. На голову он взгромоздил шляпищу: впереди сидит, растопырив крылья, ворона, кругом — непролазные кусты цветов; на носу же самодельные очки, как колеса от телеги. Он очень высок и тощ, но там, где нужно, он столько натолкал сдобы, что капот супруги местного торговца, женщины очень низенькой, трещал по швам и едва хватал Филату до колен; из-под оборок торчали сухие, в обмотках, ноги, которыми очень грациозно, впереплет и с вывертом, переступал Филат.
— Африканская свиньища на ходулях, — шепнул товарищ Васютин Тане, жарко дышавшей ему в лицо.
Попадья, виляя задом, мелко засеменила к шкапу, достала четверть и, одну за другой, выпила три рюмки.
— Вот так хлещет! — завистливо кто-то крикнул в задних рядах.
— Угости-ка нас…
— Мамаша! Мамаша! — выскочила в белом переднике ее дочь Аннушка. — Как вам не стыдно жрать водку?!
Та откашлялась и сказала сиплым басом:
— Дитя мое, тебе нет никакого дела, что касаемо поведения своей собственной матери.
В публике послышались смешки: вот так благородная госпожа, вот так голосочек… А Павел Мохов за кулисами, оглушенный басом попадьи, заткнул уши и весь от злости позеленел.
— Ах, так? — звонко возразила Аннушка. — Нынче, мамаша, равноправие. Я из вашего кутейницкого класса уйду в пролетариат… Я — коммунистка. Знайте!
— Чего, что?.. Коммунистка?! А жених? Такой благородный человек… Я тебе дам коммунистку! — загремела, как из пушки, попадья и забегала по сцене; ворона и кусты тряслись…
Павел Мохов тоже с места на место перебегал за кулисами и желчно, через щели, шипел Филату:
— Что ты, харя, таким быком ревешь. Тоньше, тоньше!.. Ведь ты женщина.
Этот злобный окрик сразу сбил Филата: слова пьесы выскочили из его памяти, и что подавал суфлер, летело мимо ушей, в пространство.
Растерялась и Аннушка.
— Уйду, уйду, — повизгивала она, и глаза ее, как магнит в железо, впились в беззубый рот суфлера Федотыча.
Попадья крякнула для прочистки глотки и, едва поймав реплику суфлера, еще пуще ухнула раскатистой октавой:
— Стыдись, о дочь моя! Ничтожество — твое имя!
— Позор, позор! Паршивый черт!.. — громко зашумел из-за кулис сквозь щель Павел Мохов. — Я тебе в морду дам!
— Позор, позор! — всплеснула руками Аннушка и вся в слезах шмыгнула за кулисы.
— Позор! Паршивый черт! Я тебе в морду дам! — загремела и попадья-Филат, полагая, что эти слова подсказаны ему суфлером.
Тогда Федотыч грохнул в своей будке кулаком, презрительно плюнул.
— Тоже ахтеры называются!..
И вдруг, к удивлению публики, невидимкой зазвучал со сцены его пискливый женский голос:
— О дочь моя… Я тебя великодушно прощаю, — фистулой выговаривал Федотыч. — Иди ко мне, я прижму тебя к своей собственной груди. Вот так, господь тебя благословит, — и сердито зашипел: — Где Аннушка? Аннушку сюда, черти!..
Аннушку выбросили из-за кулис на кулаках. Семеня ногами и горестно восклицая:
— Я ж говорю вам, что не знаю роли… Я сбилась, сбилась… — Она подбежала к попадье, которая безмолвно стояла ступой, обхватив живот.
— Благословляй, дьявол! — треснул в пол кулаком суфлер.
— Господь тебя благослови! — как протодьякон, пробасила попадья.
Павел Мохов метался за кулисами.
— Занавес!.. К черту Филата!.. Ах, дьяволы. Погубили пьесу. Снова!
Но положенье спас буржуй-жених. Он роль знал на зубок, на сцену вышел игриво; попадья и Аннушка вновь овладели собой; Федотыч суфлировал на весь зал, как сто гусей, и на радостях суетливо глотал самогонку: из суфлерской будки несло сивухой.
Потом вошел маленький бородатый священник в рясе и скуфье набекрень, отец Аннушки.
— Поп, поп! — весело зашумели в зале. — Глянь-ка, братцы! Кутью продергивают.
Несчастную Аннушку стали пропивать: жених с попом устраивают кутеж, гармошка, плясы, попадья вприсядку чешет трепака, подушки с груди переползают на живот. Аннушка плачет. Зрителям любо: ай-люли; хлопают в ладоши — «биц-биц-биц!». Аннушка не любит жениха, плачет пуще. Но вот врывается в кожаной куртке рабочий-коммунист:
— Я спасу тебя!
— Милый, милый! — бросается ему на шею Аннушка.
Жених лезет драться, но коммунист выхватывает револьвер:
— Она моя! Смерть буржуям!.. К стенке!
Поп с женихом в страхе ползут под кровать. Занавес. Хлопки. Восторженные крики: «Биц-биц-биц!»
Перерыв длился полтора часа. Стемнело. Зажгли две керосиновые коптилки. Мрак наполовину поседел.
У актеров — как в сумасшедшем доме: кто плачет, кто смеется, кто зубрит роль.
— Глотай сырьем, — лечит Федотыч голос кузнеца. — Видишь, у тебя кадык завалило.
Кузнец яйцо за яйцом вынимает из лукошка, целый десяток проглотил, а толку нет.
— Не могу больше, назад лезут, проклятые… — хрипит он.
— К черту! — волнуется Павел Мохов. — Где это ты видел, чтобы так попадья говорила? Банщик какой-то, а не попадья!
— Знай глотай… Обмякнет, — бормочет Федотыч. Бритое, жирное лицо его красно и мокро, словно обваренное кипятком. Самогонка в бутылке быстро убывает.
Из зала густо выходила на свежий воздух публика. Навстречу протискивались новые. Косяки дверей трещали. С треском отрывались пуговицы от рубах, от пиджаков. Иные тащили выше голов приподнятые стулья, чтобы не потерять место. «Налегай, ребята, налегай, жми сок из баб!»
Костомятка была и в коридорчике. Удалей всех продирался толстобокий попович в очках. Он яростно тыкал локтями и кулаками в животы, в бока, в спины, деликатно приговаривая: «будьте добры» да «будьте добры!» Старому Емеле, до ужасу боявшемуся мышей, подсунули в карман дохлого мыша, а как вышли, попросили на понюшку табаку.
Прозвенел звонок. Народ повалил обратно.
Дядя Антип, из соседней деревни, постоял в раздумье и, когда улица обезлюдела, махнул рукой:
— А ну их к ляду и с камедью-то… — закинул на загорбок казенный стул и, озираючись, пошагал, благословясь, домой. — Ужо в воскресенье еще приду. Авось второй стульчик перепадет на бедность на мою…
— Внимание, товарищи, внимание! — надсадно швырял в шумливый зал Павел Мохов. — По независимым от публики обстоятельствам, товарищи, попадья была высокая, теперь станет маленькой. Поп же, то есть ее муж, как раз наоборот, сделается очень высокий. Но это не смущайтесь. Это перетрубация в ролях, и больше ничего. Даже лучше! Итак, я подаю, товарищи, третий и самый последний звонок!
Занавес отдернули, и зал вытаращил полусонные глаза.
Вот выплыла попадья, по одежде точь-в-точь та же, только на коротеньких ножках и пищит, а вслед за нею — высоченный поп тот же самый — грива, борода; только ряса по колено и ходули-ноги длинные, в обмотках.
В публике смех, возгласы:
— Пошто попадье ноги обрубили?
— А ну-ка, бабушка, спляши!
— Эй, полтора попа!!
Изрядно наспиртовавшийся Федотыч едва залез в будку, но суфлировал на удивленье ясно и отчетливо: вся публика, даже та, что в коридоре, имела удовольствие слушать зараз две пьесы — одну из будки, другую от действующих лиц.
Жировушка Федотыча — в черепке бараний жир с паклей — чадила суфлеру в самый нос.
Действие на сцене как по маслу. Буржуя-жениха прогнали, в доме водворился коммунист. Аннушка родила ребенка, который лежит в люльке и плачет. Люльку качает поп (кузнец Филат).
Он говорит:
— Это ребенок коммунистический, — и поет басом колыбельную:
Баю-баюшки-баю,
Коммунистов признаю…
Ты лежи, лежи, лежи
И ногами не дрожи…
— Достукалась, притащила ребеночка, — злобствует попадья. — А коммунистишку-то твоего опять на войну гонят.
— О, горе мне, горе!.. — восклицает Аннушка и подсаживается к люльке, чтобы произнести над ребенком длинный монолог. Она роль знает плохо, влипла глазами в будку, ждет подсказа, в будке чернохвостый огонек чадит, и Федотыч — что за диво — наморщил нос и весь оскалился.
— О, горе мне, горе!.. — взволнованно повторяет Аннушка.
Вдруг в будке захрипело, зафыркало и на весь зал раздалось: «Чччих!» — и огонек погас.
Федотыч опять захрипел, опять чихнул и крикнул:
— Эй, Пашка! Дай-ка скорей огонька… У меня жирову… А-п-чих!.. жировушка погасла.
За сценой беготня, шепот, перебранка: все спички вышли, зажигалка не работает.
— О, горе мне, горе!.. — безнадежно стонет Аннушка, забыв дальнейшие слова.
— Погоди ты… Го-о-ре!.. — кряхтит, вылезая из будки, пьяный Федотыч. — У тебя горе, а у меня вдвое. Видишь, жировушка погасла. Нет ли, братцы, серянок у кого?
Публика с веселостью и смехом:
— На, дедка! На-на-на…
И снова как по маслу.
Аннушка так натурально убивалась над сделанным из тряпья ребенком и так трогательного говорила, что произвела на зрителей впечатление сильнейшее: бабы сморкались, мужики сопели, как верблюды.
Офимьюшкин Ванятка подрядился вместо Филата за три яйца плакать по-ребячьи. Он плакал за кулисами звонко, с чувством, жалобно. Какой-то дядя даже сердобольно крикнул Аннушке:
— Дай титьку младенцу-то!
И баба:
— Поди, упакался ребенчишко-т… Перемени, Аннушка, ему пеленки-то.
Словом, действие закончилось замечательно. Все были довольны, кроме Павла Мохова. Он, скрипя зубами, тряс за грудки пьяного Федотыча:
— Дядя ты мне или последний сукин сын?! Неужто не мог после-то нажраться? Такую, дьявол старый, устроил полемику со своей жировушкой…
По селу пели третьи петухи.
За Таней и Васютиным, опять шагавшими вдоль цветущих грядок, шли в отдалении парни с гармошкой и орали какую-то частушку, для Тани очень оскорбительную.
— Эй, ахтеры! — кричали в зале. — Работайте поскорейча… Ведь утро скоро. Которые уж спят давно!
Действительно, на окнах и вдоль стен под окнами сидели и лежали спящие тела.
Когда открыли сцену, наступившую густую тишину толок и встряхивал нечеловеческий храп. Это дед Андрон, согнувшись в три погибели, упер лысину в широкую поясницу сидевшей впереди ядреной бабы, пускал слюни и храпел. Другие спящие с усердием подхватывали.
Настроение актеров было приподнято: это действие очень веселое — пляски, песни, хоровод, а кончается убийством Аннушки. Мерзавец буржуй-жених, которого зарезали в прошлом действии, должен внезапно появиться и смертоносной пулей сразить несчастную Аннушку. Это гвоздь пьесы. Это должно потрясти зрителей. Недаром Павел Мохов с такой загадочно-торжествующей улыбкой сыплет в медвежачье ружье здоровенный заряд пороху: грохнет, как из пушки.
Но если б Павел Мохов видел, каким пожаром горят глаза коварной Тани и с какой страстью стучит в ее груди сердце, его улыбка вмиг уступила бы место бешеной ревности.
Парочка тесно сидела плечо в плечо, от товарища Васютина пахло духами и табаком, от красотки Тани — хлебной пылью, мышами и гнездами ласточек.
Декорация — елки и сосны, берег реки, Аннушка с ребенком сидит на камне.
— Какой хороший вечер, — говорит она. — Спи, мой маленький, спи. Чу, коровушка мычит. (За кулисами мычит корова.) Чу, собачка взлаяла. (Лает собака.) А как птички-то чудесно распевают! Чу, соловей… (Поет соловей.)
Яйца, видимо, подействовали: Филат на все лады заливался за сценой и соловьем, и собачкой, и коровушкой.
Появляются девушки, парни. Начинают хоровод. Свистит соловей, крякают утки, квакают лягушки, мычит корова.
— Дайте и мне, подруженьки, посмотреть на вашу веселость… — сквозь слезы говорит Аннушка. — Папаша и мамаша выгнали меня из дому с несчастным дитем. А супруг мой, коммунист, убит белыми злодеями на всех фронтах. Которые сутки я голодная иду, куда глаза глядят и не глядят.
Аннушка горько всхлипывает. Ее утешают, ласкают ребенка. За кулисами ржет конь, мяукает кошка, клохчут курицы, хрюкает свинья.
— Ах, ах! Возвратите мне мои счастливые денечки!
Зрители вздыхают. Храпенье во всех концах крепнет. Давно уснувший в будке Федотыч тоже присоединил свой гнусавый храп. Лысина деда Андрона съехала с теткиной поясницы в пышный зад.
Вдруг из-за кустов выскочил буржуй-жених, в руках деревянный пистолет.
Наступила трагическая минута.
Павел Мохов взвел за кулисами курок.
— Ах, вот где моя изменщица! — И жених кинулся к Аннушке. — Вон! Всех перестреляю!
Визготня, топот, гвалт — и сцена вмиг пуста.
Лицо буржуя красное, осатанелое. Он схватил ребенка, ударил его головой об пол и швырнул в реку.
Аннушка оцепенела, и весь зал оцепенел.
— Ну-с! — крикнул жених и дернул ее за руку.
Павел Мохов еще подбавил пороху и выставил в цель дуло своего самопала. Он в пьесе не участвовал, он к сцене совершенно непригоден: терял себя, трясся, бормотал глупости, а театр ужасно любил. Поэтому на спектаклях в городе ему обычно поручалось стрелять за кулисами. И уж всегда, бывало, грохнет момент в момент.
Здесь он точно так же ограничил себя этой на взгляд малой, но очень ответственной ролью.
— Ведь мы же с папочкой и мамочкой полагали, что вы зарезаны, — вся трепеща, сказала Аннушка буржую-жениху.
— Ничего подобного!.. Ну, паскуда, коммунистка, молись богу. Умри, несчастная! — И жених направил пистолет в грудь Аннушки.
— Ах, прощай, белый свет!.. — закачалась Аннушка и оглянулась назад, куда упасть.
Павел Мохов сладострастно спустил курок, но самопал дал осечку.
Зал разинул рот и перестал дышать. За сценой шипели в уши Мохова:
— Вали-вали-вали еще, Пашка, вали…
— Умри, несчастная!! Во второй раз говорю! — свирепо крикнул жених.
— Ах, прощай, белый свет!.. — отчаянно простонала Аннушка и закачалась.
Павел Мохов трясущейся рукой спустил курок, но самопал опять дал осечку. Злобно ругаясь, Павел выбрал из проржавленных пистонов самый свежий.
Жених умоляюще взглянул на кулисы и, покрутив над головой пистолет, вновь направил его в грудь донельзя смутившейся Аннушки.
— Умри, несчастная! Последний раз говорю тебе!..
Кто-то крикнул в зале:
— Чего ж она, дура, не умирает-то!..
— Ах, прощай, белый свет!.. — третий раз простонала Аннушка, и самопал за кулисами третий раз дал осечку.
Дыбом у Павла Мохова поднялись волосы, он заскорготал зубами. Жених бросил свой деревянный пистолет, крикнул: «Тьфу!» — и нырнул за кулисы.
Аннушка же совершенно не знала, что ей предпринять, — наконец закачалась и без всякого выстрела упала.
— Занавес! Занавес давай! — скандал на всю губернию, — суетились за сценой.
Но в это время, как гром, тарарахнул выстрел.
Весь зал подпрыгнул, ахнул.
Храпевший суфлер Федотыч тоже подпрыгнул и, подняв на голове будку, побежал с нею по сцене. С окон посыпались на пол спящие, а те, что храпели на полу, вскочили, опять упали — и поползли, ничего не соображая.
Занавес плавно стал задергиваться.
— Товарищи! — быстро поднялся на стул Васютин. — Я член репертуарной коллегии драматической секции первого сектора уездного культагитпросвета…
Мужики злорадно засмеялись. Раздались выкрики:
— Жалаим!
— Толкуй по-хрещеному!.. По-русски…
— Товарищи! Главный дом соседнего с вами совхоза, бывшие хоромы помещика, обращается в Народный дом для разумных развлечений. Я имею бумагу. Вот она. Советская власть охотно идет навстречу вашим духовным запросам. А теперь кричите за мной: «Автора, автора!»
И зал, ничего не понимая, загремел за товарищем Васютиным.
Автор же, за кулисами, упав головой на стол, плакал.
Васютин пошел за сцену и в недоумении остановился.
— Товарищ Мохов! Как вам не стыдно? Вас вызывает публика. Слышите? Ну, пойдемте скорей.
Павел Мохов вытер кулаками глаза и уже ничего не мог понять, что с ним происходило. Куда-то шел, где-то остановился. Из полумрака впились в него сотни горящих глаз.
А Федотыч меж тем, пошатываясь, совался носом по сцене, душа горела завести скандал.
— Товарищи! У вас теперь свой Народный дом, свой драматический кружок. А кто организовал его? Да конечно же, бывший красноармеец товарищ Мохов. Ежели спектакль прошел и не совсем гладко, это ничего, ведь это ж первый опыт, товарищи. Вот пред вами тот самый автор, сочинитель пьесы, которой вы только что любовались… Почтим его. Да здравствует талантливый Павел Мохов! Браво! Браво! — захлопал Васютин в ладоши, за ним — сцена, за ней — весь зал.
— Бра-в-во! Биц-биц-биц! Браво! Молодец, Пашка! Ничего… Жалаим… Павел, говори! Чего молчишь?..
— Почтим от всех присутствующих! Ура!! — надрывался Васютин.
Федотыч плюнул в кулак и, пошатываясь, подкрался сзади к своему племяннику.
Павел Мохов взглянул орлом на Таню, взглянул на окно, за которым розовело утро, и в каком-то телячьем восторге, захлебываясь, начал речь:
— Товарищи! Да, я действительно есть коллективный сочинитель… — но вдруг от крепкого удара по затылку слетел с ног.
— Я те дам, как дядю за грудки брать! — крутя кулаком, дико хрипел над ним Федотыч. — Я те почту от всех присутствующих!..
На следующий день товарищ Васютин уехал в город. Вместе с ним исчезла и красотка Таня. Она сказала дома, что едет в город на фабрику, будет там работать и учиться на курсах. В школе же после «Безвинной смерти Аннушки» недосчитались семи казенных стульев.
Павел Мохов от превратного удара судьбы — и спектакль не удался, и Таню проворонил — долго грустил.
Его утешал пьяненький Федотыч.
— Ты, племяш, не серчай, что я те по шее приурезал, — шамкал он. — А вот ежели такие теятеры будем часто представлять, у нас не останется ни мебели, ни девок.
— Ничего, дядя, все наладится… Вот только ученья во мне недостает, это факт. Поеду-ка я за просвещением в город. А как вернусь, уж вот спектакль загнем, уж вот загнем!.. И обязательно библиотеку устрою, чтоб наше Огрызово село было передовым…
И Павел Мохов направился в город на курсы избачей.
1923
Вячеслав Шишков. «Спектакль в селе Огрызове»
Художник П. Пинкисевич.
АЛЕКСАНДР МАЛЫШКИН
ПОЕЗД НА ЮГ[9]
Знакомо ли вам это особенное чувство перед отпуском? Оно похоже на ветер, который то и дело щемяще опахивает вас с каких-то невидимых солнечных садов. Вы испытываете его впервые в начале весны, когда местком начинает хлопотать о койках в Крыму, а машинистки снимают теплые вязаные жакеты и привозят по утрам на своих легких блузках солнце и распахнутые окна трамваев. О нем напоминает счетовод вашего отдела, уже выехавший на дачу: даже над его столом, над благоговейным сосредоточенным столом и над толстой обузой мудреных бухгалтерских книг просвечивает луна Клязьмы и поздно шумят березы… бродяжья ночь парка, диких уголков, свиданий. Вы носите в голове расписание поездов на юг, и стены — даже на Ильинке — становятся простекляненными насквозь — и светит и мчится за ними, о, как мчится свежая, степная ширь!
На юг меня тянуло и другое.
Было время, когда со степей звенела гибель, а за каждым взятым с бою полустанком чудилось то, чего никогда не бывало на земле. Вы помните, вероятно, по сводкам о трагическом случае с шестым Уральским полком у деревни Березневатка? Это мне удалось тогда вовремя обнаружить предательство и, после суток боя, прорваться с истекающим кровью полком к родной дивизии, правда, потеряв половину людей и в том числе единственного брата.
Как странно было увидеть опять эти места, которые пахли невозвратимой молодостью и смертью. За три года совсем забылся этот запах.
Помню, перед самым отъездом, в августовский вечер, я зашел в какое-то кино на Арбате. Все было, как полагается: по фойе кружила взад и вперед глазеющая публика, смычки терзались «Баядеркой», пианист, словно одержимый, скакал на своем стуле в такт с бесстыдным упоением. За гигантскими окнами, плотно завешенными доверху, крутился шум площади и подземно гудели трамваи, пронося за бульвар полнолюдные, насквозь освещенные окна. Я вспомнил про отъезд, про юг и не знаю почему — отсюда показалось невероятным, что когда-то в самом деле существовала Березневатка, и дело шестого полка, и рассвет над дымящимся Перекопом: заглянуть в них было страшно, как в кощунственно разрытую могилу. И поезда кощунственно мчались за счастьем над темными их полями…
Ведь и я, и я мог там лежать безыменно!
…Впрочем, все это могло быть только от переутомления. В утро отъезда перрон кипел такой веселой давкой, небо было так радостно сине, что сразу забылось почти обо всем. Я знал только, что был свободен, и вытряхнул из мозга все эти папки с делами, справки, доклады — я дико плясал на ворохе этого осточертелого хламья.
Севастопольский уходил в два. Я сидел в купе и с бездельным любопытством ожидал своих соседей. Первыми пришли две девицы — видимо, из какого-то солидного секретариата; желтые чемоданчики, портпледы с вышитыми инициалами и, конечно, цветы на столике говорили о чистой, удобной, взлелеянной маменьками жизни. И они стояли тут же перед вагоном — две распираемых корсетами, две мордастых мамаши старого мира, с огромными лакированными ридикюлями. Они лепетали:
— Пишите, пишите! Женечка, вечером холодает, обязательно вынь кофту! Сонечка, в Ялте не забудь к Софье Андреевне!
И Женечка, голорукая, исцелованная глазами ухаживателей, с прельщающей родинкой под темным глазом, избалованно-надломанно кричит:
— Скажите Владимиру Александровичу!.. Он обещал похлопотать… — и еще что-то про местком, в который надо сообщить, про Харьков, из которого непременно, непременно открыткой.
Вторая — сочная толстуха в шелковой юбке — о, из нее выйдет очень уютная городская и дачная мама, из тех, что с одышкой отчаяния и множеством кулечков всегда опаздывают, догоняя трамвай, — вторая только кивает пышно белокурым ворохом головы и разнеженно улыбается, должно быть.
— Мама, не забудь кормить Туську, — впрочем, кричит и она.
И у обеих, словно пьяные, блестят глаза. О, вижу, какие комнаты за этими девицами — похожие на музей мебели, чехлов, полочек, безделушек, сохраняющих дыхание старой чиновной барственности, комнаты тысяча девятьсот десятого — четырнадцатого года, удачливо пронесенные через бурелом революции до наших отдыхающих безопасных дней. И после этих страшных лет — в первый раз, по-старому, в Крым, в Крым!
Пришел военный, с нашивками командира полка, парнюга лет тридцати, с бабьим облупленным ветрами деревенским лицом, которое заранее улыбалось на все с добродушной неловкостью. Через полчаса я уже знал, что его зовут Григорий Иваныч и что он готовился в академию, но срезался по общеобразовательным, а теперь готовится опять — и теперь уже выдержит, обязательно выдержит, назло вот этим элегантным чемоданчикам и всем мамашам на свете.
— Тоже на поправочку? — спросил меня Григорий Иваныч любезным тенорком, сложив на коленях огромные багровые руки.
— Да, на юг, — ответил я и подумал, глядя на него с восхищенной завистью: «Тебе-то еще какая поправочка нужна, черт возьми!»
И, словно отвечая, он улыбнулся мне страшной улыбкой, улыбкой контузии, вдруг скомкавшей его цветущие скулы, молниеносной улыбкой, которую надо смигивать в сторону, как слезу. Через улыбку прорвалась ночь какого-то боя, искаженный мрак, чудящееся везде ползучее убийство…
«Ага, — подумалось мне со злорадным успокоением, — и ты, ты знаешь это!»
Пришла наконец какая-то угрюмая супружеская пара, которую, судя по ее обиженному и измотанному виду, судьба бросала черт знает куда: то лавочниками в Воронеж, то в кассу Лебедянского кооператива, то в Москву на железную дорогу — и везде под разор, под сокращение… И били, ликуя, последние звонки, и зашарахались, махая платками, мамаши, чуть не сбитые с ног бешеными тележками носильщиков, — и вот уже скачет и гудит кругом дремучий лес вагонов, и вот уже ввинчиваемся в золотую пыльную пустоту…
До свиданья, Москва!
Мы с Григорием Иванычем привстали, смотрим через головы девиц в крутящееся под нами прощальное марево крыш. И вдруг вижу искоса, что Григорий Иваныч поймал глазами родинку под Женечкиной ресницей и растерялся и ворует ее — по-мальчишечьи, наскоро, боязливо ворует…
— Не стоит, Григорий Иваныч, — хочется мне сказать ему. — Там избалованные, непонятные тебе комнаты и тонкие запахи и слова, расстраивающие воображение, а ты совестливо думаешь, как бы урезать от этой поездки червонца полтора и послать в родимые места — перекрыть к зиме кельенку для старухи. Недоуменно и скучно ей будет, Григорий Иваныч, от избяной твоей простоты…
Мы мчимся над стоялой, зевающей тишиной дачных платформ и полустанков, мчимся в дичь, прохладу и темень бора и сеем везде бунт, грохот, пыль.
Барышни устали, садятся друг против друга за столиком и, поправляя растрепанные ветром прически, мельком, равнодушно оглядывают нас всех. Григорий Иваныч вдохновляется, лезет под лавку за чайником. Скоро Серпухов.
Григорий Иваныч стремительно нацеливается на барышнин эмалированный чайник.
— Разрешите и вам… в вашего чудачка!
Женечка от неожиданности глядит на него вопросительно.
— Пожалуйста…
На остановке шпоры и чайники стремглав звякают в коридор. Женечка перегибается из окна.
— Не опоздайте! — кричит она вдогонку.
Я боюсь посмотреть — не споткнулся ли там Григорий Иваныч от блаженства.
Мы выплываем в засерпуховские раздолья; там красное полымя луны и замглившаяся глубь, в которой тонут церковки, деревеньки, закатившаяся за туманы полевая сторона. За чаем Григорий Иваныч заговаривает с девицами смелее. Но я не верю преувеличенному вниманию Женечки, не верю ее доброй круглоглазой улыбке. Наверно, с тем же самым чувством она повязывает в Москве красный платочек на манифестацию или податливо-хохотливо кокетничает с коммунистом, председателем месткома… О, хитрая девица умеет себя вести с хозяевами. И мы узнаем, что они с Сонечкой едут в Алупку, а потом по Южному берегу Крыма; что они там были еще подростками, в четырнадцатом году, тогда объявили войну, и была такая паника, такая паника.
— А, помнишь, все-таки, Сонька, Байдарские ворота?
— Ах, Байдарские ворота!.. — Блондинка мучительно жмурится от восторга.
— А вы тоже до Севастополя? — спрашивает Женечка, и глаза играют в упор, как там, у рояля, под махровым тюльпаном абажура — скольким еще глазам они играли так навстречу?
— Нет, у меня через Симферополь. Эти самые… Байдарские ворота я уже видал! Мы с бригадой по всем этим местам…
Григорий Иваныч старается придумать что-нибудь особенное.
— Вот у меня все записано, что в каких местах будет. Очень ин-те-рес-но! Вот за Харьковом пойдут цыплята, можете кушать сколько угодно, ха-ха-ха! — Хохоток у Григория Иваныча любезный, сиплый, бабий. — А вот за Мелитополем пойдут жареные бычки, вот бычки, ха-ха-ха!
Ему не сидится, он пенится от радости, пристает к угрюмым соседям, потчуя их чаем.
Те сначала отказываются, но потом вынимают из кошелок огромные походные кружки и по очереди стеснительно подставляют Григорию Иванычу. Григорий Иваныч принимается лить, льет долго и терпеливо, пока у него от напряжения не начинает болеть рука. Но у кружки, кажется, нет дна. Григорию Иванычу становится стыдно, но остановиться еще стыднее, и стыдно женщине, которая тянет конфузливо руку с кружкой; черные зубы ее улыбаются жалостно. После этого угощения Григорий Иваныч сидит молча, как оплеванный: лучше бы ему провалиться сквозь землю.
В сумерках влетаем в Тулу, в гуляющий, мигающий огоньками губернский вечер, барышни выходят пройтись под фонарной прохладой и гуляют там медленно, нам совсем чужие. Григорий Иваныч после этих кружек не смеет подойти и кружится поодаль, в унылом вожделеющем одиночестве. А я счастлив: мои стены распались наконец в эту свежую темень, мне чудится за каждым вокзалом безбрежный город с тысячами жизней, и каждая из них могла бы пройти через мою. И Березневатка — пока еще где-то за кривой и темной глубью земли живет сквозь эту дымную грусть.
Женечка надевает теплую вязаную кофту и уходит в коридор, к раскрытому окну. Там холодеет ночь, и чудные дебри проносятся мимо и бесконечно, и поется несвязное само собой. Вот где бы заглянуть в ее настоящее, полное девьей смуты лицо! Но нет Григория Иваныча, рыщет где-то тоскливо по чужим купе. А под окно на остановке подходит бритый молодой человек из мягкого вагона; он хорошо одет, должно быть, и поднимает на Женечку бездонные в сумерках глаза и напевает очень чудесно — вы знаете это пение под окном — шумят деревья, и кто-то несет мимо вас в ночь свое удивляющееся веселье. Бедняга, Григорий Иваныч, какой час ты пропустил! Но вот он, Григорий Иваныч, торжествующе ломится по коридору, запыхавшись — наверно, и сесть успел только на ходу, и под мышками у него два огромных арбуза.
— Оце добри кавуны! — кричит он нам, не выдерживает, сыплет опять сиплым своим хохотком и, не выпуская арбузов, рухает могучим телом своим на лавку.
— Гражданка, имени и отчества не знаю! Там глаза засорите! Вы посмотрите, каких я чудаков за двугривенный отхватил!
Женечка вяло подходит с туманными на свету, еще грезящими глазами, качает головой: нет, она не хочет, и так холодно… — И морщится зябко.
— Сонька, ты уже спать? — Но в Григории Иваныче просыпается темное буйство, он не сдается ни за что.
— Да вы гляньте на арбуз, — неистовствует он и вдруг бьет его с размаху прямо об колено.
И арбуз лопается пополам буйно и спело со смачным кряканьем, и из него прет рваная, алая, сахарнейшая мякоть, которую — ножом и Женечке.
— Гражданка!.. — И всех нас, словно счастьем, оделяет Григорий Иваныч.
И Женечка не может не взять, изнемогая от глупейшего смеха, и берет чопорная толстуха, и берем мы с угрюмой парой и едим прохладу, пахнущую талым весенним снегом. Григорий Иваныч, намолчавшийся вдоволь, шумит и заливается за пятерых.
…Поезд останавливается у сплошных ночных садов.
Я тоже вышел на платформу, в зарево матово-голубых фонарей, и нашел название станции. Здесь когда-то шел Деникин и Мамонтов и грохали наши эшелоны. Я стал спиной к свету, дремно полузакрыв глаза, и захотел представить все, как было: выбитые стекла, рваный свет керосина в зальце, где на полу, влежку, лохматится вшивое солдатье, подобрав под себя винтовки, отчаявшееся солдатье, ведомое на Москву; и ревущие под смерть паровозы. Но это не давалось — холод обнимал, как река, в смутных садах листва гудела мужественно, густо и молодо. Упасть в траву и спать под степной ветер…
Издали я узнал Григория Иваныча. Он ликующе подплясывал, направляясь к вагону и прижимая к животу чудовищный арбуз. У ступенек мы почти столкнулись, но он осторожно миновал меня и в стороне, наклонив голову, смигивал, смигивал под вагон…
В темном спящем купе он тронул меня за плечо.
— Эх, опоздал, а кавун-то хорош, хотите? — И шепотом спросил смущенно: — Как мне ночью с сапогами быть, у меня ноги пахнут?
— Вот ерунда, — сказал я.
Но он так и лег мучеником, свесив с полки обутые грузные ноги.
Я остался один — поезд, завывая, гнался по мамонтовским следам. И тучей ползло — на дороги, на города, на сны — темное, щемящее поле.
Пожелклые пажити на безоглядные сотни верст, где отшумел только что урожай, как вода, — и бандитские полустанки по пояс в кустах и тополях, на платформах босые бабы со снедью, с горшками, арбузами, с деревенским и садовым изобилием, и щеки у баб, как сливы, и над полустанком солнце, и бандитские дороги, где петлил недавно, надувая красные истреботряды, Махно, Щусь, Хмара… по дорогам, по серо-голубой пылевой мякоти сонно влекут волы воз с отавой, и демобилизованный малый, в вылинявшей гимнастерке, лежит на возу брюхом вниз, встречая поезд посоловелыми сытыми глазами, — и в канавах, за околицей, куда сбегают из древних лет колья со ржавой колючей проволокой, густо пошел лопух, гусятник, крапива — паутинная темь в канавах от травы, и квохчут куры.
Заросло, затучнело, сытью завалилось и глухотой.
Опять ели арбуз в нашем купе и ели дешевых цыплят под Харьковом — хотя уже ни есть, ни глядеть на них не хотелось, и пили — уже забыто, сколько раз, — чай из Григория Иванычева чудака; у блондинки по всем признакам случился даже запор. А Григорий Иваныч не отставал от обеих, как назло, звякал за ними шпорами охраняюще и, ничего не подозревая, вызвался провожать их к почтовому ящику в Харькове. Почтовый же ящик был придуман блондинкой, чтобы вволю отсидеться в вокзальной уборной, и блондинка, чуть не плача, мучительно семенила на цыпочках по перрону, держа под руку Женечку… а Женечка только хохотала над обоими, хохотала и играла глазами на окна мягкого вагона.
И я злорадствовал: ага, не послушал меня, Григорий Иваныч! Да и не было его — за сиплым хохотком, за шпорами разве настоящий был Григорий Иваныч?..
И вот именно из этой сыти и глухоты влезло в наше купе новое семейство, взамен угрюмых пассажиров, унырнувших незаметно в Харькове. Сердитая дородная женщина несла грудного ребенка; муж, огненноглазый паренек, похожий на цыгана, вел за ней девочку лет четырех. Поперли корзинки, мешки, одеяла — сразу завалило рухлядью и детским плачем всю блондинкину койку; женщина, не стесняясь, вынула большую грудь и тотчас же начала кормить; паренек на каждой остановке хлопотливо бегал за едой и за кипятком. Мне показалось, что я где-то видел этого смирного человека, ухаживающего за всеми безропотно, с тихой виноватостью.
Барышни косились, передергивали плечиками и прятали на губах какие-то ядовитости. Барышни были недовольны.
В самом деле — на пол полетели арбузные корки и мякоть и еще что-то непрожеванное, под ногами намялась тюкающая склизкая грязь, по которой всласть прыгалось старшей девочке с большим куском арбуза в руках. И эта же девочка схитрилась опрокинуть под толстую блондинку чайник с кипятком.
Блондинка совсем расхныкалась.
— Это же хамство, я не понимаю… навозить, нахаосить, платье испортить человеку. Я буду жаловаться.
Женщина равнодушно качала ребенка, даже не оглянувшись.
— Гражданка, — сказал я, сочтя нужным вступиться, — вас оштрафуют за беспорядок. Смотрите, что вы натворили в купе!
Ее раздраженное молчание прорвалось.
— Ну и оштрафуют! — крикнула она. — У меня дети, вы видите, у меня дети! Ездили бы в мягких, если вам здесь без удобств. Насядутся разные…
Паренек стоял, облокотившись на полку, и только посмеивался. Было непонятно — дерзость это или простота. Я посмотрел ему в лицо пристально и внушительно. Он продолжал добро улыбаться в ответ, улыбаться своей невспоминающейся, будто в давней тревоге виденной улыбкой. Я строго возразил женщине:
— Гражданка, мы не какие-нибудь, а советские служащие. Имейте в виду.
— И вы заняли одни всю сидячую полку! — крикнула опять сквозь слезы и шурхая подмоченными юбками блондинка.
Мне совсем не улыбалась начинающаяся перепалка. Я ушел — и не знаю, сколько часов простоял на площадке, у раскрытого гудящего окна.
Поля протекали бескрайной глухотой. Лиловые линии перевалов поднимались за ними в горизонт, в теплящийся белым заревом край. Чудилась армия из какой-то сказки, идущая по этому горбу в зарю; лица солдат были розовыми от еще невидимого солнца. То было первое песенное веянье Березневатки, земли, принявшей триста товарищей, которых я всех знал по именам. Поезд ночью должен был промчаться над ними своими потушенными спальнями.
…Ночью — незадолго — случилась тревога.
На перегоне Серебряное — Березневатка появилась банда и накануне ограбила скорый. Поэтому на узловой станции в наш поезд садилась вооруженная охрана. Через вагон пронеслось дуновение позабытой грозы, чем-то из девятнадцатого года. Пассажиры кучками собирались в тусклых купе, молодежь смеялась, бородатый гражданин в очках, на верхней полке, волновался:
— А черт их знает, может быть, они уже притаились где-нибудь и заранее себе высматривают!..
— У тебе, должно быть, денег много, что ты слабишь! — насмехался над ним какой-то веселый косоногий парень в пузырястых галифе.
В купе зажгли скудный огарок, и женщина, опять не глядя ни на кого, укачивала ребенка. Какие тусклые, коротенькие остались ей в жизни вечера! Паренек с той же молчаливой услужливостью кормил всех на ночь, устраивал постели, бегал за водой. Мне стало душно от них.
Шла прихмуренная, в самом деле бандитская ночь. В вагоне торопливо ложились — чтобы забыть тревогу, чтобы поскорее проснуться в солнце. Одинокая блондинка громоздилась рассерженно на вторую полку, заслонив поместительными, материнскими бедрами все купе. Мне не с кем было встретить эту ночь.
Мне нужно было найти Григория Иваныча. Поезд мчался под уклон, меня шатало по коридору. Дверь площадки бурно отлетела от руки, — скрежет, свист и холод. Он был там, но не один — оба стояли, наклонившись за окно в счастливой оплетенной тесноте…
Я не понял сначала. Конечно, это было лишь потому, что Женечка в самом деле боялась бандитов: ей нужна была теперь чья-нибудь широкая успокаивающая сила. Что другое могло ее толкнуть вдруг под мужицкое крыло?
— Станция будет дальше, я вам покажу… — говорил Григорий Иваныч, и это был голос другого Григория Иваныча, которого я ждал. — А я, вот видите, жив и еще еду на курорт. А, может быть, года через три опять буду проезжать здесь, и все будет уже незнакомое, а я буду уже знать два языка, вот…
— Расскажите еще… — услышал я, как негромко попросила Женечка или сказала что-то другое, покоренное, прижимающееся: они меня не видели, я тихо закрыл за собой дверь…
Не знаю, почему нахлынула тогда смутная грусть: оттого ли, что я ничего не угадал и жизнь легко растоптала мои вялые мысли, оттого ли, что мне самому хотелось также победителем пройти через жизнь.
И я вернулся в вагон, на свой краешек скамейки, и задремал; и все спали, и смирный паренек спал, сидя напротив меня, уронив голову на железную стойку.
Оставалось недолго до Березневатки. До Березневатки? Значит, она все-таки в самом деле была на земле?
…В полночь вооруженный контроль проходил проверять документы.
Мутно качающиеся углы мира наполовину тонули в снах. Паренек тоже тяжело очнулся, попросил у меня огня и рылся в карманах кропотливо.
— Вот пока партийный билет, — наконец сказал он, — я сейчас разыщу паспорт.
У фонаря двое, стукаясь лбами, осмотрели документ.
— Достаточно, — сказали они с суровой почтительностью.
Мы остались одни в спящей, однообразной, мчащейся тишине. Я почувствовал, что глаза сидящего напротив зовут меня.
— Товарищ, — сказал он вдруг вполголоса, наклоняясь, — я хотел извиниться за давешнее, за жену. Она немного того, — он добродушно засмеялся, — она, знаете, нервная, на подпольной работе измоталась.
Я удивился немного, но поспешил вежливо его успокоить, сказав, что все давно забыто. Ему, видимо, хотелось поговорить; он вспомнил о бандитах. Я сказал, что хорошо знаю эту местность — вот тут будет подъем перед Березневаткой, поезд пойдет в выемке, самое удобное место для нападения. Я был здесь с шестой армией, прорвавшей Перекоп.
Он обрадовался.
— Знаю, знаю, она потом вступила в Крым, я ведь тамошний уроженец.
Паренек назвал несколько человек из штаба армии, из особого отдела, несколько начдивов. Моей фамилии — нет, он не помнил.
— А про меня вы, может быть, слыхали? Яковлев, партизан. Мы соединялись с шестой армией под Симферополем.
Меня охватило огненным холодком. Это — Яковлев? Да, конечно, я помню — однажды в разведроте дивизии мы с жадным любопытством рассматривали карточку этого невзрачного, играющего с петлей человека, вождя зеленой армии,[10] неуловимо хозяйничавшей во врангелевском тылу. Яковлев! Кто у нас не знал о Яковлеве, о легендарном переходе через зимний хребет Яйлы, по ледяным тропинкам, ведомым лишь зверям? Он мстил за брата, повешенного в Севастополе.
— Тяжелее всего было зимой, но мы все-таки ушли. Скрывались в пещере около Байдар. Вот теперешняя моя жена — через нее мы держали связь с Севастопольским комитетом.
Я слушал этого человека с диким волнением: это уже не вагонная ночь — это своими землями и призраками обступала Березневатка. Он рассказывал еще, что служил начальником милиции где-то в Купянском уезде, а теперь переводится на родину, ближе к Ялте; что они с женой нарочно едут через Севастополь и Байдары. Гул поезда начал звучать мощной и печальной музыкой. Сквозь сон приходил Григорий Иваныч, крадучись, нашел свою шинель и ушел — должно быть, одевал там, у бурного окна, снящиеся послушные плечи.
Сквозь сон набежала из ночи низкая казарма, вся в будоражных огнях, — и я узнал Березневатку.
Я выбежал в заплеванный, с дырявым полированным диваном зал; красноармейцы стояли у рычагов телефона, все с винтовками. В соседней комнате солдаты шаркали ногами и гудели зловеще, как перед погромом. Я прошел в телеграфную: тот же большеносый, похожий на грачонка, армянин тыкал пальцем в аппарат Юза, нарочно тыкал передо мной, чтобы показать, что вся душа улетела из этих костяных клавиш.
— Нет связи, — сказал он.
— И не будет, — сказал я, — мы отходим.
Я скакал за батальоном, уходящим по горбу горы от смерти; лица братвы были хмуры и розовы от солнца, морозного, надсмертного солнца.
— Где комендантская команда? — спросил я. Над ней начальником был мой брат. Никто не знал. Внизу, за плетнями, отстреливались батальоны, оставленные нами в жертву, обреченные батальоны. Я проехал мимо красноармейцев, лежащих животами на земле, похожих на кучи тряпья, еще живых, еще упорных, еще не знающих ничего. Брат вскочил с земли, бежал к плетню, покрыл его руками, чтобы перелезть.
— Алексей! — крикнул я, удерживая его. — Не туда, Алексей!
Он не оглянулся и остался распятым, как был. Я соскочил и снял с него фуражку: его волосы на затылке слиплись в красном студне, дыра под ними зияла глубоко. Мы, грохоча, пролетали над могилами, которых я не видел никогда, все спали под лелеющее качанье; и спал я.
Рассвет за Перекопом, за Сивашом. Теплая седая трава без берегов, и птицы над миром — и птицам видны, должно быть, горы и синий рай за ними. У Джанкоя солнце вдруг обрушивается на наш поезд, стены станции начинают сразу пылать, как в полдень; на асфальтовом перроне пышная черная тень, словно его полили водой, и в прохладах продают розы. Да, мы у ворот синего рая! И несет опять в седую степную теплоту — там ветер, даже утренний ветер дует все время с каких-то раскаленных становий, он заставляет блаженно свесить руки из окна, лечь щекой на горячую раму, грезить, петь несвязное… Я с трепетом нащупываю в себе сегодняшнюю ночь, прислушиваюсь, но нет ее, нет пока ничего, кроме баюкающего мчанья.
Не верю: вывернется еще из какой-то темени, ляжет на мир непрощающей тенью…
Дети проснулись, звенят под нашими полками, у Яковлевых. Начинается щебечущая, любовная суета. Где-то бледно проходит — отзвуком прекрасного неповторимого гимна — образ косматой шпионки с наглыми глазами, накануне виселичного обряда, во врангелевской комендатуре… Подождите, пещера еще впереди.
— Это Чатырдаг, — ахают сзади девицы и бросаются к моему окну в бурном восторге, забываясь, жмутся ко мне своей неосторожной мягкогрудой теплотой. За ними Григория Иваныча румяная, по-утреннему жмуристо улыбающаяся рожа.
— До Симферополя далеко? — спрашивает он меня потихоньку.
— Около часу.
Бедняге придется скоро попрощаться с нами.
На остановке товарищ Яковлев, командарм зеленой, ходит по лоткам с фруктами, покупает полный картуз огромных лиловых слив и большой пакет винограду. Гостинцы выкладываются на гостеприимно растянутый между коленями подол женщины, наседочий подол, с которого вся семья насыщается не спеша и молча. Толстая блондинка, после уборной, холодит всех одеколоном и вертит зеркальцем у носика. За ее головой, за свешивающимися на окна одеялами — восход какой-то известково-голубой горы, ослепительная земля, Крым. Давно забыто и про бандитов и про ночь, в вагоне солнечно, напарено до одышки, мужчины расслабленно трясут на себе расстегнутые вороты рубах: сорвать бы их совсем.
В Симферополе Григорий Иваныч таинственно исчезает. Его постель аккуратно увязана ремешками и вместе с сундучком стоит на краю полки. Мне видны из коридора голая шея и худенькая спина Женечки, в воздушном ситцевом платьице, заломленные над непокорной прической голые руки; она обиженно ссорится с блондинкой:
— Сонечка, я определенно, дорогая, помню, что я делаю, ради бога, без наставлений!
Григорий Иваныч возвращается перед последним звонком с очень сконфуженным видом.
— Взял плацкарту до Севастополя, — говорит он, — улыбаясь покаянно. — В самом деле, надо посмотреть ваши Байдарские ворота, что это за чудо такое.
Блондинка ревниво и раздраженно язвит:
— Да ведь вы, кажется, их уже видели?
— То другие, — смущается Григорий Иваныч. — Название очень похожее, забыл. Другие.
Каменные теснины обступают поезд до самого неба. Горячий праздничный полдень лежит где-то на их далекой, травяной, плоско обсеченной высоте. Туннели гремят, как веселые мгновенные ночи, и каждый раз, в их мраке, из коридора вспыхивает щекотно знакомый девичий смех. И на вокзальном перроне, вероятно, уже бьют звонки: подходит плацкартный Москва — Севастополь. Вот он, солнечный, изжажданный мечтами конец пути! Мы гудим во всю свою железную грудь и с ликующим грохотом ввергаемся в последние перронные дебри.
Зайчики играют на полированных дверях, на асфальте, в пустынном занавешенном зале, за которым зияюще горит выход на вокзальный двор. Там все раскалено и думается об огромных, роскошно осыпающихся прибоях.
Мы ждем двенадцатиместного автомобиля Крымкурсо, рассевшись на своих вещах, как беженцы. Всюду с рекламных плакатов струится Крым, закинутые в синь белостенные сказки, закатная тень дворцов, за которыми море и знойные цветники, и прямо из них подкатывают автомобили к нам, к вечернему поезду, ссаживая загорелых, торопливых людей с каменной пылью прибрежий на щеках. О, какая непримиримая, щемящая скука за них — им сейчас в Москву, обратно в Москву!
Товарищ Яковлев, пока жена переодевает ребят, разговаривает со мной как старый знакомый. О службе в Крыму мечтал давно, здесь все-таки родной воздух, ребятишки подрастут хорошо, по милиции особого беспокойства не будет, — какие здесь происшествия! А им с женой давно надо подзаняться самообразованием.
— Посмотрим сегодня вашу пещеру, — с притворным равнодушием говорю я.
Оттого, как он взглянет и ответит, мучительно зависит что-то мое. Паренек улыбается поверх моей головы в небо.
И не говорит ничего.
В автомобиле нам с блондинкой достаются передние места. Мне бы хотелось видеть всех перед собою. Ну, хорошо, теперь я увижу их, когда мне понадобится, в самое лицо.
Блондинка сразу рассыпчато добреет и радуется даже на лысые загородные пригорки.
— Дивно, дивно, — лепечет она; мяса ее пышно сотрясаются в такт мотору.
Мы катим влажной Балаклавской долиной. Над ней облачно, селения вправо — по пояс в зеленой благодатной мгле межгорий. Это там — синий рай. По спирали забираемся выше и выше. Шофер переводит скорость, мотор заунывно скрежещет, словно сердце и ему захватывает высота. Горы подходят ближе и ближе курчаво-седыми, известковыми склонами. Выше уже нельзя — под нами воздух, и клочкастый кустарник, и сквозящие, в жутких низах, долины. Сейчас мы свергнемся туда.
— А-ах!.. — дурачась, кричит сзади в испуге Григорий Иваныч.
Мы падаем в пустоту, кусты рвано свистят, в груди нет воздуха. Я оглядываюсь. Женечка жмется к Григорию Иванычу, судорожно схватив его под руку, беспомощная, растерявшая все свои комнаты и всех мамаш. И глаза Григория Иваныча встречаются с моими, они невидящие, блаженные.
Мы отдыхаем в Байдарах. Пахнет близким вечером, прокропил небольшой дождь, после которого будет солнце и ветер в соснах, наверху. От прохлады зелеными капельками тронулся виноград на прилавках. Кажется, что мы едем бесконечно долго… Может быть, во сне.
Да, во сне. Вот ущелье, которым проходила когда-то зеленая армия; еще поворот — и чьи-то глаза угадают и вопьются в темное зияние под соснами, на срывающейся зеленой высоте. Вот уже заходят затылины гор, вкось сбегает по той стороне синее кустье, вот дымок пустоты за краем шоссе… И я жду — я чувствую чужую тоску сзади себя, внезапную, как нож; я чувствую, как торжествующий и страшный свет, упавший из давнего, вдруг по-иному осверкал и показал там жизнь. Но, может быть, то почудилось лишь мне одному? Я поворачиваю голову, чтобы заглянуть в помутнелые лица двоих, сидящих сзади. Я ищу их, но вместо этого вижу Григория Иваныча, жутко встающего в мигающей своей улыбке, и вижу десяток других глаз, которые безумеют и вдруг голубеют.
Мы падаем в Байдарские ворота! Степы гор распахиваются настежь. Шофер дурит и осаживает машину над самой бездной, над лазурной, сосущей сердце пустотой. Ни перед нами, ни под нами нет ничего, кроме неба и дрожащей торжественной синевы, восходящей через мир.
Море.
В автомобиле взвизгивают, шепчут, беснуются, блондинка раньше всех кулем брякается об землю и семенит, обеспамятев, к пропасти.
— Красота… Боже, какая красота!..
Григорий Иваныч мечется с шальными глазами, выхватывает из кармана наган и врет, что видел сейчас под обрывом лисицу.
— Не смейте, не смейте! — кричит на него Женечка и бежит за ним куда-то вниз по шоссе.
Я должен сейчас увидеть товарищей Яковлевых. Слышу, как женщина спрашивает за моей спиной шофера, успеет ли она покормить ребенка. «Да, успеете», — отвечает он. Но я не могу сразу оторвать глаз от бездонно возникшего, прекрасного мира. Море идет за неоглядные горизонты — так оно шло вчера, без нас, и так шло тысячу лет назад, неся ту же дикую, кипящую тишину. В зеленой бездне, под ногами, чудятся города, монастырь Форос смертельно лепится на каменной игле. Сверкает безумный лет ласточки… И все-таки я должен увидеть тех.
…И вижу бережно склоненный затылок женщины и растрепанные нежные волосы, упавшие на шею. В горах похолодало, на плечах ее кое-как наброшено пальто, перешитое из шинели, пальто, в складках которого осталось дыхание буревых, бессмертных лет. Паренек стоит рядом и, засунув руки в карманы, смотрит внимательно ей на грудь. Его ресницы легли блаженным полукругом. Свет и тишина моря на них.
Я отвернулся и смотрел в безбрежное чудо, созданное жизнью из камней, вечности и воды. Толстуха в шелковой юбке волновалась у автомобиля и спрашивала всех, где Женечка. Но кому было дело до Женечки? Только мне было видно, как Григорий Иваныч бежал снизу, кустами, по краю смертельной синевы, и, смеясь, нес эту девчонку на своих руках.
1925
БОРИС ЛАВРЕНЕВ
СРОЧНЫЙ ФРАХТ[11]
1
В Константинополе, едва «Мэджи Дальтон» отдала якорь на середине рейда и спустила с правого борта скрипящий всеми суставами ржавый трап, к нему подвалил каик. Турецкий почтальон, у которого засаленный хвостик фески свисал на горбатый потный нос, поднялся по дрожащим ступенькам и подал телеграмму.
Капитан Джиббинс сам принял ее на верхней площадке трапа, черкнул расписку, сунул почтальону пиастр и направился в свою каюту. Там он, не торопясь, набил трубку зарядом «Navy Cut», разжег, пыхнул несколько раз пряным дымом и разорвал узкую голубую ленточку, склеивающую края бланка.
Телеграмма была от хозяина, из Нью-Орлеана. Хозяин извещал, что компания «Ленсби, Ленсби и сын», которая зафрахтовала «Мэджи», настаивает на быстрейшей погрузке в Одессе и немедленном выходе обратно, так как предвидится быстрый спрос на жмыховые удобрения, за которыми и шла «Мэджи» в далекую Россию.
Капитан приподнял плечи, пыхнул особенно густым клубом дыма, перебросил трубку в другой угол рта и выцедил сквозь сжатые губы медленное:
— Goddam![12]
Он вспомнил, что хозяин, пожалев два лишних цента на тонну, набил угольные ямы парохода таким панельным мусором, что при переходе через Атлантику «Мэджи» еле ползла против волны и ветра и с трудом держала минимальное давление пара.
При таком положении вещей рассчитывать на скорость не приходилось, но приказ был получен, капитан привык исполнять приказы и, позвонив стюарду, велел позвать старшего механика О'Хидди.
Спустя минуту в каютную дверь просунулась остриженная ежиком рыжая голова, оглядела каюту и капитана добродушными васильковыми глазами и втащила за собой сутулое туловище в футбольном свитере и купальных трусах.
— Что вам вздумалось тревожить меня, Фред? — спросила голова ленивым голосом. — Я издыхаю в этом треклятом климате и не вылезаю из ванны. Когда мы вернемся домой, я потребую у хозяина перевода на какую-нибудь северную линию. — О'Хидди подтянул трусы на впалом животе и добавил: — Когда имеешь несчастье родиться в Клондайке и провести полжизни в меховом мешке, трудно примириться с этой адской температурой.
— Тогда я обрадую вас, — ответил капитан, — я рассчитывал простоять тут до воскресенья, чтобы дать команде возможность спустить денежки в галатских притонах и подкрасить борты перед Одессой, но вот телеграмма хозяина… Торопит! Значит, снимемся к вечеру. Одесса не Аляска, но все же в ней прохладнее.
— А почему такая спешка? — спросил О'Хидди, набивая свою трубку капитанским табаком.
— Ленсби хотят поскорее получить жмыхи. На рынке спрос.
Механик в раздумье похлопал ладонью по голой коленке.
— А вам известно, Фред, что в Одессе нам придется застрять для чистки котлов? — сказал он с равнодушным злорадством.
С лица капитана Джиббинса на мгновение сползла маска безразличия и сменилась чем-то похожим на любопытство. Он вынул мундштук из губ.
— Это еще что? Мы произвели генеральную чистку в предыдущий рейс. К чему опять затевать пачкотню, когда от нас требуют спешки?
О'Хидди плюнул в пепельницу и ухмыльнулся.
— Можно подумать, что вас еще не распеленала нянька, до того наивные вопросы исходят из ваших уст. Вы видели уголь, которым мы топим?
— Видел, — сухо ответил капитан.
— О чем же вы спрашиваете? Смесь такого качества можно найти только в прямой кишке бегемота. От нагара половина труб уже не тянет. Без хорошей чистки мы не дойдем обратно, особенно с грузом.
— Это невозможно. Мы можем потерять премию. Кончайте возню в кратчайший срок. Нам нельзя терять ни минуты.
— Попробую. На счастье, в Одессе есть мистер Бикоф. За деньги он сделает невозможное.
Капитан удовлетворился ответом, и снова мускулы его лица застыли в спокойном безразличии.
— Ладно! Полагаюсь на вас. Только предупредите команду, чтоб к шести вечера все были на местах. Если кто-нибудь опоздает — ждать не буду. Пусть попрошайничает в Галате до обратного рейса. Нужно выйти в Черное море до захода солнца, прежде чем проклятые турки выпалят из своей сигнальной пушки. Иначе придется ждать утра.
— Хорошо! — ответил механик. — Будет сделано.
2
«Мэджи Дальтон» прошла узкие ворота Босфора на закате, когда верхушки волн отливали розовым золотом, и, резко повернув, взяла курс на север.
Капитан Джиббинс стоял на мостике, нахлобучив на лоб синюю фуражку с галунами и заложив руки в карманы.
По морским путям мира в час, когда волны отливают розовым золотом, проходят тысячи пароходов. Старые, зализанные солеными поцелуями всех морей и океанов грузовозы и транспорты, быстрые стимеры и великолепные шестиэтажные трансатлантические пассажирские колоссы, перед форштевнями которых с угрюмым гулом расступается вода, подавленная их огромностью. Днем и ночью, под мерцающими узорами звездных сетей, пересекают они морские дороги, вглядываясь в мировую тьму цветными огоньками электрических глаз.
Их движет и гонит через зеленые хляби воля банков, контор и пароходных компаний, жестокая, не знающая пощады и промедления деловая воля капитала.
На голубом мареве морского горизонта вырастают миражи сказочных стран. В сказочных странах ждут горы нужного банкам и конторам груза. Под ругань и свист бичей желтые, коричневые, черные рабы грузят в гулкие железные чрева пароходов материи и пряности, хлопок и руды, плоды и каучук, добытые, выращенные, собранные такими же рабами под такой же свист бичей. В грохоте лебедок тела пароходов оседают в стеклянную глубь, пока вода не закроет черту грузовой ватерлинии.
Сквозь туманы и волны, сквозь звездные сети и разнузданные вопли ураганов пароходы бережно несут свою ношу в далекие порты, чтобы не переставала кипеть сухая, щелкающая костяшками счетов таинственная работа на грохочущих улицах за зеркальными стеклами, до половины закрытыми зелеными шелковыми занавесками. За этими занавесками царство жадности.
Свисающие на шнурах лампы струят ровное мертвое сияние высокие конторки, на лысины, на землистые лица в очках, склоненные над гроссбухами и ресконтро.[13] Обладатели этих лиц так же жестки и сухи, как бумага конторских книг, и, когда они шевелят губами, кажется, что губы шелестят, как переворачиваемые страницы. На бумаге растут колонки и столбики цифр. Они управляют судьбой везомых пароходами грузов, хранящих в шелковистой на ощупь рогоже, обволакивающей тюки, странные дразнящие ароматы сказочных стран, цветущих за голубым маревом горизонтов.
Люди банков и контор не слышат этих запахов. Они знают единственный аромат хрустящих цветных бумажек, на которых скучными узорами ложатся цифры и короткие слова на всех языках земли.
Люди банков и контор обращают проведенные ими по страницам книг грузы в цветные бумажки и звонкие металлические кружки. Они спешат совершить это волшебное превращение, чтобы цифры, которые ежедневно пишет мелом на черной доске биржи бесстрастная рука маклера, оставались на спокойном уровне благополучия.
И снова, подчиняясь коротким, лающим приказам жадности, машины пароходов напрягают стальные мускулы, гнут облитые смазочным маслом колени и локти рычагов, трубы плюют в свежее океанское небо отравленной копотью, быстрее рокочут винты, и капитаны чаще спрашивают у вахтенных показания лага.
Капитаны опытны и спокойны, как капитан Джиббинс. Равнодушно стоят они на мостиках, нахлобучив синие с галунами фуражки и засунув руки в карманы. Прищуренными глазами они видят незримый другим путь, пролегающий между седыми лохмотьями пены.
Капитану Джиббинсу ясно виден путь от плоских зеленых берегов Нью-Орлеана до ярко-желтых рыхлых скал одесского приморья. И ему так же ясен путь превращения его груза в цветные бумажки и металлические кружки, часть которых переходит в оплату за труд капитана и матросов. Капитан откладывает большую долю этих бумажек для обеспечения своей семьи на черный день. Матросы, которым нечего откладывать, спускают свои деньги в приступах яростной тоски портовым кабатчикам и жалким размалеванным девкам. Деньги, совершив предначертанный кругооборот, возвращаются в банки, проходят по страницам книг и превращаются в новые грузы.
Пароходы принимают их в трюмы и снова идут морскими путями, коварными и зыбкими, полными неожиданностей, грозящих и капитану и матросам гибелью или потерей работы. Последнее страшнее гибели.
Поэтому ночью капитан Джиббинс трижды выходил на палубу, запахиваясь в короткое непромокаемое пальто, и спрашивал у вахтенного показания медной вертушки, меланхолично отзванивающей на корме над вспененной мерцающей влагой.
3
За переездом через рельсовые пути, свитые змеиным клубком под бревенчатыми пролетами эстакады, залегли по крутой улице низкие дома из ноздреватого закопченного камня. Днем и ночью их обдает грохотом и копотью от проходящих бесконечными вереницами кирпично-красных поездов, принимающих и подающих грузы к известняковым плитам причалов, о которые, шурша, трется мутно-зеленая вода.
Над дверью одного из домов золотые, облупленные буквы: «Контора по ремонту и чистке пароходных котлов П. К. Быкова».
В конторе за письменным столом сам Пров Кириакович Быков. Он один обслуживает свое предприятие и с утра до вечера неподвижно восседает на широком кресле. Кроме него, в конторе никого, если не считать двух портретов: императора и самодержца всероссийского Николая II и святителя Иоанна Кронштадтского.
На портрете самодержца две дырки. Случилось это два года назад, в дни, когда приходил в Одесский порт восставший броненосец «Потемкин». Простояв двое суток в порту, нагнав неслыханного страху на властей и вызвав в городе могучую вспышку революционной бури, броненосец ушел к югу. Опомнившиеся от паники сатрапы залили Одессу кровью баррикадных бойцов и мирного населения, а разъяренные черносотенцы организовали кровавый, звериный погром. Тогда в контору к Прову Кириаковичу ввалились громилы и пьяная босячня просить царский портрет, чтобы погулять всласть по улицам под прикрытием повелителя. Царь должен был освятить своим ликом резню и грабеж.
Но случилось иначе. Погром принял такой размах, что грозил перекинуться из районов городской голи в богатые кварталы и захлестнуть не только еврейские жилища. Вторично напуганные, власти отдали приказ любыми мерами прекратить погром, и, едва осатанелая орда отошла от конторы за угол, железно лязгнули три залпа. Пров Кириакович видел, как мимо окоп пронеслись обезумевшие погромщики и один из них бросил портрет на камни мостовой.
Когда проскакали драгуны и все утихло, Пров Кириакович выполз, как барсук из норы, и внес портрет обратно. Стекло высыпалось из рамы, а самодержец был изуродован двумя пулями. Одна оборвала ухо, другая влезла в ноздрю. Двое неизвестных стрелков, зажатых в тиски дисциплины, отвели душу хоть на царском портрете.
Пров Кириакович горько вздохнул. Приходилось покупать новый портрет, но тратиться было жалко, и, приглядевшись, он решил, что дело поправимо. Дырку в ноздре вовсе не заделывал — все равно и в природе там дырка, а ухо заклеил бумажкой и подчернил под цвет карандашиком.
Так и повис самодержец вдыхать конторскую пыль одной натуральной ноздрей. А быковские мальчишки-котлоскребы, что всегда толкались во дворе конторы, подглядели в окошко и непочтительно прозвали портрет: «Колька Рваная Ноздря».
Дело у Прова Кириаковича большое, известное всем в порту. Приходят в Одесский порт во все времена года сотни пароходов из разных чудных мест. У иного на корме название и портовая отметка написаны на таком языке, что даже спившийся студент-филолог Мотька Хлюп, который зимой ходит в навязанных на ноги войлочных татарских шляпах вместо ботинок, и тот прочесть не сумеет.
Долго ходят пароходы по морским путям, и засариваются у них от нагара и копоти дымоходные и котельные трубы. Чтобы отправиться дальше, нужно пароходу полечить свой желудок, прочистить железные кишки, соскрести с них всю нагарную дрянь. В док из-за такой мелочи становиться нет расчета, чистят на плаву, и тут-то и приходит на помощь больным пароходам котельный доктор Пров Кириакович.
Для этого у него целая рота мальчишек.
Узкие трубы еще уже становятся от нагара и накипи, взрослому человеку никак не справиться, а мальчишке по первому десятку в самый раз. Скользнет вьюном в больную трубу и лезет с одного конца до другого в тесноте, духоте и гарной вони и стальным скребком, а где надо — и зубилом, отбивает толстые пленки нагара и накипи с металла.
Пров Кириакович набирает своих мальчишек в самых нищих логовах города — на Пересыпи, Ближних и Дальних Мельницах, на Молдаванке. Только там можно найти охотников мучиться за пятиалтынный в день, на своих харчах.
Приходят к дверям быковской конторы механики больных судов всех наций. Быков принимает заказы, записывая их каракулями в торговую книгу. Натужно ему писать, грамоте обучился с трудом. Выводя буковки, сопит от усердия, размазывает чернила по бумаге мохнатой бородой карлы Черномора. А принявши заказ, открывает форточку во двор и орет всей глоткой:
— Сенька, Мишка, Пашка, Алешка!.. Гайда, байстрюки, на работу! Не копаться! Жив-ваа!
4
О'Хидди в новеньком чесучовом костюме и сверкающих оранжевых полуботинках, с камышовой тростью в руке, спустился по широкой одесской лестнице с бульвара, где истребил груду мороженого, и побрел по грязной, засыпанной угольной пылью улице, сопровождаемый комиссионером Лейзером Цвибель.
Лейзера знали все капитаны и механики, хоть раз побывавшие в Одесском порту. Он выполнял всевозможные поручения, начиная с внеочередного ввода в док океанских гигантов и до поставки веселящимся на твердой земле морякам беспечных и непритязательных минутных подруг.
Лейзер знал все языки, насколько это было необходимо для портового комиссионера в пределах названных обязанностей. Все языки он немилосердно коверкал, по все же ухитрялся заставлять понимать себя и был для морских людей, теряющихся на улицах чужого города, спасительной нитью Ариадны, выводящей из путаницы лабиринта. Только иногда, когда Лейзер бывал взволнован, он пускал в ход все языки сразу, и тогда понять его было окончательно невозможно.
Сейчас Лейзер провожал О'Хидди в контору Прова Кириаковича. Механик нашел бы дорогу и сам, он не в первый раз в своей бродяжной жизни гранил синие плитки лавы на одесских тротуарах, но объясниться с Быковым самостоятельно не сумел бы. Пров Кириакович знал по-английски только матросскую ругань, О'Хидди же мог произнести лишь три насущных, как хлеб, русских фразы: «Здрастэй», «Как живьош» и «Ти красивэй девуш, я льюблю тибэ». Но для деловых переговоров этого было недостаточно.
Пров Кириакович солидно привстал перед механиком и протянул пухлую, в черных волосиках, короткопалую лапу. О'Хидди энергично тряхнул ее. Лейзер торопливо и с осторожностью притронулся к кончикам быковских коротышек.
— Как себе живете, Пров Кириакович? — спросил он, ласково улыбаясь тревожной, настороженной улыбкой запуганного и забитого человека.
— Живем помаленьку. А ты как, ерусалимская курица?
— Ой, что значит курица? Если б я таки да был курицей, так я каждый день носил бы домой по зернышку и кормил бы деток. А то я не курица, а даже сказать совестно… пфе… Вот, может, сегодня заработаю, потому что таки да привел вам клиента… Ой, какого клиента, чтоб он долго жил. Так он даст мне немножко, и так вы себе дадите бедному еврею.
— А какая работа? — осведомился Быков, раскрывая книгу заказов.
— Ой, что за вопрос? Царская работа, чтоб ей легко икалось. Нужно вычистить мистеру котлы в два дня, потому что мистеру нужно торопиться до своей Америки и у него такой срочный фрахт, какого у меня никогда не будет.
— Два дня? За два дня и заплатить придется, как за два дня, — сумрачно отозвался Быков.
— Так разве я что говорю? Что мистеру стоит? Он же немного богаче старого Лейзера. Он согласен платить.
— Согласен так согласен. Скажи ему, что будет стоить…
Быков почесал нос и назвал головокружительную цифру. Цвибель вздрогнул и побледнел.
— Ой-ой! — прошептал он. — Это же совсем страшная цена. Разве ж я могу выговорить такую!
— А не хочет — не надо, — ответил, не меняя тона, Быков, — время горячее. Клиентов хватает. Не он — другой найдется.
Лейзер развел руками и робко повторил механику цифру по-английски. К его удивлению, О'Хидди даже не поморщился и ответил коротким: «Very well!»,[14] добавив, что если работа не будет кончена за двое суток, то за каждый день просрочки с Быкова будет удерживаться двадцать пять процентов.
— Нехай, — сказал Быков, записывая заказ, — ничего они не удержат, бо сделаю в срок, коли берусь.
Механик положил на стол задаток, взял расписку и кинул Цвибелю пять долларов за комиссию. Пожав еще раз руку Быкову, он вышел из конторы, оставив Цвибеля договариваться о деталях.
На тротуаре он остановился, привлеченный криками и смехом.
Пятеро чумазых, оборванных мальчишек играли на мостовой в классы, бросая битки и прыгая за ними на одной ножке.
О'Хидди не видел никогда этой игры и глядел с любопытством.
Один из мальчишек, маленький и вихрастый, скакал ловчее всех и задорно хохотал, радуясь своей удачливости. Выбросив ловким боковым движением ступни битку из очерченного мелом квадрата, он поднял голову и увидел механика. Губы его растянулись смехом, открыли два сверкающих ряда ровных, молочно-белых зубов. Он подбежал к О'Хидди, протягивая маленькую лапку, от копоти похожую на обезьянью, и закричал, приплясывая:
— Капитэн, капитэн! Гиф ми шиллинг иф ю плиз, чтобы ты скис. Гуд бай! Хав ду ю ду?[15]
О'Хидди осклабился. Русских слов, вкрапленных мальчишкой в английскую фразу, он не понял, но вспомнил таких же задорных чертенят на пристанях Нью-Орлеана и почуял теплое дыхание родного ветра.
Рука его сама полезла в карман пиджака и положила в протянутую лапку блестящий доллар. Монета молниеносно исчезла у мальчишки за щекой, он перекувырнулся, встал на руки и, похлопав босой пяткой о пятку, прокричал: «Гип-гип, ура!»
О'Хидди осклабился еще ласковее. Потрепал вставшего на ноги мальчишку по щеке, подивился его великолепным зубам хищного зверька и сказал одну из своих спасительных фраз:
— Здрастэй, как живьош?
Мальчишки заржали, и один, сплюнув, восторженно сказал:
— Ишь ты! По-нашему знает, собачья морда!
О'Хидди хотел сказать еще что-нибудь, по объяснение в любви красивой девушке явно не подходило к обстоятельствам, и он беспомощно крякнул.
Из неудобного положения его выручил трубный голос Быкова с крыльца конторы:
— Петька!.. Санька!.. Крыса!.. На работу!
О'Хидди вежливо приподнял фуражку, раскланялся с мальчишками и пошел в порт.
5
Среди быковских котлоскребов славился на все Черноморье одиннадцатилетний Митька, по прозвищу «Крыса», тот самый, который выудил у О'Хидди новенький доллар и чья белозубая усмешка так поправилась механику.
Никто не знал, откуда Митька, чей он, как его фамилия. Пров Кириакович подобрал его года два назад полумертвого, пылающего в жару, осенней ночью под эстакадой и, выходив и откормив немного, пустил в дело.
Остальные мальчишки имели семьи, были детьми одесской бедноты, грузчиков и каталей, у Митьки в Одессе и на тысячи верст кругом никого не было. Всеми расспросами удалось выудить из него подробность, что у мамки была синяя юбка. Но в мире много синих юбок, и с такой приметой Митька имел мало шансов отыскать пропавшую мамку, бросившую его в порту.
Расходы Прова Кириаковича на Митьку не пошли впустую. Для конторы он оказался золотым кладом. Худощавое, тонкое тело гнулось и сворачивалось в такие клубки, что у нормального человека полопались бы кости и мускулы. А в деле Прова Кириаковича гибкость была главным качеством. Там, где пасовали другие ребята, в ход пускался Митька. Он пролезал угрем в самые узкие трубы, он заползал в такие сокровенные закоулки, в такие изгибы, куда нельзя было добраться никакими способами без разборки механизмов. Однажды он умудрился пролезть через винтовую трубу насоса-рефрижератора, которая вертелась удавьей спиралью с полными оборотами через каждые полтора метра. Этот фокус прославил его имя во всем порту, и конкуренты Быкова не раз предлагали Митьке двойную плату, чтобы переманить такое чудо. Но у Митьки, помнящего только цвет мамкиной юбки, был свой рыцарский кодекс. Он презрительно хмыкал острым носиком, за который вместе со своей нечеловеческой гибкостью и получил кличку «Крыса», и отвечал сурово и зло:
— Значит, мине перед хузяином захудче блатного сволоча стать? Он мине откормил, отпоил, а я ему дулю в нос тыкнул? Мине у его хорошо!
Конкуренты чертыхались и отваливали ни с чем. Была даже попытка ликвидировать «Крысу», для чего подговорили десяток мальчишек «накрыть Митьку пальтом», но драку вовремя заметили матросы с «Чихачева» и успели отбить окровавленного мальчика.
Так «Крыса» и остался у Быкова, храня верность своему первому хозяину, и Пров Кириакович, часто хлеставший мальчишек чем попало и почем зря за малейшие провинности, никогда не трогал Митьку. Остерегался он не из жалости, а из боязни повредить такую драгоценную диковину.
И теперь, получив заказ на срочную чистку котлов «Мэджи», заказ выгодный и хорошо оплаченный, он решил отправить на работу Митьку, зная, что он один сделает работу за десятерых. Быков выдал мальчишкам скребки, зубила и молотки и отпустил их в сопровождении Лейзера, который должен был указать стоянку парохода.
О'Хидди, придя на корабль, явился в каюту Джиббинса.
— Свинство! — сказал он, входя и вытирая лоб. — В этом году и в Одессе не прохладнее, чем в тропиках. Из меня вытекли все соки. Дайте хлебнуть хоть нашего анафемского черри.
— Валяйте! — Джиббинс наполнил стакан. — Как дело с котлами?
— Договорился! Мистер Бикоф берется сделать за двое суток.
— Ол райт! Есть новая телеграмма от хозяина. Ленсби согласны удвоить премию, если мы сократим обратную дорогу еще на двое суток. Мы разбогатеем, Дикки. Я смогу положить в банк кое-что для будущего моих ребят.
Механик залпом выпил стакан.
— Мне ни к чему. У меня ребят нет… Но я вам сочувствую, Фред. А теперь пойду влезать в купальный костюм. Иначе сварюсь, как рак.
О'Хидди ушел. Джиббинс подошел к койке. Над ней на стене висела фотография полной пышноволосой женщины с двумя малышами на руках. Капитан вздохнул, растянулся на койке и задремал.
6
О'Хидди только что кончил обливаться водой, когда дверь каюты распахнул кочегар в замызганном и промасленном комбинезоне.
— Сэр! С берега пришли чистить котлы.
— Спустите их в кочегарку. Я сейчас приду.
Он вытерся, натянул трусы, повесил полотенце и, пройдя по палубе к машинному люку, легко спустился по звенящему металлом трапу в кочегарку.
Мальчишки напялили на себя твердые брезентовые мешки без рукавов, защищавшие тело от царапин при ползании по трубам.
Лейзер Цвибель вежливо поклонился механику.
— Они сейчас начнут. Они такие проворные мальчики. Будьте спокойны.
Один из мальчишек обернулся на голос Цвибеля и даже в сумраке кочегарки ослепил фарфоровым блеском зубов. Механик узнал того, которому дал доллар.
Он подмигнул мальчишке и опять сказал:
— Здрастэй, как живьош?
— Заладила сорока про Якова, — усмехнулся Митька, — сказано, живу хорошо. Ты не дрефь, дяденька, раз взялись — вычистим. Ну, ребята, айда!
Он засунул зубило и молоток в наружный карман мешка, взял в руки скребок и еще раз улыбнулся механику. Потом вперед головой нырнул в трубу. О'Хидди проследил, как остальные котлоскребы тоже исчезли в трубах, повернулся к Цвибелю и любезно пригласил его выпить кофе. Оценив такую вежливость, Цвибель пополз за механиком по трапу наверх, высоко подымая ноги в драных носках и цепляясь за перила.
В чистенькой каюте американца он пил сладкий кофе с кексом и даже рискнул выпить рюмку ликера. После этой рюмки он сразу загрустил. Ему вспомнилась его жалкая берлога на Молдаванке, где сидит вечно голодная Рахиль с девятью ребятишками. Вспомнилось, что поблизости от берлоги есть полицейский участок, а в нем господин пристав и что господину приставу нужно каждый месяц нести десять рублей, чтобы господин пристав был благосклонен к Лейзеру. И что нужно еще нести пять рублей господину околоточному и три рубля господину городовому. И от этих мыслей Цвибелю стало так тяжко, что он, забывшись, начал, ломая слова, рассказывать механику о своих горестях. Американец слушал вежливо, но, видимо, скучал. Лейзер заметил это, сконфузился, заторопился и встал, чтобы проститься.
Но дверь каюты распахнулась, и на пороге появился тот же кочегар.
— Простите, сэр… Немедленно спуститесь вниз.
— Зачем? — с явным неудовольствием спросил О'Хидди.
— Там неприятность. Один из мальчиков завяз в трубе и не может выбраться.
— Что?.. Damn![16] — выругался механик и выскочил из каюты.
В кочегарке он застал машинистов, кочегаров и быковских мальчишек. Все они тесным кружком столпились у отверстия трубы.
— В чем дело? — сердито спросил О'Хидди. — Почему толкучка? Как это случилось?
— Мальчик был уже глубоко в трубе, — степенно объяснил старший машинист, — и вдруг начал кричать. Мы сбежались, но не понимаем, что он кричал. Теперь он плачет. Очевидно, завяз и не может продвинуться.
— Ой, что такое? — вскричал Лейзер, сползший вниз вслед за О'Хидди. — Мальчики, скажите мне, что это такое?
— Митьку в трубе затерло.
— Залез, а вылезть не может.
— Ревет.
— Вытаскивать треба, — загалдели котлоскребы на разные голоса.
Лейзер ткнулся головой в трубу и, услыхав тихое всхлипывание, взволнованно спросил:
— Крыса!.. И что же это такое значит? Что с тобой сделалось, чтоб тебе отсохли печенки, когда ты так срамишь мене и хозяина?
Тонкий, прерываемый плачем голос «Крысы» глухо отозвался из трубы:
— Сам понять не можу, Лейзер Абрамович… Я, ей-же-богу, не виноватый. Лез по ей, как повсегда, а тут рука подвернулась под пузо… никак выдрать не можу… Больно! — И Митька опять заплакал.
Лейзер всплеснул руками.
— Она подвернулась!.. Вы видали такие штуки? И как она могла подвернуться, когда ты таки получаешь гроши, чтоб она не подвертывалась. Вылезай, чтоб тебе не кушалось, цудрейтер![17]
В трубе зашуршало и застонало.
— Ой, не можу… Ой, кость поломается, — донесся оттуда голос.
Лейзер задергался.
— Ты хочешь меня погубить, паршивец? — закричал он в трубу. — Так ты лучше вылезай, а то я скажу Прову Кириаковичу, он тебе уши оборвет.
— Не можу!
— А?.. Он не может… Вы такое слыхали? Петька! Лезай в трубу, цапай его за ноги, а мы будем тебя вместе с ним вытягивать. Полезай, паскудник! Ой, горе мне с такими детьми!
Петька полез в трубу.
— Держи его за ноги! Крепче! Не пускай! — командовал Лейзер. — Ухватил? Ну, мальчики, тащите Петьку за ноги. Чтоб вы мне его так вытащили, как я жив.
Мальчики с хохотом ухватились за торчащие из трубы Петькины босые грязные пятки и потащили. И вдруг из трубы вылетел раздирающий, мучительный вопль Митьки:
— Ой, мальчики, голубчики… оставьте… больно мне… рука… Ой-ой-ой!..
Котлоскребы растерянно выпустили торчащие из трубы Петькины ноги и не по-детски угрюмо переглянулись. Лейзер побледнел.
— Вы не беспокойтесь, мистер механик, — быстро заговорил он, — это ничего… Это совсем пустяки… Я сейчас привезу господина Быкова, он его вытащит в одну минуточку.
Он метнулся к трапу и побежал по нему с быстротой, которая сделала бы честь самому О'Хидди.
Оставшиеся молча стояли у рыдающей трубы.
— Нужно залить смазочным маслом, — предложил машинист, — она станет скользкой, и тогда мальчугана можно будет выволочь.
О'Хидди склонился над отверстием трубы. Он был огорчен, узнав, что в трубе застрял тот самый белозубый чертенок, который сразу привлек его внимание на улице. У механика засосало под ложечкой, и, чувствуя острое желание чем-нибудь помочь и досадуя на свое бессилие, он ласковым голосом позвал:
— Хэлло, бэби! Здрастэй, как живьош?
Мальчики хихикнули. Из трубы вместе с плачем долетел грустный ответ:
— Плохо!.. Рука болит, чисто сломанная.
Ничего не поняв, О'Хидди еще больше огорчился и взволновался, угрюмо зашагал взад-вперед по тесному пространству кочегарки.
7
Перекладины трапа задрожали и загудели под самим Провом Кириаковичем.
Не взглянув на взволнованного О'Хидди, Быков сразу рыкнул на мальчишек, которые, притихнув, сбились у трубы.
— Это что? Баклуши бить будете? А работать кому? Лезай в трубы, собачьи выскребки, а то всех в шею потурю.
— Крыса завяз, Пров Кириакович, — жалобно пропищал Петька.
Рука Прова Кириаковича ощутительно рванула Петькнно ухо.
— Ты еще балачки разводить, сопля? Тебя спрашивают?.. Завяз!.. Я ему покажу завязать… Марш в трубы! Вы мне гроши заплатите, коли в срок работу не кончу? У, сукины сыны!
Мальчишки сыпнули врозь и исчезли в трубах.
Пров Кириакович тяжелым шагом подошел к злосчастной трубе.
— Митька! — угрожающе позвал он. — Ты что ж, стервец? Пакостить вздумал? Вылезай сей минут!
— Пров Кириакович, миленький, родимый, не сердитеся. Я б сам рад, да не можу, истинный хрест. Совсем руку свернул, — услыхал он в ответ слабый, приглушенный металлом голос.
Быков налился кровью.
— Ты мне комедь не ломай, окаянный черт! Вылась, говорю, не то всю морду размолочу!
В трубе заплакало.
— Лучше убейте, не можу больше мучиться. Ой, больно!
Пров Кириакович почесал в затылке.
— Ишь ты!.. И впрямь застрял, пащенок… Треба веревкой за ноги взять и вытягивать.
Лейзер осторожно приблизился сзади к Быкову.
— Такое несчастье, такое несчастье… Мы уже пробовали — не вытаскивается… Господин машинист говорит — нужно залить смазочным маслом, тогда таки будет скользко…
— Брысь, жидюга! — отрезал Быков. — Без тебя знаю. Скажи гличанам, чтоб несли масло.
Широкоплечий канадец-кочегар с ножовым шрамом через всю щеку принес ведро с густым маслом. Пров Кириакович сбросил люстриновый пиджак и с размаху выплеснул масло глубоко в трубу.
— Швабру! — крикнул он испуганному Лейзеру и, выхватив швабру из рук кочегара, стал пропихивать в трубу.
— Еще ведро!
Второе ведро выплеснуло в трубу скользкую зеленовато-черную жижу.
— Петька! Лезай, сволота, с канатом. Вяжи его за ноги!
Петька полез в трубу. По его грязным щекам катились капли пота и слез. Ему было страшно и жаль «Крысу». Вскоре он выбрался обратно, весь черный и липкий от масла.
— Завязал, — прохрипел он, отплевываясь.
Пров Кириакович повертел конец веревки на руку и, перебросив через плечо, потянул. Труба взвыла отчаянным воплем.
— Цыц! — взбесился Быков. — Барин нашелся. Терпи, чичас вытяну!
Он вторично налег на веревку, и кочегарку пронизало нестерпимым криком. Прежде чем Пров Кириакович успел потянуть в третий раз, О'Хидди схватил его за плечи и отшвырнул в угол кочегарки на груду шлака.
— Скажите ему, что я не позволяю мучить мальчугана! — крикнул он Лейзеру.
Быков поднялся, сине-пунцовый от ярости.
— Ты!.. Передай этому нехристю — ежели так, пущай сам копается. А не хочет — придется трубу выламывать.
Лейзер, оцепенев, перевел.
О'Хидди тряхнул головой.
— Хорошо! Я пойду доложу капитану.
Он взбежал по трапу и исчез в люке. Пров Кириакович хотел потянуть еще раз, но канадец со шрамом угрожающе поднял стиснутый кулак, и Быков остался недвижим.
В люке снова появилась голова О'Хидди.
— Мистер Цвибель, поднимайтесь и попросите с собой мистера Бикофа. Капитан желает говорить с вами.
Пров Кириакович плюнул, чертыхнулся и полез наверх.
Капитан Джиббинс стоял у люка и смотрел на Быкова холодными прищуренными глазами. Он попросил объяснить ему, что случилось, и, выслушав рассказ Лензера, сказал неторопливо и скучающе:
— Выломать трубу я не могу позволить без согласия владельцев груза и хозяина. Я пошлю сейчас срочную телеграмму в Нью-Орлеан. А пока пробуйте так или иначе освободить мальчишку.
Быков в бешенстве полез вниз. В трубу лили еще масло, пробовали тянуть то быстрыми рывками, то медленно и осторожно, но каждое дерганье причиняло Митьке невыносимую боль, и кочегарка снова оглашалась дикими воплями. Митька рыдал и просил лучше убить его сразу.
Так тянулось до вечера. Вечером Быков, исчерпав весь запас ругани, ушел на берег. Кочегары тихо переговаривались, прислушиваясь к глухим всхлипываниям.
— Он долго не выдержит, — мрачно сказал канадец, — я говорю, что надо распиливать трубу ацетиленом.
— Джиббинс не позволит, — отозвался другой кочегар.
— Сволочь! — хрипнул канадец и ударил кулаком по трубе.
8
Утром капитан Джиббинс получил ответ на срочную телеграмму.
Он прочел его у себя в каюте, и лицо его каменело с каждой строчкой. Хозяин телеграфировал, что он не допускает никакой задержки из-за какого-то паскудного русского мальчишки и возлагает всю ответственность за последствия опоздания на Джиббинса.
«Мы всегда найдем в Америке капитана, который сумеет более преданно соблюдать интересы фирмы», — кончалась телеграмма.
Капитан Джиббинс закрыл глаза и, как наяву, увидел жену и двоих ребят. Его лицо дернулось. Резким движением он разодрал листок телеграммы и вышел на палубу. Там перед О'Хидди стоял Быков и, размахивая руками, что-то горячо объяснял Цвибелю. Цвибель увидел капитана и впился в него жалким, оробелым взглядом.
— Мистер капитан, вы уже имеете ответ из Америки?
— Да, — сухо ответил Джиббинс, — переведите мистеру Бикофу, что я не задержусь ни на один час. Сегодня вечером топки должны быть зажжены, а завтра утром мы уйдем. Если по вине мистера Бикофа этого не случится — ему придется оплатить все убытки компании и мои.
Быков стиснул кулаки и пустил крепчайшую ругань.
— А ты ж, треклятый ублюдок! Хоть бы ты сдох в трубе, сукин сын.
Лейзер отшатнулся.
— Что такое вы говорите, Пров Кириакович, что даже совсем страшно слушать. Разве на ребенке есть какая вина, чтоб он помер в таком нехорошем месте?
— Пошел ты к черту! — рявкнул Быков.
Капитан Джиббинс хотел уйти в каюту, но его остановил кочегар со шрамом, вылезший на палубу из машинного люка.
— Извините, сэр, — сказал канадец, — люди просят разрешения разрезать трубу. Больше ждать нельзя, мальчик едва дышит. Мы…
Бритые щеки Джиббинса слегка порозовели. Не повышая голоса, он ответил:
— Запрещаю.
— Но это убийство, сэр, — угрожающе надвинулся канадец, — мы этого не допустим. Мы разрежем трубу без вашего согласия.
— Попробуйте! — еще тише сказал Джиббинс. — Вы знаете, что такое бунт на корабле, и знаете, что по этому поводу говорит закон. Прошу вас… Я не дам двух пенсов за вашу шкуру. Понятно?
Шрам на щеке канадца налился кровью. Он обжег Джиббинса горячим взглядом, круто повернулся и скрылся в люке.
— Приглядите за людьми, О'Хидди. Вы отвечаете за машинную команду, — зло бросил механику Джиббинс и ушел в каюту.
Быков и Цвибель спустились в кочегарку. Митька уже не отвечал на оклики и только чуть слышно стонал. Колокол позвал команду к обеду. Кочегарка опустела. Быков нагнулся к трубе и долго прислушивался. Потом выпрямился и решительным движением надвинул картуз на брови.
— Идем к капитану, — приказал он Цвибелю и полез наверх.
Капитан Джиббинс жевал бифштекс и уставился на Быкова и Цвибеля спокойными, бесстрастными глазами.
— Вытащили? — спросил он, отрезав кусок сочащегося кровью мяса.
— Ничего не выходит, мистер капитан. Ой, какой страшный случай, — начал Лейзер, но Быков оборвал его. Он оперся руками на стол, и бурачное лицо его внезапно побледнело.
— Ты скажи ему, Лейзер, — заговорил он тихо, хотя никто не мог понять его, кроме Цвибеля, — скажи ему, что вытащить стервенка нельзя, а я платить протори не могу. Откудова ж у меня такие деньги? — Быков остановился, шумно вобрав в грудь воздух, и с воздухом глухо выдохнул: — Пусть затапливает топки с им вместе.
Лейзер охнул:
— Ой, Пров Кириакович! Разве можно такие шутки? Как я скажу такое американскому капитану, чтоб убить ребенка жаром? Лучше вы сами делайте что хотите, а я не могу. От меня и детей моих бог откажется за такое дело.
Быков перегнулся через стол.
— Слушай, Лейзер, — прошипел он, — я не шутю с тобой. Я не хочу пойти по миру из-за выскребка. Вот мое слово: если не скажешь капитану, кладу крест, расскажу господину приставу, как ты в запрошлом году ходил по Дерибасовской с красным флагом и кричал против царя.
Лейзер почувствовал холодное щекотание мурашек, пробежавших по спине, но попытался еще сопротивляться.
— Ну и что такое? — сказал он с жалкой и больной улыбкой. — Господин пристав ничего не скажет. Какой еврей тогда не ходил с красным флагом и не кричал разные глупости?
— Глупости? Про орла забыл? Думаешь, я не знаю.
Лейзер отшатнулся. Это был оглушительный удар. Значит, Быков знает об этом. О том, что Лейзер тщательно скрывал все время и думал, что это поросло травой забвения. О том, что он, Лейзер Цвибель, вместе с разгоряченными студентами сорвал лепного орла с аптеки на Маразлиевской и в забвенном исступлении топтал ногами его черные крылья. Это было гораздо страшнее красного флага. Лейзер закрыл глаза, а Быков продолжал шипеть:
— А Шликермана помнишь?
Цвибель простонал. Он вспомнил изуродованное тело Шликермана, до смерти забитого городовыми в участке, горько и глубоко вздохнул и решился.
— Грех вам, Пров Кириакович… Ну хорошо… Я скажу капитану.
Пока он переводил капитану Джиббинсу слова Быкова, у него тряслись руки и дрожали губы. Джиббинс выслушал молча. Ни одна черточка не шелохнулась на его гладком лице. Он вынул изо рта трубку и медленно ответил:
— Скажите мистеру Бикофу, что это его дело. Мальчишка его и предприятие его. Пусть устраивается, как знает… если сумеет сохранить все в тайне от моей команды и как-нибудь обмануть людей. Я ничего не слыхал и ничего не знаю. Но вечером топки будут зажжены.
Быков поджал губы и вышел с Цвибелем на палубу. Бирюзовые тени вечера ложились на штилевой рейд. Стояла вечерняя тишина, разрываемая только криками чаек, дерущихся на воде из-за отбросов. Быков повернулся к Цвибелю и, наливаясь кровью, прошептал дико и грозно:
— Если одно слово кому — запомни: со света сживу.
9
В кочегарке не было никого, кроме мальчишек. Американцы еще не вернулись с обеда. Мальчишки, перешептываясь, стояли около трубы, в отверстие которой засунул голову Петька. Быков схватил Петьку за оттопыренный на спине брезент и рванул к себе. Петька вытаращил в испуге глаза, белые, как пуговицы, на черном лице.
— Ты чего тут засунулся, стервец? Опять лайдачите? Всех поубиваю к чертовой матери! — зарычал Пров Кириакович, приподняв Петьку на воздух.
— Дак мы пошабашили, Пров Кирьякич! — взвизгнул Петька. — Зараз все трубы кончили, ей-же-ей. Кабы не Крыса, все б раньше часу сробили.
Пров Кириакович оглянулся на квадратную дыру люка вверху, над которой синело небо, подтащил Петьку к себе и забормотал:
— Чичас полезай в трубу к Крысе. На, завяжи веревку себе на ногу и полезай. Как гличане с обеда придут, я тебя тащить оттеда буду, а ты кричи в голос. Неначе ты не Петька, а Крыса.
— Зачем, Пров Кирьякич?
— Ты еще поспрашивай!.. А как вытащу — реви коровой, будто с радости. Ну, марш! А то в два счета к чертовой матери! А вы — молчать в домовину, бо десять шкур поспускаю! — крикнул он трем остальным.
Петька исчез в трубе, из которой свисала веревка. Отверстие люка наверху потемнело, и по перекладинам трапа загремели шаги спускающихся американцев.
Цвибель шумно вздохнул и осмелился притронуться к локтю Быкова.
— Пров Кириакович, — выдавил он, дрожа, — ужели ж вы себе хотите так загублять невинное дите?
Быков взглянул на него.
— И до чего ж вы жалостливая нация! — сказал он с презрительным недоумением. — Должно, с того вас и бьют во всех землях… — И вдруг вскипел злобой, прикрикнул: — Твой, что ли? Твое какое дело? Я его нашел — я за него и ответчик. Все одно у него никого — бездомный, никто не спросит. А спросит — скажу: сбег, уехал с гличанами. Пшел!
Лейзер отпрянул. Спустившиеся кочегары приблизились к трубе. Быков крякнул, ухватил веревку и, натужась, потянул. Петька в трубе завыл. Веревка стала подаваться.
— Тащи!.. Тащи! — заорал Быков, и кочегары, поняв, тоже ухватились за конец. Показались Петькины ноги, зад и наконец выскользнуло все тело. Растопырив руки, Петька грохнулся лицом в железный пол, усеянный острыми комьями шлака. Он сильно расшиб лоб и разревелся уже непритворно. Кочегары, загалдев, подхватили его и поволокли по трапу на палубу. Канадец платком стер кровь с расшибленного Петькина лба и хотел вытереть все лицо, покрытое жирным налетом смазки, но Быков вырвал мальчика из его рук и потащил к сходне. По дороге он наткнулся на вышедшего на шум О'Хидди.
— Что случилось? — спросил механик.
Канадец, торопясь, объяснил ему, что мальчика удалось вытащить.
О'Хидди подошел к Быкову. Ему захотелось сказать спасенному что-нибудь ободряющее и ласковое. Он прикоснулся ладонью к слипшимся Петькиным волосам. Петька повернул голову, открыл рот, и механик увидел черные испорченные зубы, нисколько не похожие на блестящий частокол зубов Митьки. О'Хидди отнял руку и с недоумением проследил за Быковым, стремительно сбежавшим на пирс, таща за собой Петьку. Когда тот скрылся за углом пакгауза, механик отошел от борта и спустился в кочегарку.
Мальчики, собрав инструмент, тоже собирались уходить. О'Хидди подождал, пока они взобрались наверх, взял багор и глубоко просунул его в трубу. Багор наткнулся на мягкое препятствие, и О'Хидди услыхал чуть слышный звук, похожий на жалкое мяуканье.
Он отбросил багор и в несколько прыжков одолел трап. На палубе он умерил шаги и постучался в дверь капитанской каюты.
Джиббинс удивленно посмотрел на механика, на бледное лицо с расширенными васильковыми глазами, на капли пота на лбу.
— Что с вами, Дикки? — спросил он.
Механик задыхался.
— Фред!.. Совершено преступление. Этот негодяй Бикоф обманул нас. Он вытащил из трубы другого мальчика. Тот остался там. Он уже почти умер, он не может даже ответить…
Капитан Джиббинс вертел в руке трубку. Лицо его стало очень неподвижным и тяжелым.
— Я так и думал, — медленно произнес он.
Механик отшатнулся.
— Как? Вы знаете это?
— Не знаю, но я предполагал. — Джиббинс зажал трубку в зубах и, чиркнув спичкой о подошву, медленно разжег табак. — Но это все равно. У нас нет выхода. Мы должны уйти завтра утром, как только погрузим последний мешок жмыха. В десять вечера вы разожжете топки.
— Вы с ума сошли! А ребенок?
Капитан Джиббинс поднял голову. Глаза у него стали зеленовато-холодными, как кусочки льда.
— Выслушайте меня, приятель! Если я не исполню приказа хозяина, меня вышвырнут и занесут в черный список. Ни одна компания не возьмет меня на работу. Вы холостяк. У меня есть дети и жена. Я знаю, что совершено преступление, если смотреть на вещи с точки зрения общей морали. Но в данном случае я смотрю с точки зрения личной морали. Я человек и не хочу, чтобы моя семья подохла под забором. Мне дороги мои дети. Может быть, вы не поймете этого, но, когда я думаю о том, что будет с моими детьми, я принимаю на себя ответственность… И вы не захотите сделать моих детей такими же отщепенцами и нищими, как этот мальчишка…
— Но команда…
— Команда не узнает ничего, если вы ей не скажете. А вы не скажете потому, что не захотите смерти моим детям. Мальчика все равно уже не спасти. Еще два-три часа, и он задохнется… В десять мы засыпаем уголь в топки. Это приказ!
О'Хидди стиснул виски. Ему показалось, что голова у него раздувается, как резиновый шар, и сейчас лопнет.
— Хорошо!.. Я буду молчать. Да простит господь мне и вам, Фред!
10
«Мэджи Дальтон» вышла из одесской гавани ровно в полдень, взяв полный груз. На пирсе было пустынно, и только у пакгауза жалась скорченная фигура в длинном потертом сюртуке. Лейзер Цвибель пришел проводить пароход, потому что у него было девять голодных детей и жалостливое к детям, никому не нужное сердце. Когда «Мэджи» свернула за выступ мола, он ушел с пирса, унося на собственной спине никому не видимый страшный груз.
«Мэджи» благополучно прошла Босфор и Гибралтар. Машины работали хорошо, взятый в Одессе уголь был отличного качества, люди работали превосходно, и только старший механик О'Хидди с утра напивался до одурения и лежал у себя в каюте опухший и страшный.
За Гибралтаром «Мэджи» вступила в Атлантику на путь, проложенный пять веков назад упрямым генуэзцем, и в первую же ночь механик О'Хидди на глазах вахтенных матросов прыгнул со спардека за борт. Погода была свежая, ветер гнал тяжелую волну, и шлюпки спустить было рискованно. Капитан Джиббинс отметил этот печальный случай короткой записью в вахтенном журнале.
Одиннадцать дней «Мэджи» резала океанскую волну и на двенадцатый встала у родного причала в гавани Нью-Орлеана. Хозяин вместе с главой фирмы Ленсби, сухим джентльменом в белом цилиндре по летнему времени, взошел на палубу поблагодарить капитана Джиббинса за удачный рейс и образцовую службу.
— Мы даем вам, кроме премии, еще специальную награду, и мистер Ленсби, со своей стороны, тоже нашел нужным премировать вас за усердие… Кстати, как вы развязались с этой заминкой в Одессе?
Капитан Джиббинс поклонился.
— Благодарю вас. Это пустяк. Не стоит и вспоминать, — ответил Джиббинс.
На нем, как всегда, была синяя фуражка с галунами и в зубах капитанская трубка с изгрызенным мундштуком. Лицо капитана Джиббинса было гладким и спокойным.
Ночью, когда отпущенная команда съехала на берег и на пароходе остался лишь один вахтенный, капитан Джиббинс спустился в кочегарку. Задраив люк на все барашки, он взял длинную кочергу и запустил ее в отверстие трубы. Он долго ковырял ею в глубине трубы. На железный решетчатый пол выпало несколько обгорелых костей, потом с гулким и пустым стуком вывалился кругляшек маленького черепа. Запущенная еще раз кочерга выволокла что-то звонко упавшее на пол. Джиббинс нагнулся и поднял небольшую железную коробочку, в каких упаковываются дешевые леденцы. Коробка была покрыта темным нагаром. Капитан вынул нож и, подсунув под крышку, открыл коробку. На дне ее лежало несколько медных пуговиц и черный от огня доллар. Джиббинс захлопнул коробку и сунул ее в карман. Потом опустился на колени, разостлал платок и собрал в него кости и череп. Выйдя на палубу, он подошел к борту и бросил связанный узлом платок в черную, чуть колышущуюся воду.
В каюте он подошел к столу, взял бутылку виски, налил полный стакан и поднес ко рту, но не выпил. Постоял минуту, провел рукой по лицу, как будто стирая дрожь мускула под скулой, и, подойдя к открытому иллюминатору, выплеснул виски за борт.
Утром, съехав на берег, капитан Джиббинс зашел к знакомому ювелиру и попросил впаять темный обожженный доллар в крышку своего серебряного портсигара.
— Откуда у вас эта штука, Джиббинс? — спросил ювелир, вращая доллар в пухлых пальцах.
Капитан Джиббинс нахмурился.
— Мне не хочется об этом рассказывать. Неприятная история. Но я хочу сохранить эту монету на память.
Он вежливо простился с ювелиром и вышел на улицу. Он шел домой, радуясь тому, что сейчас увидит жену и детей и осчастливит семью известием о премии, полученной за срочный фрахт. Он был спокоен и уверен в завтрашнем дне и твердо шагал среди шума и грохота улицы мимо домов, за зеркальными стеклами которых, прикрытыми до половины зелеными шелковыми занавесками, закипала сухая, щелкающая костяшками счетов, размеренная работа человеческой жадности.
Сочи, август 1925 г.
Борис Лавренев. «Срочный фрахт».
Художник И. Пчелко.
МИХАИЛ БУЛГАКОВ
СТАЛЬНОЕ ГОРЛО[18]
Итак, я остался один. Вокруг меня — ноябрьская тьма с вертящимся снегом, дом завалило, в трубах завыло. Все двадцать четыре года моей жизни я прожил в громадном городе и думал, что вьюга воет только в романах. Оказалось: она воет на самом деле. Вечера здесь необыкновенно длинны, лампа под синим абажуром отражалась в черном окне, и я мечтал, глядя на пятно, светящееся на левой руке от меня. Мечтал об уездном городе — он находился в сорока верстах от меня. Мне очень хотелось убежать с моего пункта туда. Там было электричество, четыре врача, с ними можно было посоветоваться, во всяком случае, не так страшно. Но убежать не было никакой возможности, да временами я и сам понимал, что это малодушие. Ведь именно для этого я учился на медицинском факультете…
«…Ну, а если привезут женщину и у нее неправильные роды? Или, предположим, больного, а у него ущемленная грыжа? Что я буду делать? Посоветуйте, будьте добры. Сорок восемь дней тому назад я кончил факультет с отличием, но отличие само по себе, а грыжа сама по себе. Один раз я видел, как профессор делал операцию ущемленной грыжи. Он делал, а я сидел в амфитеатре. И только…»
Холодный пот неоднократно стекал у меня вдоль позвоночного столба при мысли о грыже. Каждый вечер я сидел в одной и той же позе, напившись чаю: под левой рукой у меня лежали все руководства по оперативному акушерству, сверху маленький Додерляйн.[19] А справа десять различных томов по оперативной хирургии, с рисунками. Я кряхтел, курил, пил черный холодный чай…
И вот я заснул: отлично помню эту ночь — 29 ноября, я проснулся от грохота в двери. Минут пять спустя я, надевая брюки, не сводил молящих глаз с божественных книг оперативной хирургии. Я слышал скрип полозьев во дворе: уши мои стали необычайно чуткими. Вышло, пожалуй, еще страшнее, чем грыжа, чем поперечное положение младенца: привезли ко мне в Никольский пункт-больницу в одиннадцать часов ночи девочку. Сиделка глухо сказала:
— Слабая девочка, помирает… Пожалуйте, доктор, в больницу…
Помню, я пересек двор, шел на керосиновый фонарь у подъезда больницы, как зачарованный смотрел, как он мигает. Приемная уже была освещена, и весь состав моих помощников ждал меня уже одетый и в халатах. Это были: фельдшер Демьян Лукич, молодой еще, но очень способный человек, и две опытных акушерки — Анна Николаевна и Пелагея Ивановна. Я же был всего лишь двадцатичетырехлетним врачом, два месяца назад выпущенным и назначенным заведовать Никольской больницей.
Фельдшер распахнул торжественно дверь, и появилась мать. Она как бы влетела, скользя в валенках, и снег еще не стаял у нее на платке. В руках у нее был сверток, и он мерно шипел, свистел. Лицо у матери было искажено, она беззвучно плакала. Когда она сбросила свой тулуп и платок и распутала сверток, я увидел девочку лет трех. Я посмотрел на нее и забыл на время оперативную хирургию, одиночество, мой негодный университетский груз, забыл все решительно из-за красоты девочки. С чем бы ее сравнить? Только на конфетных коробках рисуют таких детей — волосы сами от природы вьются в крупные кольца почти спелой ржи. Глаза синие, громаднейшие, щеки кукольные. Ангелов так рисовали. Но только странная муть гнездилась на дне ее глаз, и я понял, что это страх, — ей нечем было дышать. «Она умрет через час», — подумал я совершенно уверенно, и сердце мое болезненно сжалось…
Ямки втягивались в горле у девочки при каждом дыхании, жилы надувались, а лицо отливало из розоватого в легонький лиловатый цвет. Эту расцветку я сразу понял и оценил. Я тут же сообразил, в чем дело, и первый мой диагноз поставил совершенно правильно, и главное, одновременно с акушерками — они-то были опытны: «У девочки дифтерийный круп, горло уже забито пленками и скоро закроется наглухо…»
— Сколько дней девочка больна? — спросил я среди насторожившегося молчания моего персонала.
— Пятый день, пятый, — сказала мать и сухими глазами глубоко посмотрела на меня.
— Дифтерийный круп, — сквозь зубы сказал я фельдшеру, а матери сказал:
— Ты о чем же думала? О чем думала?
И в это время раздался сзади меня плаксивый голос:
— Пятый, батюшка, пятый!
Я обернулся и увидел бесшумную, круглолицую бабку в платке. «Хорошо было бы, если б бабок этих вообще на свете не было», — подумал я в тоскливом предчувствии опасности и сказал:
— Ты, бабка, замолчи, мешаешь. — Матери же повторил: — О чем ты думала? Пять дней? А?
Мать вдруг автоматическим движением передала девочку бабке и стала передо мною на колени.
— Дай ей капель, — сказала она и стукнулась лбом в пол, — удавлюсь я, если она помрет.
— Встань сию же минуточку, — ответил я, — а то я с тобой и разговаривать не стану.
Мать быстро встала, прошелестев широкой юбкой, приняла девчонку у бабки и стала качать. Бабка начала молиться на косяк, а девочка все дышала со змеиным свистом. Фельдшер сказал:
— Так они все делают. На-род. — Усы у него при этом скривились набок.
— Что ж, значит, помрет она? — глядя на меня, как мне показалось, с черной яростью, спросила мать.
— Помрет, — негромко и твердо сказал я.
Бабка тотчас завернула подол и стала им вытирать глаза. Мать же крикнула мне нехорошим голосом:
— Дай ей, помоги! Капель дай!
Я ясно видел, что меня ждет, и был тверд.
— Каких же я капель дам? Посоветуй. Девочка задыхается, горло ей уже забило. Ты пять дней морила девчонку в пятнадцати верстах от меня. А теперь что прикажешь делать?
— Тебе лучше знать, батюшка, — заныла у меня на левом плече бабка искусственным голосом, и я ее сразу возненавидел.
— Замолчи! — сказал ей. И, обратившись к фельдшеру, приказал взять девочку. Мать подала акушерке девочку, которая стала биться и хотела, видимо, кричать, но у нее не выходил уже голос. Мать хотела ее защитить, но мы ее отстранили, и мне удалось заглянуть при свете лампы-«молнии» девочке в горло. Я никогда до тех пор не видел дифтерита, кроме легких и быстро забывшихся случаев. В горле было что-то клокочущее, белое, рваное. Девочка вдруг выдохнула и плюнула мне в лицо, но я почему-то не испугался за глаза, занятый своей мыслью.
— Вот что, — сказал я, удивляясь собственному спокойствию, — дело такое. Поздно. Девочка умирает. И ничто ей не поможет, кроме одного — операции.
И сам ужаснулся, зачем сказал, но не сказать не мог. «А если они согласятся?» — мелькнула у меня мысль.
— Как это? — спросила мать.
— Нужно будет горло разрезать пониже и серебряную трубку вставить, дать девочке возможность дышать, тогда, может быть, спасем ее, — объяснил я.
Мать посмотрела на меня, как на безумного, и девочку от меня заслонила руками, а бабка снова забубнила:
— Что ты! Не давай резать! Что ты? Горло-то?!
— Уйди, бабка! — с ненавистью сказал я ей. — Камфару впрысните! — приказал я фельдшеру.
Мать не давала девочку, когда увидела шприц, но мы ей объяснили, что это не страшно.
— Может, это ей поможет? — спросила мать.
— Нисколько не поможет.
Тогда мать зарыдала.
— Перестань, — промолвил я. Вынул часы и добавил: — Пять минут даю думать. Если не согласитесь, после пяти минут сам уже не возьмусь делать.
— Не согласна! — резко сказала мать.
— Нет нашего согласия! — добавила бабка.
— Ну, как хотите, — глухо добавил я и подумал: «Ну, вот и все! Мне легче. Я сказал, предложил, вон у акушерок изумленные глаза. Они отказались, и я спасен». И только что подумал, как другой кто-то за меня чужим голосом вымолвил:
— Что вы, с ума сошли? Как это так не согласны? Губите девочку. Соглашайтесь. Как вам не жаль?
— Нет! — снова крикнула мать.
Внутри себя я думал так: «Что я делаю? Ведь я же зарежу девочку». А говорил иное:
— Ну, скорей, скорей соглашайтесь! Соглашайтесь! Ведь у нее уже ногти синеют.
— Нет! Нет!
— Ну что же, уведите их в палату, пусть там сидят.
Их увели через полутемный коридор. Я слышал плач женщин и свист девочки. Фельдшер тотчас же вернулся и сказал:
— Соглашаются!
Внутри у меня все окаменело, но выговорил я ясно:
— Стерилизуйте немедленно нож, ножницы, крючки, зонд!
Через минуту я перебежал двор, где, как бес, летала и шаркала метель, прибежал к себе и, считая минуты, ухватился за книгу, перелистал ее, нашел рисунок, изображающий трахеотомию. На нем все было ясно и просто: горло раскрыто, нож вонзен в дыхательное горло. Я стал читать текст, по ничего не понимал, слова как-то прыгали в глазах. Я никогда не видел, как делают трахеотомию. «Э, теперь уж поздно», — подумал я, взглянул с тоской на синий цвет, на яркий рисунок, почувствовал, что свалилось на меня трудное, страшное дело, и вернулся, не заметив вьюги, в больницу.
В приемной тень с круглыми юбками прилипла ко мне, и голос заныл:
— Батюшка, как же так, горло девчонке резать? Да разве же это мыслимо? Она, глупая баба, согласилась. А моего согласия нету, нету. Каплями согласна лечить, а горло резать не дам.
— Бабку эту вон! — закричал я и в запальчивости добавил: — Ты сама глупая баба! Сама! А та именно умная! И вообще никто тебя не спрашивает! Вон ее!
Акушерка цепко обняла бабку и вытолкнула ее из палаты.
— Готово! — вдруг сказал фельдшер.
Мы вошли в малую операционную, и я, как сквозь завесу, увидал блестящие инструменты, ослепительную лампу, клеенку… В последний раз я вышел к матери, из рук которой девочку еле вырвали. Я услыхал лишь хриплый голос, который говорил: «Мужа нет. Он в городу. Придет, узнает, что я наделала, убьет меня!»
— Убьет, — повторила бабка, глядя на меня в ужасе.
— В операционную их не пускать! — приказал я.
Мы остались одни в операционной. Персонал, я и Лидка — девочка. Она, голенькая, сидела на столе и беззвучно плакала. Ее повалили на стол, прижали, горло ее вымыли, смазали йодом, и я взял нож; при этом подумал: «Что я делаю?» Было очень тихо в операционной. Я взял нож и провел вертикальную черту по пухлому белому горлу. Не выступило ни одной капли крови. Я второй раз провел ножом по белой полоске, которая выступила меж раздавшейся кожей. Опять ни кровинки. Медленно, стараясь вспомнить какие-то рисунки в атласах, я стал при помощи тупого зонда разделять тоненькие ткани. И тогда внизу раны откуда-то хлынула темная кровь и мгновенно залила всю рану и потекла по шее. Фельдшер тампонами стал вытирать ее, но она не унималась. Вспоминая все, что я видел в университете, я пинцетами стал зажимать края раны, но ничего не выходило.
Мне стало холодно, и лоб мой намок. Я остро пожалел, зачем пошел на медицинский факультет, зачем попал в эту глушь. В злобном отчаянии я сунул пинцет наобум, куда-то близ раны, защелкнул его, и кровь тотчас же перестала течь. Рану мы отсосали комками марли, она предстала передо мной чистой и абсолютно непонятной. Никакого дыхательного горла нигде не было. Ни на какой рисунок не походила моя рана. Еще прошло минуты две-три, во время которых я совершенно механически и бестолково ковырял в ране то ножом, то зондом, ища дыхательное горло. И к концу второй минуты я отчаялся его найти. «Конец, — подумал я, — зачем я это сделал? Ведь мог же я не предлагать операцию, и Лидка спокойно умерла бы у меня в палате, а теперь она умрет с разорванным горлом, и никогда, ничем я не докажу, что она все равно умерла бы, что я не мог повредить ей…» Акушерка молча вытерла мой лоб. «Положить нож, сказать: не знаю, что дальше делать», — так подумал я, и мне представились глаза матери. Я снова поднял нож и бессмысленно, глубоко и резко полоснул Лидку. Ткани разъехались, и неожиданно передо мной оказалось дыхательное горло.
— Крючки! — сипло бросил я.
Фельдшер подал их. Я вонзил один крючок с одной стороны, другой — с другой, и один из них передал фельдшеру. Теперь я видел только одно: сероватые колечки горла. Острый нож я вколол в горло — и обмер. Горло поднялось из раны, фельдшер, как мелькнуло у меня в голове, сошел с ума: он стал вдруг выдирать его вон. Ахнули за спиной у меня обе акушерки. Я поднял глаза и понял, в чем дело: фельдшер, оказывается, стал падать в обморок от духоты и, не выпуская крючка, рвал дыхательное горло. «Всё против меня, судьба, — подумал я, — теперь уж, несомненно, зарезали мы Лидку, — и мысленно строго добавил: — Только дойду домой — и застрелюсь…» Тут старшая акушерка, видимо, очень опытная, как-то хищно рванулась к фельдшеру и перехватила у него крючок, причем сказала, стиснув зубы:
— Продолжайте, доктор…
Фельдшер со стуком упал, ударился, но мы не глядели на него. Я вколол нож в горло, затем серебряную трубку вложил в него. Она ловко вскользнула, но Лидка осталась недвижимой. Воздух не вошел к ней в горло, как это нужно было. Я глубоко вздохнул и остановился: больше делать мне было нечего. Мне хотелось у кого-то попросить прощенья, покаяться в своем легкомыслии, в том, что я поступил на медицинский факультет. Стояло молчание. Я видел, как Лидка синела. Я хотел уже все бросить и заплакать, как вдруг Лидка дико содрогнулась, фонтаном выкинула дрянные сгустки сквозь трубку, и воздух со свистом вошел к ней в горло; потом девочка задышала и стала реветь. Фельдшер в это мгновение привстал, бледный и потный, тупо и в ужасе поглядел на горло и стал помогать мне его зашивать.
Сквозь сон и пелену пота, застилавшую мне глаза, я видел счастливые лица акушерок, и одна из них мне сказала:
— Ну и блестяще же вы сделали, доктор, операцию.
Я подумал, что она смеется надо мной, и мрачно, исподлобья глянул на нее. Потом распахнулись двери, повеяло свежестью. Лидку вынесли в простыне, и сразу же в дверях показалась мать, глаза у нее были как у дикого зверя. Она спросила у меня:
— Что?
Когда я услышал звук ее голоса, пот потек у меня по спине, только тогда сообразил, что было бы, если бы Лидка умерла на голе. Но голосом очень спокойным я ей ответил:
— Будь поспокойнее. Жива. Будет, надеюсь, жива. Только, пока трубку не вынем, ни слова не будет говорить, так не бойтесь.
И тут бабка выросла из-под земли и перекрестилась на дверью ручку, на меня, на потолок. Но я уж не рассердился на нее. Повернулся, приказал Лидке впрыснуть камфару и по очереди дежурить возле нее. Затем ушел к себе через двор. Помню, синий свет горел у меня в кабинете, лежал Додерляйн, валялись книги. Я подошел к дивану одетый, лег на него и сейчас же перестал видеть что бы то ни было; заснул и даже снов не видел.
Прошел месяц, другой. Много я уже перевидал, и было уже кое-что страшнее Лидкиного горла. Я про него и забыл. Кругом был снег, прием увеличивался с каждым днем. И как-то, в новом уже году, вошла ко мне в приемную женщина и ввела за ручку укутанную, как тумбочка, девочку. Женщина сияла глазами, всмотрелся — узнал.
— А, Лидка! Ну, что?
— Да хорошо все.
Лидке распутали горло. Она дичилась и боялась, но все же мне удалось поднять подбородок и заглянуть. На розовой шее был вертикальный коричневый шрам и два тоненьких поперечных от швов.
— Все в порядке, — сказал я, — можете больше не приезжать.
— Благодарю вас, доктор, спасибо, — сказала мать, а Лидке велела: — Скажи дяденьке спасибо!
Но Лидка не желала мне ничего говорить.
Больше я никогда в жизни ее не видел. Я стал забывать ее. А прием мой все возрастал. Вот настал день, когда я принял сто десять человек. Мы начали в девять часов утра и кончили в восемь часов вечера. Я, пошатываясь, снимал халат. Старшая акушерка-фельдшерица сказала мне:
— За такой прием благодарите трахеотомию. Вы знаете, что в деревнях говорят? Будто вы больной Лидке вместо ее горла вставили стальное и зашили. Специально ездят в эту деревню глядеть на нее. Вот вам и слава, доктор, поздравляю.
— Так и живет со стальным? — осведомился я.
— Так и живет. Ну, а вы, доктор, молодец. И хладнокровно как делаете, прелесть!
— М-да… Я, знаете ли, никогда не волнуюсь, — сказал я неизвестно зачем, но почувствовал, что от усталости даже устыдиться не могу, только глаза отвел в сторону. Попрощался и ушел к себе. Крупный снег шел, все застилало, фонарь горел, и дом мой был одинок, спокоен и важен. И я, когда шел, хотел одного — спать.
1925
АЛЕКСАНДР ГРИН
ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ФУТОВ[20]
1
— Итак, она вам отказала обоим? — спросил на прощанье хозяин степной гостиницы. — Что вы сказали?
Род молча приподнял шляпу и зашагал; так же поступил Кист. Рудокопы досадовали на себя за то, что разболтались вчера вечером, под властью винных паров. Теперь хозяин пытался подтрунить над ними; по крайней мере, этот его последний вопрос почти не скрывал усмешки.
Когда гостиница исчезла за поворотом, Род, неловко усмехаясь, сказал:
— Это ты захотел водки. Не будь водки, у Кэт не горели бы щеки от стыда за наш разговор, даром что девушка за две тысячи миль от нас. Какое дело этой акуле…
— Но что же особенного узнал трактирщик? — хмуро возразил Кист. — Ну… любил ты… любил я… любили одну. Ей — все равно… Вообще был ведь разговор этот о женщинах.
— Ты не понимаешь, — сказал Род. — Мы сделали нехорошо по отношению к ней: произнесли ее имя в… за стойкой. Ну, и довольно об этом.
Несмотря на то, что девушка крепко сидела у каждого в сердце, они остались товарищами. Неизвестно, что было бы в случае предпочтения. Сердечное несчастье даже сблизило их; оба они, мысленно, смотрели на Кэт в телескоп, а никто так не сроден друг другу, как астрономы. Поэтому их отношения не нарушались.
Как сказал Кист: «Кэт было все равно». Но не совсем. Однако она молчала.
2
«Кто любит, тот идет до конца». Когда оба — Род и Кист — пришли прощаться, она подумала, что вернуться и снова повторить объяснение должен самый сильный и стойкий в чувстве своем. Так, может быть, немного жестоко, рассуждал восемнадцатилетний Соломон в юбке. Между тем оба нравились девушке. Она не понимала, как можно отойти от нее далее четырех миль без желания вернуться через двадцать четыре часа. Однако серьезный вид рудокопов, их плотно уложенные мешки и те слова, какие говорятся только при настоящей разлуке, немного разозлили ее. Ей было душевно трудно, и она отомстила за это.
— Ступайте, — сказала Кэт. — Свет велик. Не все же будете вы вдвоем припадать к одному окошку.
Говоря так, думала она вначале, что скоро, очень скоро явится веселый, живой Кист. Затем прошел месяц, и внушительность этого срока перевела ее мысли к Роду, с которым она всегда чувствовала себя проще. Род был большеголов, очень силен и мало разговорчив, но смотрел на нее так добродушно, что она однажды сказала ему: «цып-цып…»
3
Прямой путь в Солнечные Карьеры лежал через смешение скал — отрог цепи, пересекающий лес. Здесь были тропинки, значение и связь которых путники узнали в гостинице. Почти весь день они шли, придерживаясь верного направления, но к вечеру начали понемногу сбиваться. Самая крупная ошибка произошла у Плоского Камня — обломка скалы, некогда сброшенного землетрясением. От усталости память о поворотах изменила им, и они пошли вверх, когда надо было идти мили полторы влево, а затем начать восхождение.
На закате солнца, выбравшись из дремучих дебрей, рудокопы увидели, что путь им прегражден трещиной. Ширина пропасти была значительна, но в общем казалась, на подходящих для того местах, доступной скачку коня.
Видя, что заблудились, Кист разделился с Родом: один пошел направо, другой — налево; Кист выбрался к непроходимым обрывам и возвратился; через полчаса вернулся и Род — его путь привел к разделению трещины на ложа потоков, падавших в бездну.
Путники сошлись и остановились в том месте, где вначале увидели трещину.
4
Так близко, так доступно коротенькому мостку стоял перед ними противоположный край пропасти, что Кист с досадой топнул и почесал затылок. Край, отделенный трещиной, был сильно покат к отвесу и покрыт щебнем, однако из всех мест, по которым они прошли, разыскивая брод, это место являло наименьшую ширину. Забросив бечевку с привязанным к ней камнем, Род смерил досадное расстояние: оно было почти четырнадцать футов. Он оглянулся: сухой, как щетка, кустарник полз по вечернему плоскогорью; солнце садилось.
Они могли бы вернуться, потеряв день или два, но далеко впереди, внизу, блестела тонкая петля Асценды, от закругления которой направо лежал золотоносный отрог Солнечных Гор. Одолеть трещину — значило сократить путь не меньше как дней на пять. Между тем обычный путь с возвращением на старый свой след и путешествие по изгибу реки составляли большое римское «S», которое теперь предстояло им пересечь по прямой линии.
— Будь дерево, — сказал Род, — но нет этого дерева. Нечего перекинуть и не за что уцепиться на той стороне веревкой. Остается прыжок.
Кист осмотрелся, затем кивнул. Действительно, разбег был удобен: слегка покато он шел к трещине.
— Надо думать, что перед тобой натянуто черное полотно, — сказал Род, — только и всего. Представь, что пропасти нет.
— Разумеется, — сказал Кист рассеянно. — Немного холодно… Точно купаться.
Род снял с плеч мешок и перебросил его; так же поступил и Кист. Теперь им не оставалось ничего другого, как следовать своему решению.
— Итак… — начал Род, но Кист, более нервный, менее способный нести ожидание, отстраняюще протянул руку, — сначала я, а потом ты, — сказал он. — Это совершенные пустяки. Чепуха! Смотри.
Действуя сгоряча, чтобы предупредить приступ простительной трусости, он отошел, разбежался и, удачно поддав ногой, перелетел к своему мешку, брякнувшись плашмя грудью. В зените этого отчаянного прыжка Род сделал внутреннее усилие, как бы помогая прыгнувшему всем своим существом.
Кист встал. Он был немного бледен.
— Готово, — сказал Кист. — Жду тебя с первой почтой.
Род медленно отошел на возвышение, рассеянно потер руки, нагнув голову, помчался к обрыву. Его тяжелое тело, казалось, рванется с силой птицы. Когда он разбежался, а затем поддал, отделившись на воздух, Кист неожиданно для себя представил его срывающимся в бездонную глубину. Это была подлая мысль — одна из тех, над которыми человек не властен. Возможно, что она передалась прыгавшему. Род, оставляя землю, неосторожно взглянул на Киста — и это сбило его.
Он упал грудью на край, тотчас подняв руку и уцепившись за руку Киста. Вся пустота низа ухнула в нем, но Кист держал крепко, успев схватить падающего на последнем волоске времени. Еще немного — рука Киста скрылась бы в пустоте. Кист лег, скользя на осыпающихся мелких камнях по пыльному закруглению. Его рука вытянулась и помертвела от тяжести тела Рода, но, царапая ногами и свободной рукой землю, он с бешенством жертвы, с тяжелым вдохновением риска удерживал сдавленную руку Рода.
Род хорошо видел и понимал, что Кист ползет вниз. «Отпусти!» — сказал Род так страшно и холодно, что Кист с отчаянием крикнул о помощи, сам не зная кому. «Ты свалишься, говорю тебе, — продолжал Род, — отпусти меня и не забывай, что именно на тебя посмотрела она особенно».
Так выдал он горькое, тайное свое убеждение. Кист не ответил. Он молча искупал свою мысль — мысль о прыжке Рода вниз. Тогда Род вынул свободной рукой из кармана складной нож, открыл его зубами и вонзил в руку Киста.
Рука разжалась…
Кист взглянул вниз, затем, еле удержавшись от падения сам, отполз и перетянул руку платком. Некоторое время он сидел тихо, держась за сердце, в котором стоял гром, наконец лег и начал тихо трястись всем телом, прижимая руку к лицу.
Зимой следующего года во двор фермы Карроля вошел прилично одетый человек и не успел оглянуться, как, хлопнув внутри дома несколькими дверями, к нему, распугав кур, стремительно выбежала молодая девушка с независимым видом, но с вытянутым и напряженным лицом.
— А где Род? — поспешно спросила она, едва подала руку. — Или вы один, Кист?!
«Если ты сделала выбор, то не ошиблась», — подумал вошедший.
— Род… — повторила Кэт. — Ведь вы были всегда вместе…
Кист кашлянул, посмотрел в сторону и рассказал все.
1926
МИХАИЛ ПРИШВИН
НЕРЛЬ[21]
1
Мы ждали это 14 марта, но 12-го вечером появились признаки, что событие совершится, может быть, в эту же ночь, и потому я побежал в аптеку за сулемой и карболкой, а жена пошла в сарай за соломой. Когда я вернулся, солома была уже в кухне, я опрыскал ее сулемой, уложил в углу, и весь этот угол отгородил бревном и, чтобы не откатывалось, прибил к стене гвоздями. Наша Кэт знала цель этих приготовлений по прошлому разу, дожидалась спокойно и, как только я кончил работу, шагнула через бревно и свернулась в углу на соломе.
Мы не ошиблись: в эту ночь Кэт родила нам шесть щенков: три сучки и три кобелька. Все три сучки были поменьше кобельков и вышли совершенно в мать, в немецкую легавую с большими кофейными пятнами на белом и по белому чистый крап. У одной на макушке, на белой лысинке, была одна копейка, у другой — две копейки, третья сучка была без копейки, просто с белой полоской на темени, и заметно была поменьше и послабее сестер. А кобельки вышли в отца, Тома; пятна были несколько потемнее, у двух почему-то на белом пока не было крапу, а третий был значительно крупнее других, весь в пятнах, крапе, таком частом, что казался весь темный, и вообще был тяжел и дубоват. Дубец — мелькнуло слово у меня в голове, я поймал его и вспомнил охоты свои по выводкам на речке Дубец. Слово мелькнуло недаром, я очень удачно охотился на Дубце, и мне показалось — неплохо будет в память этих охот назвать новую собаку Дубцом. Да и пора вообще бросить трафаретные клички и давать свои собственные, местные, ведь каждый ручеек, каждый пригорок на земле получил свое название без помощи греческой мифологии.
Из этого помета я решил себе оставить кобелька и сучку. Название для сучки мне сейчас же пришло в голову, как только мелькнул Дубец. Я назову ее Нерлью, потому что на болотистых берегах этой речки прошлый год много нашел гнездовых дупелей.
Но я не знаю, мне кажется, было что-то больше охоты на этой странной и капризной реке. Она такая извилистая, что местами от излучины до излучины через разделяющий их берег можно было веслом достать. Я плыву на челноке по течению, правлю веслом, чтобы не уткнуться в болотистый берег, подгребаю, завертываю. Впереди виднеется церковь, и кажется очень недалеко, но вдруг река завертывает в противоположную сторону, церковь исчезает, и через долгое время, когда я снова завертываю, село оказывается от меня много дальше, чем было вначале. Слышно, где-то молодой пастух учится играть на берестяной трубе, звуки то сильнее, то тише, но слышны мне — все тот же пастух, та же мелодия, те же ошибки. К обеду я подплываю, но село оказывается не близко от берега, мне идти туда незачем. Я отдыхаю на берегу. Пастух перестал. А потом я удаляюсь вперед по реке, и пастух опять меня преследует до самого вечера. Только уже когда садилось солнце, мне была милость: река выпрямилась, увела меня от села далеко, и в крутых лесных берегах пение птиц перебило оставшееся в ушах воспоминание неверной мелодии. Вода очень быстрая несет меня, только держи крепче весло в руке. Я не пропускаю глазами проплывающую в воде щуку, голубую стрекозу на траве, букет желтых цветов, семью куликов на гнилом краю затонувшего челнока, сверкающий в лучах вечернего солнца широкий лист водяного растения, на трепетной струе поклоны провожающих меня тростинок. Какой бесплодный день на реке и какое очарование: никогда не забуду и не перестану любить.
Дикая Нерль, я воплощу твое имя в живую собачку, для которой великим счастьем на земле будет с любовью смотреть на человека, даже когда он запутается в излучинах своей жизни.
2
Со времени рождения моих щенков я устроился обедать в кухне: очень удобно во время еды с высоты стола наблюдать и раздумывать о судьбе этих маленьких животных. Там, внизу, кишит пестрый мир слепцов, и вечно глядят на меня поверх них глаза матери, стараясь проникнуть в меня и узнать судьбу, но я тоже не волен, я не знаю еще, в кого удастся мне воплотить имена Нерль и Дубец. Я же понимаю, что вес и форма не все для рабочей собаки, в собаке должно быть прежде всего то, что мы условились называть умом, а это сразу узнать в слепом потомстве красавицы Кэт невозможно. Моя рабочая собака прежде всего должна быть умная, ведь даже слабость чутья вполне возмещается пониманием моего руководства, и с такой собакой больше дичи убьешь, чем с чутьистой, но глупой.
Так я обедаю, ужинаю, чай пью и думаю о своем, и беседую с женой, и глаз не отвожу от гнезда. А если читаю газету, то слышу, как спящие видят сны: в жизни едва рот умеют открыть, а там во сне на кого-то уже по-настоящему лают собачками. Но я бросаю газету, когда они просыпаются и начинается у них интересная борьба за существование. Тогда каждый щенок пускает в ход свою силу, ум, проворство, хитрость в борьбе за обладание задними, самыми молочными сосцами. Как только этот спящий пестрый клубок маленьких собачек пробуждается, все они бросаются в атаку на сосцы. Лезут друг на друга, одни проваливаются и там залегают под тяжестью верхних, неудачники скатываются вниз, мелькая розовыми, как у поросят, животами, оправляются, снова взбираются. Можно бы, конечно, разделить слабых и сильных, кормить их отдельно. Но как узнать действительно слабых и сильных? Сегодня лучшее достается сильным мускулами, завтра сильный умом перехватил добычу у большого и сосет на первой позиции. Я сдерживаю в себе жалость к более слабым на вид и, пока не найду своей Нерли, не позволю себе вмешаться в дело природы.
Тот чумазый щенок, который помог мне выдумать кличку Дубец, в первые же дни настолько окреп, что теперь сразу всех расшвыривает, захватывает самую лучшую заднюю сиську, ложится бревном, не обращает никакого внимания, что на нем лежат другие в два яруса, и знай только почвякивает. А хуже всех маленькой сучке, у которой на темени белая лысинка без копейки, ей достаются только самые верхние сосцы-пуговки, и, верно, она никогда не наедается.
В собачьем понимании мы, конечно, настоящие боги: сидят боги за столом, как на Олимпе, едят, обсуждают судьбу своих собак. А мы каждый день спорим с женой. Женщина жалеет маленькую собачку, говорит мне, что она самая изящная, вся в мать, и нам непременно надо вмешаться в дело природы и не дать ей захиреть. Жалость помогает ей открывать новые и новые прелести в любимой собачке и соблазнять ими меня. Мне и с одной женой трудно бороться за свой план, но однажды на помощь ей к нашему Олимпу присоединяется новая богиня жалости. Это была одна наша знакомая, хрупкая телом, но сильная. Она вмиг поняла другую женщину, и обе стали просить у меня за слабое животное. Я очень уважаю эту Анну Васильевну, мне пришлось пустить в ход все мои силы.
— Не бросайтесь жалостью, — говорил я, — поберегите ее для людей, подумайте, что другие просто морят ненужных щенков, а я имею план выбрать себе друга, уважая законы природы. Мы часто губим добро неумной жалостью.
Анна Васильевна попробовала стать на мою разумную точку зрения:
— Да ведь она же больших денег стоит, вы погубите не только собачку в своем опыте, но и деньги.
Я не поверил искренности Анны Васильевны, когда она, бессребреница, заговорила о деньгах, и ответил решительно, чтобы нам больше не спорить и начать о другом:
— Не нужны мне деньги, и пусть собачка погибнет, берегите свое для людей; там, в этом мире…
Я указал вниз на борьбу за сосцы:
— Там не боятся погибели, там смерть принимают как жалость природы.
Мы сели обедать молча. Жена подала Анне Васильевне постное: грибы и кисель. Я очень люблю постное, мои говяжьи котлеты приобретают особенный вкус, когда вокруг постятся. Я ем говяжьи котлеты и стою за посты.
Я извинился перед Анной Васильевной за свои котлеты и, чтобы смягчить резкость своих слов перед этим, стал рассказывать о множестве исцеленных желудков во время постов.
Когда мы доедали последнее блюдо, маленькие животные там, внизу, насосались молока, стали позевывать, укладываться друг на друга, пока наконец не сложились в свою обыкновенную сонную пирамидку. Для тепла и покоя мы прикрываем их сверху моей старой охотничьей курткой, а мать наконец-то освобождается, отправляется в другой угол к миске с овсянкой, приправленной бульоном из костей. Кэт справляется со своим блюдом скорее, чем мы с одним своим третьим, возвращается к гнезду и укладывается возле щенков.
Но, конечно, спор, не доведенный до конца, течение мысли, остановленное насилием, в глубине нас продолжается, и благодаря этой неуемности мысли появляется вдруг как бы чудом вне нас повод для продолжения спора и заключения.
Мы говорили о полезном значении постов для здоровья, а в то же время все смотрели в гнездо. И вот под курткой начинается какое-то движение, тихое, осторожное, показывается голова с белой лысинкой и наконец вся она, та самая, слабая изящная сучка, из-за которой весь сыр-бор загорелся. Все остальные щенки спят крепко и взлаивают. Нет никакого сомнения, что маленькая сучка задумала нечто свое. Сначала, однако, мы думали, что это она, как все щенки, отходит немного в сторону от гнезда, чтобы освободиться от пищи. Но сучка, выбравшись из-под куртки, ковыляет по соломе прямо к матери, сосет из задней сиськи, наливается, засыпает у нее под лопаткой, сытая и в тепле, гораздо лучше, чем под моей охотничьей курткой. Нас всех, конечно, это поразило: ведь только что спорили о жалости, и все обошлось само собой, сучка сыта.
— Вот, дорогая Анна Васильевна, — сказал я, торжествуя победу, — вы же сами не раз мне говорили, что в тяжелой борьбе за кусок хлеба вы завоевали себе нежданное счастье, какое не снится сытым и обеспеченным, что вы благословляете за это даже тех, кто хотел вам причинить зло. Как же должно благодарить меня это маленькое животное, что я не позволил вам его прикармливать и вызывал простую догадку в ее крошечной, только что прозревшей головке!
3
В другой раз, вечером того же самого дня, когда наши щенки пробудились и начали атаку, маленькая сучка с белой лысинкой в этой борьбе не участвовала. А утром я нашел ее не под курткой, а под лопаткой у матери. Мы очень обрадовались и, не решаясь только за одно это признать ее Нерлью, смеясь, пока стали называть ее Анной Васильевной, которую очень любили. Через несколько дней, когда наша новая маленькая Анна Васильевна очень понравилась, мы заметили, что она гораздо тверже других щенят начала наступать ножками, и появилась у нее новая особенность: она стала бродить по гнезду, совершая путешествие в уголки, все более и более далекие от матери. Все другие щенки знают только два положения: спать и бороться между собою за сосцы. Анна Васильевна догадалась исключить из своей жизни грубую борьбу за существование, силы ее с каждым днем прибывали, и мы вполне понимаем с женой и очень радуемся, что освобожденную энергию она использует для любознательности. И так спокойно было изо дня в день, погружаясь в природу собак, понимать свою жизнь, свои достижения; ведь тоже почему-то приходилось много бродить.
Пределом путешествий Анны Васильевны было бревно высотой в четыре вершка. Для маленькой тут кончались все путешествия: она могла только поставить передние лапки на бревно и отсюда заглядывать на простор всего пола, как мы любуемся далью полей. Туда, в эту даль, уходила мать к своей миске, что-то делала там и возвращалась обратно. Анна Васильевна стала дожидаться матери на бревне, а когда она возвращается и ложится, обнимает лапками ее нос, полизывает губы, узнавая мало-помалу вкус бульонной овсянки. И вот однажды, когда Кэт перешагнула через бревно, Анна Васильевна с высоты барьера вгляделась в нее, лакающую бульон, и стала сильно скулить. Мать бросила еду, вернулась, опрокинула дочь носом с барьера и, наверное, думая, что она не может освободиться от пищи, стала ей делать обыкновенный массаж живота языком. Дочь скоро успокоилась, мать вернулась к еде. Но как только Кэт удалилась, Анна Васильевна поднялась на барьер и принялась еще больше скулить. Мать оглядывается, не может понять, переводит глаза на меня и начинает тоже скулить.
В глазах ее: «не понимаю ничего, помоги, добрый хозяин».
Я говорю ей:
— Пиль!
Это значит разное, смотря по тону, каким говорится; теперь это значило: «не обращай внимания, принимайся за еду и не балуй собачку». Мать принимается лакать, а дочь, обиженная невниманием матери, делает вгорячах рискованное движение, переваливается через барьер и раскорякой бежит прямо к миске.
Нам было очень забавно смотреть на мать и дочь у одной миски: Кэт, вообще не очень крупная собака, с превосходным розовым выменем, вдруг стала огромным животным, и рядом с ней точно такая, с теми же кофейными пятнами, с тем же крапом, с таким же на две трети обрезанным хвостом и во время еды с длинненькой шейкой, крошечная Анна Васильевна, стоит и тоже пробует делать, как мать. Но скоро оказывается, ей мало, чтобы лизать край миски, она поднимается на задние ноги, передние свешиваются за край. Ей, наверно, думается, что это вроде барьера, что стоит приналечь, переброситься, и тогда откроется вся тайна миски. Она делает такое же рискованное движение, как только что было на бревне, и вдруг переваливается в миску с бульонной овсянкой.
Кэт уже довольно много отъела, и Анне Васильевне в миске было неглубоко. Скоро она вываливается оттуда без помощи матери, вся, конечно, покрытая желтоватой овсянкой. Потом она раскорякой бежит обратно, начинает скулить у бревна. В это время случилось, пробудился Дубец и, услыхав какой-то визг за бревном, сам ковыляет туда. А маленькая Анна Васильевна в это время была уже сама на бревне и вдруг — здравствуйте: перевалилась прямо к Дубцу за барьер. Дубец понюхал ее, лизнул — очень понравилось.
Но что всего удивительней было нам, это когда на другой день из-под куртки вылезла Анна Васильевна, вслед за ней высунул здоровенную башку и Дубец, поплелся за ней к барьеру, перевалил через барьер, проковылял к миске, втяпался в нее передними лапами и залакал. После того оказалось, что первое путешествие Анны Васильевны в миску в мире маленьких собачек означало то же самое, что в нашей человеческой жизни открытие новой страны. За Колумбом, известно, все повалили в Америку, а у собак — в миску. Маленькая сучка с белой лысинкой научила Дубца, и потому что он такой громадный, и на нем есть что полизать, когда он выгваздывается в овсянке, то первыми припали к нему обе сучки с копейкой на лысинке и с двумя копейками. Обе эти сучки скоро поняли все и тоже стали путешествовать к миске. Но долго еще два больших белых без крапу и с розовыми рыльцами кобелька держались отдельно от веселого общества и ничего не знали об открытии Америки. Нам пришлось поднести дикарей к тарелке и насильно, уткнув их носы в молоко, держать там, пока не поймут и не хлебнут. И голос наш, призывавший: «тю-тю-тю», первая поняла Нерль, и Дубец пустился бежать по примеру ее, потом вслед за Дубцом бежали и сестры ее, сучки с копейкой и двумя копейками на лысинках, и под конец согласились дружные дикари с розовыми рыльцами. А когда однажды во время нашего обеда собачья публика пробудилась и тоже захотела обедать и Нерль, почувствовав голод, бросила скулящих сестер и братьев, подбежала к Олимпу и стала теребить богов за штаны и за юбку, то нам не оставалось никакого сомнения, что маленькая изящная собачка с белой пролысинкой была именно наша задуманная Нерль.
1926
КУЗЬМА ЧОРНЫЙ
НОЧЛЕГ В ДЕРЕВНЕ СИНЕГИ[22]
Большие походы скупы на отдых. И мы спали мало — урывками, часа по два в сутки.
В деревне Синеги мы застали следы пребывания проходивших раньше нас воинских частей: дети играли кабелем; во дворе крайней хаты, возле сарая, на развороченной соломе валялись патроны; мы примерили их к своим винтовкам — не подошли, и мы их бросили.
Восемь хат деревни Синеги шуршали на ветру взлохмаченными верхушками соломенных крыш.
Надо было сразу ложиться спать.
В хате я застал встревоженных и напуганных войной людей: четверых ребятишек и женщину — хозяйку и мать, — красивую гродненскую крестьянку.
Мы укладываемся в холодных сенях на каких-то широких, низких ящиках — я и наш взводный, товарищ Скобаков, веселый рыжий парень, родом с олонецких озерных побережий… Мы поправляем солому, смятую прежними ночлежниками — солдатами, кладем под головы все свое солдатское имущество, и тяжелый сон сразу опускается на наши глаза.
Дверь в душную хату открыта. Там долго полушепотом спорят дети из-за какой-то подушки «с красной прошвой», и наконец все стихает.
Привыкший к тревожным утрам, я быстро поднимаю голову и стараюсь разогнать каменный утренний сон. Молодой день еле пропускает сквозь маленькое солнечное оконце свой первый свет.
«Еще пять минут полежу и тогда разбужу Скобакова», — думаю я и борюсь с тяжелой дремотой. Я подкладываю руки под голову и сжимаю ладонями уши. Стучит в висках, болит голова.
Слышу разговор в хате.
— Вставай, сынок, — говорит женщина.
Молчание.
— Сыночек, встань.
— Ай, мама…
— Встань, сынок. Ну кто же встанет за тебя? Ты ведь самый большенький.
— Я еще хоть немного посплю.
— Поспишь днем, а теперь — ну кого же я разбужу?
Мальчишка заплакал. Он долго тянул что-то сонным голосом, тянул, должно быть, во сне. Потом внезапно смолк. Женщина тоже молчала.
Я встал и, разбудив Скобакова, вошел в хату.
Женщина рвала на куски старую, изношенную до дыр рубашку.
— Добрый день, — сказал я.
— Добрый день, — ответила женщина.
— Спасибо за ночлег, мы уже уходим.
— Уходите?
Что мне сказать еще? И я говорю:
— Пусть хлопчик поспит еще немного, пусть набирается сил.
Я чувствую себя словно виноватым в чем-то.
— Ну, а что мне делать? — говорит она вдруг быстро и громко. — Что мне делать, что я одна могу? Хозяина нет, хозяин воюет. А сегодня мне надо начинать овес жать, достать где-нибудь лошадь да хоть возик жита привезти, — обобью как-нибудь, хоть вальком, а вечером, если подсохнет за день на печке, жерновами смелю, завтра хлеб замешу…
— А лошади нет?
— Лошадь поляки позавчера в обоз угнали, вместе с хлопцем.
— С каким хлопцем?
— С сыном.
— Большой?
— Малый… кабы большой — я не тужила бы так… А тут малыша никак не разбудишь, чтоб корову выгнал пасти. И нечего дать ему поесть. Накопала вчера утром немного картошки, мелкая еще, так под вечер солдат накормила — идут босые, голодные, оборванные… Может, думаю, и мой там где-нибудь, бедняга…
Она подошла к постели.
— Вставай, сынок, я тебе нынче свою старую рубашку на онучи изорвала, чтоб мягким ногу обернуть. Обуешь Михалкины лапотки, они тебе великоваты, и свободно ноге будет… Вставай, сынок.
Она наклонилась над постелью.
— Скоро прорвать должно.
— Что?
— Нарыв. На той неделе еще ногу пробил, на корень наткнулся, так вот нарывает.
И я наклонился над постелью. Мальчик спал. На левой ноге возле пальцев виднелась беловатая опухоль, запачканная грязью.
Я вышел в сени. В своих мешках я ничего не нашел, кроме двух тараней. Я положил их в хате на скамейке — вся моя солдатская еда.
И тогда мы с товарищем Скобаковым навсегда покинули эту хату.
Минут пятнадцать спустя мы уходили из деревни Синеги.
В ожидании команды трогаться я увидел его: прихрамывая, ступая на пятку, он гнал корову. Возле хаты стояла его мать — сильная, стойкая гродненская крестьянка.
И вот мы идем.
Будем идти долго — большие походы скупы на отдых.
1927
С. Н. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ
ЖИВАЯ ВОДА[23]
Поэма
1
Человек человека один на один бьет не вполне уверенно. Он же способен опасаться: а вдруг тот, кого он бьет, выкинет какую-нибудь штуку?..
Он бьет большей половиной своего существа, а меньшая в это время наблюдает и взвешивает.
Меньшая шепчет: «Довольно!» Большая продолжает бить… Меньшая говорит внятно: «Будет! Брось!» Большая бьет слабее с выдержкой. Меньшая, наконец, приказывает: «Брось, тебе говорят!» — и мгновенно становится на место большей, и человек, который бил, уходит от того, кого он бил, внешне и с видом правым и задорным, а внутри иногда ему даже бывает стыдно.
Совсем не та толпа. Тонкие чувства ей незнакомы. Толпа, когда кричит, — не кричит, а судит; толпа не рассуждает, а приговаривает с двух слов; толпа и не бьет, а казнит, и тот, кого она бьет, знает, что уж больше он не встанет.
И Федор это знал, Федор Титков из станицы Урюпинской, из себя не очень видный и невысокий, но тугой телом и ярко-красный лицом, молодой еще малый, с маленькими глазками, сидящими не в глазных впадинах, а непосредственно сверху крутых щек.
Но он видел, что то же самое знал и другой товарищ, но фамилии Манолати, — из бессарабских цыган, черный и все лицо в белых шрамах, — и третий, сапожник из Ахтырки Караванченко, товарищ Семен, человек из себя хлипкий и грудь впалая, только голос громкий и глаза блестят.
Когда захватили их в этой станице и связали им руки, их спросили коротко:
— Большевики?
Они ответили так же коротко:
— Большевики.
И только Манолати добавил ехидно, вытянув шею:
— Ниче-го, рогали, ни-че-го!.. От побачите: наша будет зверху!
Потом их повели к колодцу с очень высоким журавлем, и не было около них ни крику, ни раздражения, только густая пыль поднялась от тяжелых сапог, и кто чихал, кто кашлял, кто плевал наземь. Иногда просвечивали по сторонам казачки, стоявшие около домов, и кружившиеся мальчишки.
Титков, перед тем как их схватили, здесь, на работе, ел селедку и не успел напиться, а потом они были заперты на ночь в сарай.
Очень хотелось пить, — и день был жаркий, — и когда он подходил к колодцу, он всем своим тугим, набухшим телом чувствовал, что подводят его как раз туда, куда надо, и искал глазами ведро.
Ведро, большое, как бадья, и с мокро блестевшей цепью, стояло как раз на полке колодца, и он не сводил с него глаз.
Подошли, оно было полное до краев: кто-нибудь только что поил здесь лошадь и вытянул его, но лошадь не захотела пить больше.
Кругом колодца песок был сырой и пахло волами. Овод сел на щеку Титкова; он смахнул его, потершись о левое плечо, а сам все смотрел на ведро и сказал, когда остановились, не умоляюще, а просто, однако внятно:
— Братцы, дозвольте напиться!
На это ближний казак, рыжебородый, с синими жилками на носу и с мокрыми косицами из-под фуражки, отозвался не менее просто:
— На-пьёсси! — и жестко ударил его в ту щеку, с которой только что он стер овода.
И тут же он увидел, что сшибли с ног товарища Семена, — он брыкнул обеими ногами об его ногу, — и почему-то мелькнула в глазах черная голова Манолати, мелькнула как будто выше других голов, точно улетела; но только он это заметил, как что-то сзади так хлопнуло его по затылку, что он присел на колени и пробормотал отчетливо:
— Значит, убивают… конец!..
И втянул голову в плечи, вдавил ее туда, как черепаха, а ноги вытянул. Он лег ничком, и песок под его губами пришелся очень мокрый и с сильным запахом лошадиной мочи.
Попытался он было убрать под себя и руки, но они были связаны крепко: изо всех сил дергал, веревка не подалась.
Били решенно и молча, только хекали, серьезно, как свинью колют. Сначала Титков различал, по какому месту больнее, потом били уж сплошь по больному: только стискивал зубы и глотал слюну.
Тонко крикнул товарищ Семен, и потом перестало его слышно. Титков подумал: «Убили!» — и еще глубже втянул голову. Зато Манолати было слышно несколько раз. Он вскрикивал:
— Наше!.. Зверху!.. Будет!.. Будет!.. Зверху!..
Титков успел подумать о нем определенно: «Привычный… Не иначе как сто разов бит!»
Но вот ударили его по правой руке так, что в голове зашлось от боли, и еще раз ударили по голове так, что он перестал слышать и крики Манолати, и все другое.
Очнулся он от холода.
Все тело было мокрое с головы до ног.
Не сразу вспомнил, что с ним такое, но первое, что вспомнил, — колодец. Потом вспомнил казаков и как били. Подумал: «В колодец бросили!» Но тут же поправил себя: «Зачем же колодец им портить? Его потом чистить надо…»
И, приоткрывши глаз, который был выше над землею, увидел мокрый рыжий треснутый носок сапога перед самым лицом и тут же понял чье-то вполне добродушное:
— Эге!.. Этот черт, никак, ще живой!
И потом еще голос:
— Цыган тоже шевелится!
Только успел подумать, что это кто-то хочет их спасти, как тот самый носок с трещиной ударил его чуть ниже глаза.
Опять подвернул вниз лицо и втянул голову.
— Зверху! — хрипнул около Манолати.
И потом начали молотить сапогами, и на его спину взобрался кто-то очень тяжкий и подскакивал.
Титков подтянул живот, но подкованные каблуки острыми краями сорвали ему кожу с рук… Наконец, другая рука, еще не перебитая, хряснула под каблуком повыше кисти.
Титков лизнул было языком мокрые губы, но тут же перестал что-нибудь чувствовать.
Потом еще раз поливали его ледяной водой из колодца. Он опять открыл глаз — другой заплыл, и не разжимались веки — и опять увидел он мокрый огромный носок сапога.
Его перевернули. Какая-то борода, точно отцовская, над ним наклонилась, и он прошептал в нее:
— На-пить-ся!
Потом сразу несколько оглушительных голосов:
— Живой!.. Ну, не черт?.. Цыган, и тот уж подох, а этот живой!..
И несколько мгновений так он лежал и видел над собою чащу бород и красные носы среди нее, и, как будто люди эти совсем другие были, а не те, которые только что трудились над тем, чтобы его убить, он опять прошептал им:
— Напиться… братцы!
Но тут над глазом его взметнулся медленно усталый кулак и разбил его зубы.
Потом кто-то спросил удивленно и даже горестно:
— Да и где же у него, анафемской силы, печенка?
И как ни пытался зажать Титков свой живот, жесток был в него удар подкованной ногою.
Минут через пять все трое около колодца лежали совершенно неподвижно.
Казаки умылись, прокашлялись, высморкались, как делали они это утром, после сна; кое-кто даже намочил себе волосы и расчесал их металлическим гребешком.
Казачки с ребятишками на руках подошли посмотреть поближе. Солнце склонялось уже к полудню, и подъехала к колодцу подвода, на которую сложили все три тела и повезли версты за четыре от станицы, в балку.
Двое молодых казаков шли около подводы, не садясь. Винтовки поблескивали у них за плечами.
Без винтовок теперь уж не отходили от станицы и за четыре версты: время было беспокойное — восемнадцатый год.
И вот когда Титков, лежавший на подводе сверху других, открыл свой глаз, он прежде всего почти ослеплен был блеском именно этих двух винтовок за спинами казаков, идущих рядом.
Казаки и винтовки — это припомнилось потом, было, видел и раньше; необыкновенный же блеск этот был нездешний уже…
Но боль раздалась сразу во всем теле, и горло, и все внутри горело нестерпимо.
Это как раз он тогда очнулся, когда подходили уж лошади к балке, и еще допытывался он у своей памяти, что с ним такое, и где он, и отчего везде боль, как услышал, один казак говорил другому:
— Вот здесь крутой берег… Так и полетят, как галки.
А другой голос отозвался:
— Здесь, конечно, самый раз…
Не понял Титков этого разговора, и когда его, все еще мокрого, выволакивали с подводы в четыре руки, ругаясь, он застонал всем разбитым телом и глянул единственным глазом, — и четыре руки суеверно обмякли, а он брякнул о землю и застонал громче.
Тогда лошади зафыркали и заболтали головами, а двое с винтовками отскочили шагов на двадцать…
Он слушал и слышал, как один, длинно выругавшись, добавил:
— Да ты ж, нечистая сила, когда же ты подохнешь?
А когда глянул, увидел, как другой сдернул винтовку, взял на прицел и выстрелил…
Титков даже чуть покачнулся, лежа, точно в грудь ему вбили огромный гвоздь… Но тут же, чуть повыше, другой гвоздь вбили: это разрядил по нем патрон второй казак.
Рот у него разжался, чтобы вылить кровь; раза два он дернул головою и стих.
Когда казаки подтащили к откосу уже деревенеющий труп Семена с разбитой головой, они раскачали его, взявши за ноги и за плечи, и бросили молча. Труп цыгана Манолати с подвернутой набок головой они сбросили с подговоркой:
— А ну, там уж твое пускай будет «зверху»!
Над телом же Титкова, подтащив его к бровке оврага, остановились:
— А вдруг он, черт этот… — начал один.
— Живой, думаешь? — сказал другой.
И даже мокрую рубашку ему задрали, посмотреть, как прошли пули. Но увидавши, что тело все — сплошной синяк и кровоподтек и пули прошли навылет в правую сторону груди, только тряхнули чубами из-под фуражек, и дружно столкнули его вниз, и смотрели, как оно катилось кувырком, цепляясь то ногами, то головой, пока не легло, наконец, на дно балки около двух других тел.
Было уже к вечеру. Солнце перекатило уже за балку: тень и прохлада.
Три бабы из соседнего хутора спустились в балку за дровами. По дну и кое-где по откосам росли там кусты. Их упорно вырубали каждый год, но не менее упорно они вырастали снова. У баб были с собой косари и веревки.
Когда наткнулись они на трупы, то в испуге бросились бежать, но, оглядевшись, остановились: одна подталкивая другую, подобрались снова к телам.
Глядели, качали головами и даже кончики головных платков подносили к глазам.
— Не воняют еще? — не веря себе, спросила одна.
— Похоже, свежие, — потянула носом другая.
— А вчерась же я здеся лазила, бабоньки, ничего тут такова не было! — всплеснула руками третья. — Какие же это их злодеи так-то?
Трупы смирно должны лежать. Страшно, когда пытается поднять голову труп. Это хоть кого испугает.
И когда, чуть приоткрыв глаз, повернулась слабо голова Титкова, бабы ахнули и взвизгнули все враз и засверкали по дну балки голыми толстыми икрами ног.
Но не больше, как через четверть часа, одна подбадривая другую, подошли в третий раз и услышали шепот:
— Бабочки, дайте напиться…
Маленький ключик пробивался в овраге шагах в двухстах ниже, и бабы знали это, но ведь с ними не было кувшинов и кружек, только косари и веревки…
Кровавую кепку, осмотревшись, заметили они на обрыве, — это с головы Семена Караванченки слетела она, когда его тело раскачали и бросили. В этой-то кровавой кепке, чуть ее обмыв, и принесли воды для Титкова, и, сгрудившись над ним и держа кепку с водой, как ему удобнее, жадно глядели бабы, как жадно он глотал.
Он все выпил, что они принесли, и вздохнул с трудом, и одинокий глаз его внимательно переходил с одной на другую.
— Какие же это злодеи так тебя, несчастного? — спросила было одна, но он отозвался тем же шепотом, изнутри идущим:
— Ба-бочки… милые… а нельзя ли… еще водички?
Уже совсем смеркалось, когда бабы вынесли его, наконец, из оврага.
Несколько раз останавливались, усталые, над ним, снова бесчувственным, и говорили одна другой, укоряя:
— Эх, потревожили зря человека!.. Помер бы там ночью, и ему бы легче: без мучениев…
Однако вытащили все же, развязали руки и даже отвезли его ночью в больницу в город, за двенадцать верст.
Везли и укоряли одна другую, что лучше бы было к нему и не подходить, и воды бы ему не носить, и из балки не вытаскивать, — все равно живого не довезешь, только зря из-за него ночь не спавши и лошадь заморишь.
Если чем и утешали себя бабы, то только тем, что теперь на хуторе мужиков вообще мало, а у них в хозяйствах и совсем нет, и настала их бабья воля: вот хотят этого человека до больницы довезть — и все, возьмут и довезут… Пускай хоть в больнице помрет, все-таки будто бы легче: похоронят люди как надо.
На вопросы: чей такой и кто его так? — бабы отвечали в больнице:
— Ну, а мы ж это почем же знаем?.. Наша находка, в балке такого нашли…
— А зачем было везть? — сказали в больнице. — Все равно жив не будет — помрет.
— А помрет, на могилу ему веночек привезем, — сказали абы. — Нам абы к утру домой поспеть, а то коровы недоены останутся…
И бабы вернулись домой вовремя, как раз к свету, а врачи в больнице утром стали отыскивать и отмечать сломанные ребра Титкова.
2
Прошло с месяц.
Был праздник — время свободное…
Три бабы с хутора поехали в город и везли венок из своих нехитрых цветков на могилу тому, кого они напоили водой и вытащили из оврага.
За месяц этот много случилось всякого, и о трупах в балках знали уж, что они были привезены из станицы.
Летний день — огромен, и бабы, выехав в обед, думали обернуть к вечеру, не было дел в городе никаких, только это: постоять над могилкой, положить веточек — и домой.
Лошадей была пара, и лошади были сытые.
И когда дробно стучали копыта и колеса по малоезжему проселку, бабы вспоминали, как они везли парня.
— Рази так увеченных возют, как мы-то везли? — говорила рассудительно одна, постарше, лет сорока, Лукерья, с выцветшими глазами. — Он по-настоящему-то на телеге от одного трясения помереть был должен.
— Да уж я тогда кобылу вожжами стегаю, а сама-то все назад а него гляжу, бабоньки, и так жалкую вся… — говорила Аксинья, помоложе, и черные брови дугой.
— Он у меня ишь на коленках головой-то лежал — и так я, не шевеля, просидела дорогу цельную, аж ноги сомлели, — вставила третья, Ликонида, самая младшая, и в серых глазах тоскливость. — Хуть бы имечко его узнать.
Ехали бабы с венком, а по сторонам от них стелились поля казачьи, а потом пошли мужичьи поля: как раз невдали от хутора шла граница области — начиналась губерния.
Много народу разного прошло недавно по этим полям и потоптали местами хлеб, и бабы замечали на полях эти следы равнодушно топтавших ног.
Однако солнце светило ласково, и земля пахла парным своим телом — понятно бабам (у земли ли не бабье тело).
Ястреб кружился вверху точкой — сторожил землю, как и всегда он ее сторожил родящим летом. Кукушка в балочке куковала. Глазастые серые слепни садились на репицы лошадям, и лошади крутили хвостами, требуя, чтобы их согнали вожжой.
На одном хуторе горело недавно, и бабы это знали: видели зарево с неделю назад, а теперь наткнулись глазами в стороне на обгорелые избы и сараи.
— Небось и скотина какая сгорела, — сказала Аксинья, правя.
— Ну, а то долго ли, — поддержала Лукерья, подтыкая под себя солому.
А Ликонида, державшая в руках венок, оторвала от него листик, который показался ей липшим, повертела около губ, бросила на дорогу и сказала тоскливо:
— Глу-упые мы, глупые бабы… И куда это собрались? И зачем это едем?..
Однако колокольни города показались уж из-за темного зеленца садов, и отозвались ей другие две:
— Все одно уж, теперя недолго.
Как раз кладбище приходилось справа от дороги, когда подъезжали к больнице, стоявшей на отшибе, и бабы говорили одна другой:
— Кабы известно, как его имя, вот бы и кстати — слезть да пойти: авось сторож своих упокойников знать обязан.
Даже и лошадей было оставили, но на кладбище не встретилось глазам никого, а то бы спросили непременно.
И подкатили к больнице часам к двум дня.
Поставили лошадей у ворот, дали им сена охапку, а сероглазая Ликонида не захотела оставить на телеге венка: еще кто подцепит, народу много, — так и пошли трое по больничному двору и с венком спрашивать, где могила того, которого месяц назад привезли они ночью, и как его имя.
Простые люди о болезнях своих и о болезнях близких своих вспоминают только по праздникам — некогда в будни. И теперь в суете, в толчее на больничном дворе, поросшем травкою между булыжников, бродили три бабы с венком, не зная, у кого спросить о том, что было им нужно.
Попался было в фартуке, толстый, спросили его, но он только буркнул сердито:
— Не видишь разве, я повар?
Попался другой, простоволосый, тоже в фартуке и с вонючим ведром в руке, послушал их, но сказал, что недавно тут, и пошел дальше рысцой.
Женщину во всем белом и с красным крестом спросили, та сейчас же спросила сама:
— А как его фамилия?
— А почем же мы-то знаем, родимая? — удивились бабы.
— А не знаете, чего же ищете?
И унеслась от них частым перебором высоконьких каблучков.
Попалась потом еще старушка, — оказалось, кастелянша и не знала, но привела их к фельдшеру, рыжеусому, без бороды, тоже в белом халате.
Этот удивил их очень.
— Месяц назад умер, говорите?.. Легко вам сказать: месяц назад, а сколько нам искать, посчитайте… Теперь время какое, знаете? Сколько их у нас умирает, подумайте.
— Да ведь этот, наш-то, он ведь убитый, — пробовали напомнить бабы; но сказал фельдшер, тараща глаза:
— Все теперь убитые… Теперь неубитых не бывает.
Однако обещал посмотреть по книгам.
Наведались бабы к лошадям — стояли лошади ничего, жевали сено. Обошли весь мир кругом: и прачечную поглядели, и кухню, и помойную яму (а Ликонида все с венком в руках) и зашли в садик хоть посидеть в холодке, пока фельдшер найдет, что нужно, по книгам.
В садике — маленьком, всего две тощие аллейки, — больных несколько сидело на скамейках, покрашенных в желтую краску, — все в халатах белых, только картузы свои. Один лежал на носилках складных и читал газету, что даже осудили бабы, а один сидел в колясочке и глядел вверх на листья, а руки забинтованы, и на голове белый колпак… С двумя больными, похоже, родные сидели, и девочка около одного сосала конфетку в розовой бумажке.
Не очень смело и держась вплотную одна к другой, прошлись бабы по одной аллейке, во всех вглядываясь цепкими деревенскими глазами: вот они какие больные, вот какое на женщине этой платье с тремя оборками, вот какие на девочке коричневые чулочки…
Прошли мимо того, который читал газету, и его внимательно осмотрели, отметив каждая про себя, какие у него тоненькие пальчики, как соломинки, и как только газету ими держит! — а глаза быстрые… и мимо того, который в кресле сидел, тоже прошли и его оглядели: глаза очень запавшие и большие, а руки привязаны к шее белой лентой… и то еще об этом больном заметили, что стоит его колясочка на самом солнце, а казалось так им, что лучше бы ее поставить в тень… И пошли дальше.
Однако далеко в маленьком садике уйти было некуда: дошли до оградки зелененькой и назад по тем же аллейкам, мимо девочки с конфеткой, мимо носилок, мимо кресла на колесах.
Платки на головах чуть сдвинули, чтобы головы продувало, а Ликонида венок несла, как корзинку, в сгибе локтя, и вздумалось ей на этот венок поглядеть, когда подходили к коляске, и сказать жалостно:
— Завяли уж и все цветы наши, зря таскаючи…
Но тут больной в колпаке с подвязанными к шее руками вдруг пригляделся к ним встревоженно и проговорил тихо:
— Ба-боч-ки… Это уж не вы ли?..
И сразу остановились бабы.
— Да, бабочки ж!.. — повторил больной с радостью чрезвычайной, весь просиявши.
— Наш!.. Наш!.. Ей-богу, наш!.. — закричали бабы на весь небольшой больничный садик. — Да родной же ты наш!.. А мы-то веночек на твою могилку… вот он… как тогда подреклися…
И до того неожиданно это было, и до того чудесно это было, и до того сладостно это было, и так перевернуло это души, что не устояли бабы на ногах и повалились одна за другой перед коляской на колени молитвенно и бездумно.
1927
АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ
ГАДЮКА[24]
1
Когда появлялась Ольга Вячеславовна, в ситцевом халатике, непричесанная и мрачная, — на кухне все замолкали, только хозяйственно прочищенные, полные керосина и скрытой ярости, шипели примусы. От Ольги Вячеславовны исходила какая-то опасность. Один из жильцов сказал про нее:
— Бывают такие стервы со взведенным курком… От них подальше, голубчики…
С кружкой и зубной щеткой, подпоясанная мохнатым полотенцем, Ольга Вячеславовна подходила к раковине и мылась, окатывая из-под крана темноволосую стриженую голову. Когда на кухне бывали только женщины, она спускала до пояса халат и мыла плечи, едва развитые, как у подростка, груди с коричневыми сосками. Встав на табуретку, мыла красивые и сильные ноги, тогда можно было увидеть на ляжке у нее длинный поперечный рубец, на спине, выше лопатки, розово-блестящее углубление — выходной след пули, на правой руке у плеча — небольшую синеватую татуировку. Тело у нее было стройное, смуглое, золотистого оттенка.
Все эти подробности хорошо были изучены женщинами, населявшими одну из многочисленных квартир большого дома в Зарядье. Портниха Марья Афанасьевна, всеми печенками ненавидевшая Ольгу Вячеславовну, называла ее «клейменая». Роза Абрамовна Безикович, безработная, — муж ее проживал в сибирских тундрах, — буквально чувствовала себя худо при виде Ольги Вячеславовны. Третья женщина, Соня Варенцова, или, как ее все звали, Лялечка, — премиленькая девица, служившая в Махорочном тресте, — уходила из кухни, заслышав шаги Ольги Вячеславовны, бросала гудевший примус… И хорошо, что к ней симпатично относились и Марья Афанасьевна и Роза Абрамовна, — иначе бы кушать Лялечке чуть не каждый день пригоревшую кашку.
Вымывшись, Ольга Вячеславовна взглядывала на женщин темными, «дикими» глазами и уходила к себе в комнату в конце коридора. Примуса у нее не было, и как она питалась поутру — в квартире не понимали. Жилец Владимир Львович Понизовский, бывший офицер, теперь посредник по купле-продаже антиквариата, уверял, что Ольга Вячеславовна поутру пьет шестидесятиградусный коньяк. Все могло статься. Вернее — примус у нее был, но она от человеконенавистничества пользовалась им у себя в комнате, покуда распоряжением правления жилтоварищества это не было запрещено. Управдом Журавлев, пригрозив Ольге Вячеславовне судом и выселением, если еще повторится это «антипожарное безобразие», едва не был убит: она швырнула в него горящим примусом, — хорошо, что он увернулся, — и «покрыла матом», какого он отродясь не слыхал даже и в праздник на улице. Конечно, керосинка пропала.
В половине десятого Ольга Вячеславовна уходила. По дороге, вероятно, покупала бутерброд с какой-нибудь «собачьей радостью» и пила чай на службе. Возвращалась в неопределенное время. Мужчины у нее никогда не бывали.
Осмотр ее комнаты в замочную скважину не удовлетворял любопытства: голые стены — ни фотографий, ни открыток, только револьверчик над кроватью. Мебели — пять предметов: два стула, комод, железная койка и стол у окна. В комнате иногда бывало прибрано, шторка на окне поднята, зеркальце, гребень, два-три пузырька в порядке на облупленном комоде, на столе стопка книг и даже какой-нибудь цветок в полубутылке из-под сливок. Иногда же до ночи все находилось в кошмарнейшем беспорядке: на постели, казалось, бились и метались, весь пол в окурках, посреди комнаты — горшок. Роза Абрамовна охала слабым голосом:
— Это какой-то демобилизованный солдат; ну разве это женщина?
Жилец Петр Семенович Морш, служащий из Медснабторга, холостяк с установившимися привычками, однажды посоветовал, хихикая и блестя черепом, выкурить Ольгу Вячеславовну при помощи вдутия через бумажную трубку в замочную скважину граммов десяти йодоформу: «Живое существо не может вынести атмосферы, отравленной йодоформом». Но этот план не был приведен в исполнение — побоялись.
Так или иначе, Ольга Вячеславовна была предметом ежедневных пересудов, у жильцов закипали мелкие страсти, и не будь ее — в квартире, пожалуй, стало бы совсем скучно. Все же в глубь ее жизни ни один любопытный глаз проникнуть не мог. Даже постоянный трепет перед ней безобиднейшей Сонечки Варенцовой оставался тайной.
Лялечку допрашивали, она трясла кудрями, путала что-то, сбивалась на мелочи. Лялечке, если бы не носик, быть бы давно звездой экрана. «В Париже из вашего носа, — говорила ей Роза Абрамовна, — сделают конфету… Да вот, поедешь тут в Париж, ах, бог мой!..» На это Соня Варенцова только усмехалась, розовели щеки, жадной мечтой подергивались голубые глазки… Петр Семенович Морш выразился про нее: «Ничего девочка, но дура…» Неправда! Лялечкина сила и была в том, чтобы казаться дурой, и то, что в девятнадцать лет она так безошибочно нашла свой стиль, указывало на ее скрытый и практический ум. Она очень нравилась пожилым, переутомленным работой мужчинам, ответственным работникам, хозяйственникам. Она возбуждала из забытых глубин души улыбку нежности. Ее хотелось взять на колени и, раскачиваясь, забыть грохот и вонь города, цифры и бумажный шелест канцелярии. Когда она, платочком вытерев носик, пряменько садилась за пишущую машинку, в угрюмых помещениях Махорочного треста на грязных обоях расцветала весна. Все это ей было хорошо известно. Она была безобидна; и действительно, если Ольга Вячеславовна ненавидела ее, значит, тут скрывалась какая-то тайна…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
В воскресенье, в половине девятого, как обычно, скрипнула дверь в конце коридора, Соня Варенцова уронила блюдечко, тихо ахнула и помчалась из кухни. Было слышно, как она затворилась на ключ и всхлипнула. В кухню вошла Ольга Вячеславовна. У рта ее, сжатого плотно, лежали две морщинки, высокие брови сдвинуты, цыганское худое лицо казалось больным. Полотенце изо всей силы стянуто на талии, тонкой, как у осы. Не поднимая ресниц, она открыла кран и стала мыться — набрызгала лужу на полу… «А кто будет подтирать? Мордой вот сунуть, чтобы подтерла», — хотела сказать и промолчала Марья Афанасьевна.
Вытерев мокрые волосы, Ольга Вячеславовна окинула темным взглядом кухню, женщин, вошедшего в это время с черного хода низенького Петра Семеновича Морша с куском ситного в руках, бутылкой молока и отвратительной, вечно дрожащей собачонкой. Сухие губы у него ядовито усмехнулись. Горбоносый, похожий на птицу, с полуседой бородкой и большими желтыми зубами, он воплощал в себе ничем непоколебимое «тэкс, тэкс, поживем — увидим…». Он любил приносить дурные вести. На кривых ногах его болтались грязнейшие панталоны, надеваемые им по утренним делам.
Затем Ольга Вячеславовна издала странный звук горлом, будто все переполнявшее ее вырвалось в этот не то клекот, не то обрывок горестного смеха.
— Черт знает что такое, — проговорила она низким голосом, перемахнула через плечо полотенце и ушла. У Петра Семеновича на пергаментном лице проступила удовлетворенная усмешечка.
— У нашего управдома с перепою внезапно открылось рвение к чистоте, — сказал он, спуская на пол собачку. — Стоит внизу лестницы и утверждает, что лестница загажена моей собакой. «Это, — он говорит, — ее кало. Если ваша собака будет продолжать эти выступления на лестнице — возбужу судебное преследование». Я говорю: «Вы не правы, Журавлев, это не ее кало…» И так мы спорили, вместо того чтобы ему мести лестницу, а мне идти на службу. Такова русская действительность.
В это время в конце коридора опять послышалось: «Ах, это черт знает что!» — и хлопнула дверь. Женщины на кухне переглянулись. Петр Семенович ушел кушать чай и менять домашние брюки на воскресные. Часы-ходики на кухне показывали девять.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
В девять часов вечера в отделение милиции стремительно вошла женщина. Коричневая шапочка в виде шлема была надвинута у нее на глаза, высокий воротник пальто закрывал шею и подбородок; часть лица, которую можно было рассмотреть, казалась покрытой белой пудрой. Начальник отделения, вглядываясь, обнаружил, что это не пудра, а бледность, — в лице ее не было ни кровинки. Прижав грудь к краю закапанного чернилами стола, женщина сказала тихо, с каким-то раздирающим отчаянием:
— Идите на Псковский переулок… Там я натворила… и сама не знаю что… Я сейчас должна умереть…
Только в эту минуту начальник отделения заметил в ее посиневшем кулаке маленький револьвер — велодок. Начальник отделения перекинулся через стол, схватил женщину за кисть руки и вырвал опасную игрушку.
— А имеется у вас разрешение на ношение оружия? — для чего-то крикнул он. Женщина, закинув голову, так как ей мешала шляпа, продолжала бессмысленно глядеть на него. — Ваше имя, фамилия, адрес? — спросил он спокойнее.
— Ольга Вячеславовна Зотова…
2
Десять лет тому назад в Казани загорелся среди бела дня на Проломной дом купца второй гильдии, старообрядца Вячеслава Илларионовича Зотова. Пожарные обнаружили в первом этаже два трупа, связанные электрическими проводами: самого Зотова и его жены, и наверху — бесчувственное тело их дочери Ольги Вячеславовны, семнадцатилетней девицы, гимназистки. Ночная рубашка на ней была в клочьях, руки и шея изодраны ногтями; все вокруг указывало на отчаянную борьбу. Но бандиты, по-видимому, не справились с ней или, торопясь уходить, только пристукнули здесь же валявшейся гирькой на ремешке.
Дом отстоять не удалось, все зотовское имущество сгорело дотла. Ольгу Вячеславовну отнесли в госпиталь, ей пришлось вправить плечо, зашить кожу на голове. Несколько дней она пролежала без сознания. Первым впечатлением ее была боль, когда меняли повязку. Она увидела сидевшего на койке военного врача с добрыми очками. Тронутый ее красотой, доктор зашикал на нее, чтобы она не шевелилась. Она протянула к нему руку:
— Доктор, какие звери! — и залилась слезами.
Через несколько дней она сказала ему:
— Двоих не знаю — какие-то были в шинелях… Третьего знаю. Танцевала с ним… Валька, гимназист… Я слышала, как они убивали папу и маму… Хрустели кости… Доктор, зачем это было! Какие звери!
— Шш, шш, — испуганно шипел доктор, и глаза его были влажны за очками.
Олечку Зотову никто не навещал в госпитале — не такое было время, не до того: Россию раздирала гражданская война, прочное житье трещало и разваливалось, неистовой яростью дышали слова декретов — белых афишек, пестревших всюду, куда ни покосись прохожий. Олечке оставалось только плакать целыми днями от нестерпимой жалости (в ушах так и стоял страшный крик отца: «Не надо!», звериный вопль матери, никогда в жизни так не кричавшей), от страха — как теперь жить, от отчаяния перед этим неизвестным, что гремит, и кричит, и стреляет по ночам за окнами госпиталя.
За эти дни она, должно быть, выплакала все слезы, отпущенные ей на жизнь. Оборвалась ее беспечальная, бездумная молодость. Душа покрылась рубцами, как заживленная рана. Она еще не знала, сколько таилось в ней мрачных и страстных сил.
Однажды в коридоре на лавку рядом с ней сел человек с подвязанной рукой. Он был в больничном халате, подштанниках и шлепанцах, и все же горячее, веселое здоровье шло от него, как от железной печки. Едва слышно он насвистывал «Яблочко», пристукивая голыми пятками. Серые ястребиные глаза его не раз перекатывались в сторону красивой девушки. Загорелое широкое лицо, покрытое на скулах никогда не бритой бородкой, выражало беспечность и даже лень, только жестки, жестоки были ястребиные глаза.
— Из венерического? — спросил он равнодушно.
Олечка не поняла, потом вся залилась возмущением:
— Меня убивали, да не убили, вот почему я здесь. — Она отодвинулась, задышала, раздувая ноздри.
— Ах ты батюшки, вот так приключение! Должно быть, было за что. Или так — бандиты? А?
Олечка уставилась на него: как он мог так спрашивать, точно о самом обыкновенном, ради скуки…
— Да вы не слыхали, что ли, про нас? Зотовы, на Проломной?
— А, вот оно что! Помню… Ну, вы бой-девка, знаете, — не поддались… (Он наморщил лоб.) Этот народ надо в огне жечь, в котле кипятить, разве тогда чего-нибудь добьемся… Столько этого гнусного элемента вылезло — больше, чем мы думали, — руками разводим. Бедствие. (Холодные глаза его оглянули Олечку.) Вот вы, конечно, революцию только так воспринимаете, через это насилие… А жалко. Сами-то из старообрядцев? В бога верите? Ничего, это обойдется. (Он кулаком постукал о ручку дивана.) Вот во что надо верить — в борьбу.
Олечка хотела ответить ему что-нибудь злое, безусловно справедливое, ото всей своей зотовской разоренности; но под его насмешливо-ожидающим взглядом все мысли поднялись и опали, не дойдя до языка.
Он сказал:
— То-то… А — горяча лошадка! Хороших русских кровей, с цыганщинкой… А то прожила бы, как все, — жизнь просмотрела в окошко из-за фикуса… Скука.
— А это — веселее, что сейчас?
— А то не весело? Надо когда-нибудь ведь и погулять, не все же на счетах щелкать…
Олечка опять возмутилась, и опять ничего не сказалось, — передернула плечами: уж очень он был уверен… Только проворчала:
— Город весь разорили, всю Россию нашу разорите, бесстыдники…
— Эка штука — Россия… По всему миру собираемся на конях пройти… Кони с цепи сорвались, разве только у океана остановимся… Хочешь не хочешь — гуляй с нами.
Наклонившись к ней, он оскалился, диким весельем блеснули его зубы. У Олечки закружилась голова, будто когда-то она уже слышала такие слова, помнила этот оскал белых зубов, будто память вставала из тьмы ее крови, стародавние голоса поколений закричали: «На коней, гуляй, душа!..» Закружилась голова — и опять: сидит человек в халате с подвязанной рукой… Только горячо стало сердцу, тревожно, — чем-то этот сероглазый стал близок… Она насупилась, отодвинулась в конец скамейки. А он, насвистывая, опять стал притопывать пяткой…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Разговор был короткий — скуки ради в больничном коридоре. Человек посвистал и ушел. Ольга Вячеславовна даже имени его не узнала. Но когда на другой день она опять села на ту же скамейку, и оглянулась в глубь душного коридора, и старательно перебирала в мыслях, что ей нужно высказать убедительное, очень умное, чтобы сбить с него самоуверенность, и он все не шел, — вместо него ковыляли какие-то на костылях, — вдруг ей стало ясно, что она ужасно взволнована вчерашней встречей.
После этого она ждала, быть может, всего еще минутку, — слезы навернулись от обиды, что вот ждет, а ему и дела мало. Ушла, легла на койку, стала думать про него самое несправедливое, что только могло взбрести в голову. Но чем же, чем он взволновал ее?
Сильнее обиды мучило любопытство — хоть мельком еще взглянуть: да какой же он? Да и нет ничего в нем… Миллион таких дураков… Большевик, конечно… Разбойник… А глаза-то, глаза — наглые… И мучила девичья гордость: о таком весь день думать! Из-за такого сжимать пальцы!..
Ночью весь госпиталь был разбужен. Бегали доктора, санитары, волокли узлы. Сидели на койках испуганные больные. За окнами гремели колеса, раскатывалась бешеная ругань. В Казань входили чехи. Красные эвакуировались. Все, кто мог уйти, покинули госпиталь, Ольга Вячеславовна осталась, про нее не вспомнили.
На рассвете в больничном коридоре громыхали прикладами грудастые, чисто, по-заграничному, одетые чехи. Кого-то волокли, — срывающийся голос помощника заведующего завопил: «Я подневольный, я не большевик… Пустите, куда вы меня?..» Двое паралитиков подползли к окошку, выходящему во двор, сообщили шепотом: «В сарай повели вешать сердешного…»
Ольга Вячеславовна оделась, — на ней было казенное серенькое платье, — бинт на голове прикрыла белой косынкой. Над городом плыл праздничный звон колоколов. Занималась заря. Слышалась — то громче, то замирая — военная музыка входящих полков. Вдали за Волгой раскатывался удаляющийся гром пушек.
Ольга Вячеславовна вышла из палаты. На завороте в коридоре ее остановил патруль — два на низком ходу усатых чеха, пршикая и шипя, потребовали, чтобы она вернулась. «Я не пленница, я русская», — сверкая глазами, крикнула им Ольга Вячеславовна. Они засмеялись, протянули руки — ущипнуть за щеку, за подбородок… Но не лезть же ей было грудью на два лезвия опущенных штыков. Она вернулась, раздувая ноздри, села на койку, от мелкой дрожи постукивала зубами.
Утром больные не получили чаю, начался ропот. В обеденный час чехи взяли пять человек ампутированных красноармейцев. Паралитики у окна сообщили, что сердешных повели в сарай. Затем в палату вошел русский офицер, высоко подтянутый ремнем, в широких, как крылья летучей мыши, галифе. Больные потянули на себя одеяла. Он оглядел койки, прищуренные глаза его остановились на Ольге Вячеславовне. «Зотова? — спросил он. — Следуйте за мной…» Он точно летел на крыльях галифе, звонкие шпоры его наполняли чоканьем пустоту коридора.
Нужно было проходить через двор. В это время из подъезда, куда ее вели, вышел кудрявый юноша в русской вышитой рубашке, как-то мимолетом, надевая картуз, взглянул на нее и поторопился к воротам… Ольга Вячеславовна споткнулась… Ей показалось… Нет, этого не могло быть…
Она вошла в приемную и села у стола, глядя на военного с длинным, искривленным, как в дурном зеркале, лицом. Глядел и он на нее разноглазыми глазами.
— И вам не стыдно, дочери уважаемого в городе человека, интеллигентной девушке, связаться со сволочью? — услышала она его укоризненный голос, презрительно налегающий на гласные.
Она сделала усилие понять — что он говорит. Какая-то настойчивая мысль мешала ей сосредоточиться. Вздохнув, она сжала руки на коленях и принялась рассказывать все, что с ней случилось. Офицер медленно курил, навалившись на локоть. Она кончила. Он перевернул лист бумаги, под ней лежала карандашная записочка.
— Наши сведения не совсем совпадают, — сказал он, задумчиво морща лоб. — Хотелось бы услышать от вас кое-что о вашей связи с местной организацией большевиков. Что? — Угол рта его пополз вверх, брови перекривились.
Ольга Вячеславовна со страхом наблюдала ужасающую ассиметрию его чисто выбритого лица.
— Да вы… Я не понимаю… Вы с ума сошли…
— К сожалению, у нас имеются неопровержимые данные, как это ни странно. (Он держал папиросу на отлете, покачиваясь, пустил струйку дыма — нельзя было придумать ничего более салонного, чем этот человек.) Ваша искренность подкупает… (Колечко дыма.) Будьте же искренни до конца, дорогая… Кстати: ваши друзья, красноармейцы, умерли героями. (Один пегий глаз его устремился куда-то в окно, откуда видны ворота сарая.) Итак, мы продолжаем молчать? Ну что ж…
Взявшись за ручки кресла, он обернулся к чехам:
— Битте, прошу…
Чехи подскочили, приподняли Ольгу Вячеславовну со стула, провели по ее бокам, по груди, удовлетворенно поводя усами, — щупали, искали под юбкой карманы. Он глядел, приподнявшись, расширив разные глаза. Ольга Вячеславовна задохнулась. Румянец, пожар крови залил ее щеки. Вырвалась, вскрикнула…
— В тюрьму! — приказал офицер.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Два месяца Ольга Вячеславовна просидела в тюрьме, сначала в общей камере, потом в одиночке. В первые дни она едва не сошла с ума от навязчивой мысли о воротах сарая, припертых доской. Она не могла спать: во сне ее горло опутывалось веревкой.
Ее не допрашивали, никто ее не вызывал, о ней точно забыли. Понемногу она начала размышлять. И вдруг точно книга раскрылась перед ней: все стало ясно. Тот, кудрявый, в вышитой рубашке, был действительно Валька, убийца: она не ошиблась… Боясь, что она донесет, он поторопился оговорить ее: карандашная записочка была его доносом…
Ольга Вячеславовна могла сколько угодно метаться, как пума, по одиночной камере: на ее страстные просьбы (в глазок двери) видеть начальника тюрьмы, следователя, прокурора угрюмые тюремные сторожа только отворачивались. В исступлении она все еще верила в справедливость, придумывала фантастические планы — раздобыть бумаги и карандаш, написать всю правду каким-то высшим властям, справедливым, как бог.
Однажды ее разбудили грубые, отрывистые голоса, грохот отворяемой двери. Кто-то входил в соседнюю камеру. Там был заключен человек в очках, — про него она знала только, что он надрывающе кашляет по ночам. Вскочив, она прислушалась. Голоса за стеной поднимались до крика — нестерпимые, торопливые. Надорвались, затихли. В тишине послышался стон, будто кому-то делали больно и он сдерживался, как на зубоврачебном кресле.
Ольга Вячеславовна прижалась в углу, под окном, безумно расширив глаза в темноту. Ей вспомнились рассказы (когда сидела в общей) о пытках… Она, казалось, видела опрокинутое землистое лицо в очках, дряблые щеки, дрожащие от муки… Ему скручивают проволокой кисти рук, щиколотки так, чтобы проволока дошла до кости… «Заговоришь, заговоришь», — казалось, расслышала она… Раздались удары, будто выколачивали ковер, не человека… Он молчал… Удар, снова удар… И вдруг что-то замычало… «Ага! Заговоришь!..» И уже не мычанье — больной вой наполнил всю тюрьму… Будто пыль от этого страшного ковра окутала Ольгу Вячеславовну, тошнота подошла к сердцу, ноги поехали, каменный пол закачался — ударилась о него затылком…
Эта ночь, когда человек мучил человека, закрыла тьмой всю ее робкую надежду на справедливость. Но страстная душа Ольги Вячеславовны не могла быть в безмолвии, в бездействии. И после черных дней, когда едва не помутился разум, она, расхаживая по диагонали камеры, нашла спасение: ненависть, мщение. Ненависть, мщение! О, только бы выйти отсюда!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Подняв голову, она глядела на узкое окошечко; пыльные стекла позванивали тихо, высохшие пауки колебались в паутине. Громовыми раскатами вздыхали где-то пушки. (Это на Казань двигалась Пятая красная армия.) Сторож принес обед, сопнув, покосился на окошечко: «Калачика вам принес, барышня… Если что нужно — только стукните… Мы завсегда с политическими…»
Весь день звенели стекла. За дверями вздыхали сторожа. Ольга Вячеславовна сидела на койке, охватив колени. К еде и не притронулась. Било в колени сердце, били громом пушки за окном. В сумерки опять на цыпочках вошел сторож и — шепотом: «Мы подневольные, а мы всегда — за народ…»
Около полуночи в тюремных коридорах началось движение, захлопали двери, раздались грозные окрики. Несколько офицеров и штатских, грозя оружием, гнали вниз толпу заключенных человек в тридцать. Ольгу Вячеславовну выволокли из камеры, бегом потащили по лестницам. Она, как кошка, извивалась, силилась укусить за руки. На минуту она увидела ветреное небо в четырехугольнике двора, холод осенней ночи наполнил грудь. Затем — низкая дверь, каменные ступени, гнилая сырость подвала, наполненного людьми; конусы света карманных фонариков заметались по кирпичной стене, по бледным лицам, расширенным глазам… Исступленная матерная ругань… Грохнули револьверные выстрелы, казалось — повалились подвальные своды… Ольга Вячеславовна кинулась куда-то в темноту… На мгновение в луче фонарика выступило лицо Вальки… Горячо ударило ей в плечо, огненным веретеном просверлило грудь, рвануло за спину… Споткнувшись, она упала лицом в плесень, пахнущую грибами…
Пятая армия взяла Казань, чехи ушли вниз на пароходах, русские дружины рассеялись — кто куда, половина жителей в ужасе перед красным террором бежала на край света. Несколько недель по обоим берегам Волги, вздувшейся от осенних дождей, брели одичавшие беглецы с узелком и палочкой, терпели неслыханные лишения. Ушел из Казани и Валька.
Ольга Вячеславовна, наперекор здравому смыслу, осталась жива. Когда из тюремного подвала были вынесены трупы расстрелянных и рядом положены на дворе под хмуро моросящим небом, над ней присел и тихонько поворачивал ее голову кавалерист в нагольном тулупчике.
— А девчонка-то дышит, — сказал он. — Надо бы, братцы, до врача добежать…
Это был тот самый зубастый, с ястребиными глазами. Он сам перенес девушку в тюремный лазарет, побежал разыскивать в суматохе завоеванного города «непременно старорежимного профессора», ворвался на квартиру к одному профессору, сгоряча арестовал его, напугав до смерти, доставил на мотоциклетке в лазарет и сказал, указав на бесчувственную, без кровинки в лице, Ольгу Вячеславовну: «Чтоб была жива…»
Она осталась жива. После перевязки и камфары приоткрыла синеватые веки и, должно быть, узнала наклонившиеся к ней ястребиные глаза. «Поближе, — чуть слышно проговорила она, и когда он совсем придвинулся и долго ждал, она сказала непонятно к чему: — Поцелуйте меня…» Около койки находились люди, время было военное, человек с ястребиными глазами шмыгнул, оглянулся: «Черт, вот ведь», — однако не решился, только подправил ей подушку.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Кавалериста звали Емельянов, товарищ Емельянов. Она спросила имя и отчество, — по имени-отчеству звали Дмитрий Васильевич. Узнав это, закрыла глаза, шевелила губами, повторяя: «Дмитрий Васильевич».
Полк его формировался в Казани, и Емельянов каждый день навещал девушку. «Должен вам сказать, — повторял он ей для бодрости, — живучи вы, Ольга Вячеславовна, как гадюка… Поправитесь — запишу вас в эскадрон, лично моим вестовым…» Каждый день говорил ей об этом, и не надоедало ни ему говорить, ни ей слушать. Он смеялся, блестя зубами, у нее нежная улыбка ложилась на слабые губы. «Волосы вам обстригем, сапожки достану легонькие, у меня припасены с убитого гимназиста; на первое время, конечно, к коню ремнем будем прикручивать, чтобы не свалились…»
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ольга Вячеславовна действительно была живуча, как гадюка. После всех происшествий от нее, казалось, остались только глаза, но горели они бессонной страстью, нетерпеливой жадностью. Прошлая жизнь осталась на дальнем берегу. Строгий, зажиточный дом отца; гимназия, сентиментальные подруги, снежок на улицах, девичьи увлечения заезжими артистами, обожание, по обычаю, учителя русского языка — тучного красавца Воронова; гимназический «кружок Герцена» и восторженные увлечения товарищами по кружку; чтение переводных романов и сладкая тоска по северным, — каких в жизни нет, — героиням Гамсуна, тревожное любопытство от романов Маргерита…[25] Неужто все это было? Новое платье к рождественским праздникам, святочная влюбленность в студента, наряженного Мефистофелем, его рожки из черной саржи, набитые ватой… Запах цветов, замерзших на тридцатиградусном морозе… Грустная тишина, перезвон великого поста, слабеющие снега, коричневые на торговых улицах… Тревога весны, лихорадка по ночам… Дача на Верхнем Услоне, сосны, луга, сияющая Волга, уходящая в беспредельные разливы, и кучевые облака на горизонте… Все это теперь вспоминалось, может быть, только во сне, в теплоте влажной от слез больничной подушки…
В эти сны, — так ей представлялось, — разъяренной плотью ворвался Валька с пятифунтовой гирей на ремешке. Этого Вальку Брыкина выгнали за хулиганство из гимназии, он ушел добровольцем на фронт и через год опять появился в Казани, щеголяя уланской формой и солдатским «Георгием». Рассказывали, что его отец, полицейский пристав Брыкин (тот самый, кто издал знаменитый приказ, чтобы «городовым входить в храм божий без усилий»), подал прошение командующему войсками округа, умоляя сына своего Вальку услать на самые передовые позиции, где бы его убили наверное, так как для родительского сердца лучше видеть этого негодяя мертвым, чем живым… Валька был всегда голоден, жаден до удовольствий и смел, как черт. Война научила его ухваткам, он узнал, что кровь пахнет кисло, и — только, революция развязала ему руки.
Пятифунтовая гиря его вдребезги разбила радужный ледок Олечкиных снов. До ужаса тонок оказался ледок, а на нем мечталось ей построить благополучие: замужество, любовь, семью, прочный, счастливый дом… Под ледком таилась пучина… Хрустнул он — и жизнь, грубая и страстная, захлестнула ее мутными волнами.
Ольга Вячеславовна так это и приняла: бешеная борьба (два раза убивали — не убили, ни черта она теперь не боялась), ненависть во всю волю души, корка хлеба на сегодня и дикая тревога еще не изведанной любви — это жизнь… Емельянов садился у койки, она подсовывала под спину подушку, сжимала худыми пальчиками край одеяла и говорила, с невинным доверием глядя ему в глаза:
— Я так представляла себе: муж — приличный блондин, я — в розовом пеньюаре, сидим, оба отражаемся в никелированном кофейнике. И больше — ничего!.. И это — счастье… Ненавижу эту девчонку… Счастья ждала, ленивая дура, в капоте, за кофейником!.. Вот сволочь!..
Емельянов, упираясь кулаками в ляжки, смеялся над ее рассказами. Олечка, сама того не понимая, силилась вся перелиться в него… У нее было одно сейчас желание: оторвать тело от постели больничной койки. Она обстригла волосы. Емельянов доставил ей короткий кавалерийский полушубок, синие с красным кантом штаны и, как обещал, козловые щегольские сапожки.
В ноябре Ольга Вячеславовна выписалась из больницы. В городе не было ни родных, ни знакомых. Северные тучи неслись над пустынными улицами, заколоченными магазинами, хлестали дождем и снегом. Емельянов бойко месил по грязи из переулка в переулок в поисках жилого помещения. Олечка плелась за ним на шаг позади в промокшем пудовом полушубке, в сапожках с убитого гимназиста; дрожали коленки, но лучше умереть — не отстала бы от Дмитрия Васильевича. Он получил в исполкоме ордер на жилую площадь для товарища Зотовой, замученной белогвардейцами, и подыскивал что-нибудь необыкновенное. Наконец остановился на огромном, с колоннами и зеркальными окнами, особняке купцов Старобогатовых, брошенном хозяевами, и реквизировал его. В необитаемом доме через разбитые окна гулял ветер по анфиладе комнат с расписными потолками и золоченой, уже ободранной мебелью. Позванивали жалобно хрусталики на люстрах. В саду уныло шумели голые липы. Ударом ноги Емельянов отворял двустворчатые двери.
— Ну гляди, навалили, дьяволы, прямо на паркет, в виде протеста…
В парадном зале он разломал дубовый орган — во всю стену — и дерево снес в угловую комнату с диванами, где жарко натопил камин.
— Здесь и чайничек можете вскипятить, и тепло и светло, — умели жить буржуи…
Он доставил ей жестяной чайник, сушеной моркови — заваривать, крупы, сала, картошки — все довольствие недели на две, и Ольга Вячеславовна осталась одна в темном и пустом доме, где страшно выли печные трубы, будто призраки купцов Старобогатовых надрывались от тоски, сидя на крыше под осенним дождем…
У Ольги Вячеславовны было сколько угодно времени для размышлений. Садилась на стульчик, глядела на огонь, где начинал запевать чайник, думала о Дмитрии Васильевиче: придет ли сегодня? Хорошо бы — пришел, у нее как раз и картошка сварилась. Издали она слышала его шаги по гулким паркетам: входил он — веселый, страшноглазый, — входила ее жизнь… Отстегивал револьвер и две гранаты, скидывал мокрую шинель, спрашивал, все ли в порядке, нет ли какой нужды.
— Главное, чтобы грудной кашель прошел и в мокроте крови не было… К Новому году вполне будете в порядке.
Напившись чаю, свернув махорочку, он рассказывал о военных делах, картинно описывал кавалерийские сражения, иногда до того разгорячался, что жутко было глядеть в его ястребиные глаза.
— Империалистическая война — позиционная, окопная, потому что в ней порыва не было, умирали с тоской, — рассказывал он, расставив ноги посреди комнаты и вынув из ножен лезвие шашки. — Революция создала конную армию… Понятно вам? Конь — это стихия… Конный бой — революционный порыв… Вот у меня — одна шашка в руке, и я врубаюсь в пехотный строй, я лечу на пулеметное гнездо… Можно врагу вытерпеть этот мой вид? Нельзя… И он в панике бежит, я его рублю, — у меня за плечами крылья… Знаете, что такое кавалерийский бой? Несется лава на лаву без выстрела… Гул… И ты — как пьяный… Сшиблись… Пошла работа… Минута, ну — две минуты самое большее… Сердце не выдерживает этого ужаса… У врага волосы дыбом… И враг повертывает коней… Тут уж — руби, гони… Пленных нет…
Глаза его блистали, как сталь, стальная шашка свистела по воздуху… Ольга Вячеславовна с похолодевшей от волнения спиной глядела на него, упираясь острыми локтями в колени, прижав подбородок к стиснутым кулачкам… Казалось: рассеки свистящий клинок ее сердце — закричала бы от радости: так любила она этого человека…
Зачем же он щадил ее? Неужели в нем была одна только жалость к ней? Жалел сироту, как подобранную на улице собачонку? Иногда, казалось, она ловила его взгляд искоса — быстрый, затуманенный не братским чувством… Жар кидался ей в щеки, не знала, куда отвести лицо, метнувшееся сердце валилось в головокружительную пропасть… Но — нет, он вытаскивал из кармана московскую газету, садился перед огнем читать вслух фельетон — нижний подвал, где «гвоздили» из души в душу последними словами мировую буржуазию… «Не пулей — куриным словом доедем… Ай, пишут как, ай, черти!» — кричал он, топая ногами от удовольствия…
Наступила зима. Здоровье Ольги Вячеславовны поправлялось. Однажды Емельянов пришел к ней рано, до света, велел одеться и повел ее на плац, где преподал первые законы кавалерийской посадки и обращения с конем. На рассвете падал мягкий снежок, Ольга Вячеславовна скакала по белому плацу, оставляя песчаные следы от копыт. Емельянов кричал: «Сидишь, мать твою так, как собака на заборе! Подбери носки, не заваливайся!» Ей было смешно, — и радостью свистел ветер в ушах, пьянил грудь, на ресницах таяли снежинки.
3
В слабой девочке таились железные силы: непонятно, откуда что бралось. За месяц обучения на плацу в конном и пешем строю она вытянулась, как струна, морозный ветер зарумянил лицо. «Поглядеть со стороны, — говорил Емельянов, — соплей ее перешибешь, а ведь — чертенок…» И как черт она была красива: молодые кавалеристы крутили носами, задумывались матерые, когда Зотова, тонкая и высокая, с темной ладной шапочкой волос, в полушубке, натуго перехваченном ремнем, позванивая шпорами, проходила в махорочном дыму казармы.
Худые руки ее научились ловко и чутко управлять конем. Ноги, казалось, пригодные только к буржуазным танцам да к шелковым юбкам, развились и окрепли, и в особенности дивился Емельянов ее шенкелям: сталь, чуткость, как клещ, сидела в седле, как овечка, ходил под ней конь. Обучилась владеть и клинком — лихо рубила пирамидку и лозу, но, конечно, настоящего удара у нее не было: в ударе вся сила в плече, а плечики у нее были девичьи.
Не глупа была и по части политграмоты. Емельянов боялся за «буржуазную отрыжку», — время было тогда суровое. «Товарищ Зотова, какую цель преследует Рабоче-Крестьянская Красная Армия?..» Ольга Вячеславовна выскакивала — и без запинки: «Борьбу с кровавым капитализмом, помещиками, попами и интервентами за счастье всех трудящихся на земле…» Зотова была зачислена бойцом в эскадрон, которым командовал Емельянов. В феврале полк погрузился в теплушки и был брошен на деникинский фронт.
Когда Ольга Вячеславовна, стоя с конем в поводу на грязно-навозном снегу станции, где выгрузились эшелоны, глядела на мрачное, в ветреных тучах, угольно-красное и синее зарево весеннего заката и слушала отдаленные раскаты пушек — все недавнее прошлое незабываемой обидой, мстительной ненавистью поднялось в ней. «Бро-о-сай курить!.. На коней!..» — раздался голос Емельянова. Легким движением она села в седло, шашка ударила ее по бедру… Теперь не попробуешь рвать рубашку, грозить пятифунтовой гирей, не потащишь под локти в подвал! «Ры-ысью марш!..» Заскрипело седло, засвистал сырой ветер, глаза глядели на багровый мрак заката. «Кони сорвались с цепей, разве только у океана остановимся», — упоительной песней припомнились ей слова любимого друга… Так началась ее боевая жизнь.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
В эскадроне все называли Ольгу Вячеславовну женой Емельянова. Но она не была ему женой. Никто бы не поверил, обезживотели бы со смеху, узнай, что Зотова — девица. Но это скрывали и она и Емельянов. Считаться женой было понятнее и проще: никто ее не лапал — все знали, что кулак у Емельянова тяжелый, несколько раз ему пришлось это доказать, и Зотова была для всех только братишкой.
По обязанности вестового Зотова постоянно находилась при командире эскадрона. В походе ночевала с ним в одной избе и часто — на одной кровати: он — головой в одну сторону, она — в другую, прикрывшись каждый своим полушубком. После утомительных, по полсотне верст, дневных переходов, убрав коня, наскоро похлебав из котла, Ольга Вячеславовна стягивала сапоги, расстегивала ворот суконной рубашки и засыпала, едва успев прилечь на лавке, на печи, с краю кровати… Она не слыхала, когда ложился Емельянов, когда он вставал. Он спал, как зверь — мало, будто одним ухом прислушиваясь к ночным шорохам.
Емельянов обращался с ней сурово, ничем не выделял среди бойцов, цепляясь к ней, пожалуй, чаще, чем к другим. Она только теперь поняла силу его ястребиных глаз: это был взор борьбы. Добродушие, зубоскальство сошли с него в походе вместе с лишним жиром. После ночного обхода, найдя коней в порядке, бойцов спящими, заставы и часовых — на местах, Емельянов входил в избу усталый, крепко пахнущий потом, садился на лавку, чтобы последним усилием стащить набухшие сапоги, и часто так сидел в изнеможении с полустянутым голенищем на одной ноге. Подходил к кровати и на минуту засматривался в пылающее во сне, обветренное, и женское и детское лицо Ольги Вячеславовны. Глаза его затуманивались, нежная улыбка ложилась на губы. Но за провинность он бы не пощадил.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Зотова везла пакет в дивизию. Над степью, то зеленой, то серо-серебристой от полыни, безоблачное майское небо пело голосами жаворонков. У коня играла селезенка, — совсем как иноходец, шел он мягкой рысью. Перебегали желтенькие суслики дорогу. В такое утро можно было забыть, что есть война, враг теснит и обходит, пехотные дивизии, не принимая боя, ломают вагоны, уходят в тыл, в городах — голод, по деревням — бунты. А весна, как и прежде, убирала красой землю, волновала мечтами. Даже конь, весь потный от худого корма, пофыркивал, подлец, косил лиловым глазом, интересовался — побаловаться, поиграть.
Дорога шла мимо полузаросшего осокой пруда, в нем отражался, весь в складках, меловой обрыв. Конь перебил шаг и потянул к воде. Зотова спешилась, разнуздала его, и он, войдя по колено, стал пить, но только потянул воду — поднял лысую морду и, весь сотрясаясь, громко, тревожно заржал. Сейчас же из лозняков в конце пруда ему ответили ржанием. Зотова живо взнуздала, вскочила в седло; вглядываясь, потянула из-за спины ложе карабина. В лозняках заныряли две головы, и на берег выскочили всадники — двое. Остановились. Это был разъезд. Но чей? Наш или белый?
У одного лошадь нагнула голову, сгоняя слепня с ноги, всадник потянулся за поводом, и на плече его блеснула золотая полоска… «Тикать!» Ольга Вячеславовна ударила ножнами коня, пригнулась, — и полетели кустики полыни, сухие репья навстречу… За спиной послышался тяжелый настигающий топот… Выстрел… Она покосилась — один из всадников забирал правее, наперерез ей. Конь его, рыжий, донской, махал, как борзая собака… Опять выстрел сзади… Она сорвала со спины карабин, бросила поводья. Всадник на донце скакал шагах в пятидесяти. «Стой, стой!» — страшно закричал он, размахивая шашкой… Это был Валька Брыкин. Она узнала его, толкнула шенкелем коня — навстречу ему, вскинула винтовку, и жгучей ненавистью сверкнул ее выстрел… Донской жеребец, мотая башкой, взвился на дыбы и сразу грохнулся, придавив всадника… «Валька! Валька!» — крикнула она дико и радостно, — и в эту минуту на нее сзади наскочил второй всадник… Увидела только его длинные усы, большие глаза, выпученные изумленно: «Баба!» — и его занесенная шашка вяло звякнула по стволу карабина Ольги Вячеславовны. Лошадь пронесла его вперед. В руках у нее уже не было карабина — должно быть, швырнула его или уронила (впоследствии, рассказывая, она не могла припомнить); ее рука ощутила позывную, тягучую тяжесть выхваченного лезвия шашки, стиснутое горло завизжало, конь разостлался в угон, настиг, и она наотмашь ударила. Усатый лег на гриву, обеими руками, держась за затылок.
Конь, резко дыша, нес Ольгу Вячеславовну по полынной степи. Она увидела, что все еще сжимает рукоять клинка. С трудом, не попадая в ножны, вложила его. Потом остановила лошадь; меловой обрыв, озерцо остались влево, далеко позади. Степь была пустынна, никто не гнался, выстрелы прекратились. Звенели жаворонки в сияющей синеве, пели добро и сладко, как в детстве. Ольга Вячеславовна схватилась за рубашку на груди, сжала пальцами горло, испуганно стараясь сдержаться, но — ничего не вышло: слезы брызнули, и, плача, она вся затряслась на седле.
Потом, по пути в штаб дивизии, она еще долго сердито вытирала глаза то одним кулачком, то другим.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
В эскадроне сто раз заставляли Зотову рассказывать эту историю. Бойцы хохотали, крутили головами, с ног валились от смеха.
— Ой, не могу, ой, братцы, смехотища! Баба угробила двух мужиков!..
— Постой, ты расскажи: значит, он на тебя налетает с затылка и вдруг закричал: «Баба!»
— А велики ли усы-то у него были?
— Глаза вылупил, удивился.
— И рука не поднялась?
— Ну, известное дело.
— И ты его тут — тюк по затылку… Ой, братишки, умру… Вот тебе и кавалер — разлетелся.
— Ну, а потом ты что?
— Ну что «потом»? — отвечала Ольга Вячеславовна. — Обыкновенно: клинок вытерла и побежала в дивизию с пакетом.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Одно существенное неудобство было в походной жизни: Ольга Вячеславовна не могла преодолеть стыдливость. В особенности досадно ей бывало, когда в жаркий день эскадрон дорывался до реки или пруда; бойцы нагишом, в радугах водяной пыли, с хохотом и гиканьем въезжали в воду на расседланных конях. Зотовой приходилось выбирать местечко отдельно, где-нибудь за кустом, за тростниками. Ей кричали:
— Дура девка, ты обвяжись портянкой, айда с нами.
Емельянов строго следил за чистоплотностью и опрятностью. «Если у конника прыщ на ягодице — вон из строя; это не боец, — говаривал он. — Конник, пуще всего береги ж… Если позволяют обстоятельства, летом и зимой обливайся у колодца — четверть часа физических упражнений».
Обливание у колодца тоже бывало затруднительно для нее: приходилось вставать раньше других, бежать по студеной росе, когда в слоистых облаках и туманах еще только брезжило утро пунцовой щелью. Однажды она вытащила жалобно заскрипевшим журавлем ведро ледяной пахучей воды, поставила его на край колодца, разделась, пожимаясь от сырости, — и что-то будто коснулось неслышно ее спины.
Обернулась: на крыльце стоял Дмитрий Васильевич и пристально и странно глядел на нее. Тогда она медленно зашла за колодец и присела так, что видны были только ее немигающие глаза. Будь это любой из товарищей, она бы прикрикнула просто: «Что ты, черт, уставился, отвернись!» Но голос ее пересох от стыда и волнения. Емельянов пожал плечами, усмехнулся и ушел.
Случай был незначительный, но все изменилось с той поры. Все вдруг стало сложным — самое простое. Эскадрон остановился на ночевку на горелых хуторах, для спанья пришлась одна кровать, как это часто бывало. В эту ночь Ольга Вячеславовна легла на самый краешек, на попону, пахнущую конем, и долго не могла заснуть, хотя и сжимала веки изо всей силы. Все же она не услышала, когда пришел Емельянов. Когда петухи разбудили ее — он, оказывается, спал прямо на полу, у двери… Исчезла простота… В разговорах Дмитрий Васильевич хмурился, глядел в сторону; она чувствовала на его лице, на своем лице одну и ту же напряженную, притворную маску. И все же это время она жила как пьяная от счастья.
До сих пор Зотова не бывала в настоящем деле. Полк вместе с дивизией продолжал отходить на север. Во время мелких стычек она неизменно находилась при командире эскадрона. Но вот где-то на фронте случилась большая неприятность, — о ней тревожно и глухо заговорили. Полк получил приказ — прорваться через неприятельскую линию, пройти по тылам и снова прорваться на крайний фланг армии. Впервые Ольга Вячеславовна услышала слово «рейд». Выступили немедленно. Эскадрон Емельянова шел первым. К ночи стали в лесу, не разнуздывая коней, не зажигая огня. Теплый дождь шумел по листьям, не было видно вытянутой руки. Ольга Вячеславовна сидела на пне, когда ласковая рука легла на ее плечи; она догадалась, вздохнула, закинула голову. Дмитрий Васильевич, нагнувшись, спросил:
— Не заробеешь? Ну, ну, смотри… Ближе ко мне держись…
Потом раздалась негромкая команда, бойцы беззвучно сели на коней. Ольга Вячеславовна свернула наугад и коснулась стременем Дмитрия Васильевича. Долго пробирались шагом. Под копытами чавкало, тянуло грибами откуда-то. Затем в непроглядной темноте появились мутные просветы — лес редел. Справа, совсем близко, метнулись огненные иглы, гулкие выстрелы покатились по чернолесью. Емельянов крикнул протяжно: «Шашки вон, марш, марш!..» Мокрые сучья захлестали по лицу, кони теснились, храпели, колени задевали о стволы. И сразу серая, дымная, уходящая вниз поляна разостлалась перед глазами, по ней уже мчались тени всадников. Берег оборвался. Ольга Вячеславовна вонзила шпоры, конь, подобрав зад, кинулся в речку…
Полк прорвался в неприятельский тыл. Скакали во тьме под низкими тучами; степь гудела под копытами пяти сотен коней. На скаку, срываясь, запели трубы горнистов. Приказано было спешиться. По эскадронам роздали погоны и кокарды. Емельянов собрал в круг бойцов.
— В целях маскировки мы теперь — сводный полк северокавказской армии генерал-лейтенанта барона Врангеля. Запомнили, курьи дети? (Бойцы заржали.) Кто там смеется, — в зубы, молчать; я вам теперь не «товарищ командир», а «его высокоблагородие господин капитан». (Он чиркнул спичкой, на плече его блеснул золотой погон с одним просветом.) Вы теперь не «товарищи», а «нижние чины». Тянуться, козырять, выкать. «Мо-о-ол-чать, руки по швам!» Поняли? (Весь эскадрон грохотал; вытягивались, козыряли, и «ваше высокоблагородие» пристегивали разные простые словечки.) Пришивайте погоны, звезду в карман, кокарду на фуражку…
Три дня мчался замаскированный полк по врангелевскому тылу. Столбы черного дыма поднимались по его следам — горели железнодорожные станции, поезда, военные склады, взлетали на воздух водокачки и пороховые погреба. На четвертые сутки кони приустали, начали спотыкаться, и в глухой деревеньке был сделан дневной привал. Ольга Вячеславовна убрала коня и тут же, не перешагнув через ворох сена, повалилась, заснула. Разбудил ее громкий женский смех: свежая бабенка в подоткнутой над голыми икрами черной юбке сказала кому-то, указывая на Зотову: «Какой хорошенький…» Бабенка вешала на дворе вымытые портянки.
Когда Ольга Вячеславовна вошла в избу, у стола сидел Емельянов, заспанный, веселый, в волосах пух, ноги босые. Значит — его портянки были стираны.
— Садись, сейчас борщ принесут. Хочешь водки? — сказал он Ольге Вячеславовне.
Та же свежая бабенка вошла с чугуном борща, отворачивая от пахучего пара румяную щеку. Стукнула чугуном под самым носом у Емельянова, повела полным плечом:
— Точно ждали мы вас, уж и борщ… — Голос у нее был тонкий, нараспев, — бойка, нагла… — Портяночки ваши выстирала, не успеете оглянуться — высохнут… — И сучьими глазами мазнула по Дмитрию Васильевичу.
Он одобрительно покрякивал, хлебая, — весь какой-то сидел мягкий.
Ольга Вячеславовна положила ложку; лютая змея ужалила ей сердце, — помертвела, опустила глаза. Когда бабенка вывернулась за дверь, она догнала ее в сенях, схватила за руку, сказала шепотом, задыхаясь:
— Ты что: смерти захотела?..
Бабенка ахнула, с силой выдернула руку, убежала.
Дмитрий Васильевич несколько раз изумленно поглядывал на Ольгу Вячеславовну: какая ее муха укусила? А когда садился на коня, увидел ее свирепые потемневшие глаза, раздутые ноздри и из-за угла сарая испуганно выглядывающую, как крыса, простоволосую бабенку, и — все понял, расхохотался — по-давнишнему — всем белым оскалом зубов. Выезжая из ворот, коснулся коленом Олечкиного колена и сказал с неожиданной лаской:
— Ах ты дурочка…
У нее едва не брызнули слезы.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
На пятый день было обнаружено, что целая казачья дивизия преследует по пятам замаскированный красный полк. Теперь уходили полным ходом, бросая измученных коней. Когда настала ночь, завязался арьергардный бой. Полковое знамя было передано первому эскадрону. Не останавливаясь, влетели в какое-то, без огней, темное село. Стучали рукоятками шашек в ставни. Выли собаки, все кругом казалось вымершим, только на колокольне бухнул колокол и затих.
Привели двух мужиков, — нашли их в соломе, лохматых, как лешие. Оглядываясь на конников, они повторяли только:
— Братцы, голубчики, не губите…
— За белых ваше село или за советскую власть? — нагнувшись с седла, закричал Емельянов.
— Братцы, голубчики, сами не знаем… Все у нас взяли, пограбили, все разорили…
Все же удалось от них допытаться, что село пока не занято никем, что ждут действительно казаков Врангеля и что за рекой, за железнодорожным мостом, в окопах находятся большевики. Полк снял погоны, нацепил звезды и перешел через мост на свою сторону. Здесь выяснилось, что по всему фронту белые наступают как бешеные и этот мост велено защищать — хоть сдохни; а воевать нечем: пулеметные ленты к пулеметам не подходят, в окопах — вши, хлеба нет, красноармейцы от вареного зерна распухли до последней степени, как ночь — разбегаются; агитатор был, да помер от поноса.
Командир полка соединился по прямому проводу с главковерхом: действительно — было велено защищать мост до последней капли крови, покуда армия не выйдет из окружения.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
— Живыми отсюда не уйдем, — сказал Емельянов.
Он зачерпнул из реки два котелка, один подал Ольге Вячеславовне и, присев около нее, вглядывался в неясное очертание дальнего берега. Мутная желтоватая звезда стояла над рекой. Весь день врангелевские батареи частым огнем разрушали окопы большевиков. А вечером пришел приказ: форсировать мост, отбросить белых от реки и занять село.
Ольга Вячеславовна глядела на мутноватый неподвижный след звезды на реке, — в нем была тоска.
— Ну, пойдем, Оля, — сказал Дмитрий Васильевич, — надо поспать часик. — В первый раз он назвал ее по имени.
Из кустов на крутой берег выползали с котелками воды крадущиеся фигурки бойцов: весь день к реке не было подступа, никто не пил ни капли. Все уже знали о страшном приказе. Для многих эта ночь казалась последней.
— Поцелуй меня, — с тихой тоской сказала Ольга Вячеславовна.
Он осторожно поставил котелок, привлек ее за плечи, — у нее упала фуражка, закрылись глаза, — и стал целовать в глаза, в рот, в щеки.
— Женой бы тебя сделал, Оля, да нельзя сейчас, понимаешь ты…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ночные атаки были отбиты. Белые укрепили мост, запутав конец его проволокой, и били вдоль него из пулеметов. Серое утро занялось над дымящейся рекой, над сырыми лугами. Земля на обоих берегах взлетала поминутно, будто вырастали черные кусты. Воздух выл и визжал, плотными облачками рвалась шрапнель. От грохота дурели люди. Множество уткнувшихся, раскинутых тел валялось близ моста. Все было напрасно. Люди не могли больше идти на пулеметный огонь.
Тогда за железнодорожной насыпью восемь коммунаров съехались под полковое знамя; разорванное и простреленное, оно на рассвете казалось кровавого цвета. Два эскадрона сели на коней. Полковой командир сказал: «Нужно умереть, товарищи», — и шагом отъехал под знамя. Восьмым был Дмитрий Васильевич. Они обнажили шашки, вонзили шпоры, выехали из-за насыпи и тяжелым карьером поскакали по гулким доскам моста.
Ольга Вячеславовна видела: вот конь одного повалился на перила, и конь и всадник полетели с десятисаженной высоты в реку. Семеро достигли середины моста. Еще один, как сонный, свалился с седла. Передние, доскакав, рубили шашками проволоку. Рослый знаменосец закачался, знамя поникло, его выхватил Емельянов, и сейчас же конь его забился.
Горячо пели пули. Ольга Вячеславовна мчалась по щелястым доскам над головокружительной высотой. Вслед за Зотовой загудели, затряслись железные переплеты моста, заревело полтораста глоток. Дмитрий Васильевич стоял, широко раздвинув ноги, держал древко перед собой, лицо его было мертвое, из раскрытого рта ползла кровь. Проскакивая, Ольга Вячеславовна выхватила у него знамя. Он шатнулся к перилам, сел. Мимо пронеслись эскадроны — гривы, согнутые спины, сверкающие клинки.
Все прорвалось на ту сторону; враг бежал, пушки замолкли. Долго еще над лавой всадников вилось по полю и скрылось за ветлами села в клочья изодранное знамя; с ним теперь уже скакал, колотя лошадь голыми пятками, широкомордый парень-красноармеец, — размахивая древком, кричал: «Вали, вали, бей их!..»
Ольгу Вячеславовну подобрали в поле; она была оглушена падением и сильно поранена в бедро. Товарищи по эскадрону очень жалели ее: не знали, как ей и сказать, что Емельянов убит. Послали депутацию к командиру полка, чтобы Зотову наградили за подвиг. Долго думали — чем? Портсигар — не курит, часы — не бабье дело носить. У одного конника нашли в вещевом мешке брошку из чистого золота: стрела и сердце. Командир полка без возражения согласился на эту награду, но в приказе выразился с оговоркой: «Зотову за подвиг наградить золотой брошью — стрела, но сердце, как буржуазную эмблему, убрать…»
4
Как птица, что мчится в ветреном, в сумасшедшем небе и вдруг с перебитыми крыльями падает клубком на землю, так вся жизнь Ольги Вячеславовны, страстная, невинная любовь, оборвалась, разбилась, и потянулись ей не нужные, тяжелые и смутные дни. Долгое время она валялась по лазаретам, эвакуировалась в гнилых теплушках, замерзала под шинелишкой, умирала с голоду. Люди были незнакомые, злые, для всех она была номер такой-то по лазаретной ведомости, во всем свете — никого близкого. Жить было тошно и мрачно, и все же смерть не взяла ее.
Когда выписалась из лазарета, наголо стриженная, худая до того, что шинель и голенища болтались на ней, как на скелете, — пошла на вокзал, где жили и мерли в залах на полу какие-то, на людей не похожие, люди. Куда было ехать? Весь мир — как дикое поле. Вернулась в город, на сборочный пункт, к военкому, предъявила документы и наградную брошь-стрелку и вскоре с эшелоном уехала в Сибирь — воевать.
Стук вагонных колес, железный жар печурки в сизом дыму, тысячи, тысячи верст, долгие, как путь, песни, вонь и загаженный снег казармы, орущие буквы военных плакатов и черт знает каких афиш и извещений — клочья бумаги, шелестящие на морозе, мрачные митинги среди бревенчатых стен в полумраке коптящей лампы — и опять снега, сосны, дымы костров, знакомый звук железных бичей боя, стужа, сгоревшие села, кровавые пятна на снегу, тысячи, тысячи трупов, как раскиданные дрова, заносимые поземкой… Все это путалось в ее воспоминаниях, сливалось в один долгий свиток нескончаемых бедствий.
Ольга Вячеславовна была худа и черна; могла пить автомобильный спирт, курила махорку и, когда надо, ругалась не хуже других. За женщину ее мало кто признавал, была уж очень тоща и зла, как гадюка. Был один случай, когда к ней ночью в казарме подкатил браток, бездомный фронтовик с большими губами — «Губан» — и попросил у нее побаловаться, но она с внезапным остервенением так ударила его рукояткой нагана в переносье, что братка увели в лазарет. Этот случай отбил охоту даже и думать о «Гадючке»…
Весной занесло ее во Владивосток. В жизни в первый раз она увидела океан — синий, темный, живой. Бежали, стремились к берегу длинные гривы пены, поднимались волны еще на горизонте и, добежав, били в мол, взлетали жидким облаком. Ольга Вячеславовна захотела уйти на корабле… Ожили в воспоминаниях картинки, над которыми мечталось в детстве: берега с невиданными деревьями, горные пики, луч солнца из необъятных облаков и тихий путь кораблика… Проплыть мимо мыса Бурь, посидеть, пригорюнясь, на камешке у реки Замбези… Все это был, конечно, вздор. Никто не принял на корабль, только в портовом тайном кабачке старый лоцман, приняв ее за проститутку и с пьяными слезами пожалев за погибшую молодость, нататуировал на ее руке якорь: «Помни, — сказал, — это надежда на спасение…»
Потом — кончилась война. Ольга Вячеславовна купила на базаре юбку из зеленой плюшевой занавески и пошла служить по разным учреждениям: машинисткой при исполкоме, секретаршей в Главлесе или так, писчебумажной барышней, переезжающей вместе с письменным столом из этажа в этаж.
На месте долго не засиживалась, все время передвигалась из города в город — поближе к России. Думалось: проехать бы по тому мосту, над тем берегом, где, зачерпнув в реке котелок, в последний раз сидел с ней Дмитрий Васильевич… Нашла бы и тот куст ракитовый, и место примятое, где сидели…
Прошлое не забывалось. Жила одиноко, сурово. Но военная жесткость понемногу сходила с нее, — Ольга Вячеславовна снова становилась женщиной…
5
В двадцать два года нужно было начинать третью жизнь. То, что теперь происходило, она представляла, как усилие запрячь в рабочий хомут боевых коней. Потрясенная страна еще вся щетинилась, глаза, еще налитые кровью, искали — что разрушить, а уже повсюду, отгораживая от вчерашнего дня, забелели листочки декретов, призывающих чинить, отстраивать, строить.
Она читала и слышала об этом, и ей казалось, что это труднее войны. Города, где она проживала, были разрушены с неистовой яростью, все покривилось и повалилось, крапивой заросли пожарища, — человек жил под одной рогожкой. Человек ел и спал, и во сне все еще грезились ему видения войны. Творчество выражалось в производстве банных веников и глиняной посуды — такой же, как в пращуровские времена.
Листочки декретов звали восстанавливать и творить. Чьими руками? Своими же, вот этими — все еще скрюченными, как лапа хищной птицы… Ольга Вячеславовна в часы заката любила бродить по городу, — вглядывалась в недоверчивые, мрачные лица людей с неразглаженными морщинами гнева, ужаса и ненависти, — она хорошо знала эту судорогу рта, эти обломки, дыры на месте зубов, съеденных на войне. Все побывали там — от мальчика до старика… И вот бродят по загаженному городу, в кисло пахнущей одежде из мешков, из буржуйских занавесок, в разбитых лаптях, взъерошенные, готовые ежеминутно заплакать или убить…
Листки декретов настойчиво требуют творчества, творчества, творчества… Да, это потруднее, чем пироксилиновой шашкой взорвать мост, в конном строю изрубить прислугу на батарее, выбить шрапнелью окна в фабричном корпусе… Ольга Вячеславовна останавливалась у покосившегося забора перед пестрым плакатом. Кто-то уже перекрестил его куском штукатурки, нацарапал похабное слово. Она рассматривала лица, каких не бывает, развевающиеся знамена, стоэтажные дома, трубы, дымы, восходящие к пляшущим буквам: «индустриализация»… Она была девственно впечатлительна и мечтала у нарядного плаката, — ее волновало величие этой новой борьбы.
Закат мрачнел; последнее неистовство его красок, пробившись из-под свинцовой тучи, зажигало осколки стекол в зияющих пустынных домах. Изредка брел прохожий, грызя семечки, плюя в грязь разъезженной улицы, где валялись ржавые листы и ощеренная кошачья падаль. Семечки, семечки… Досуг человека заполнялся движением челюстей, мозг дремал в сумерках. В семечках был возврат к бытию до каменного топора. Ольга Вячеславовна сжимала кулачки — она не могла мириться с тишиной, семечками, банными вениками и огромными пустырями захолустья…
Ей удалось получить командировку в Москву; она приехала туда в зеленой юбке из плюшевой портьеры, полная решимости и самоотвержения.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
К житейским лишениям Ольга Вячеславовна относилась спокойно: бывало с ней и похуже. Первые недели в Москве ютилась где попадется, затем получила комнату в коммунальной квартире, в Зарядье. После заполнения анкет и подачи многочисленных заявлений, сразу притихшая от величайшей сложности прохождения всех ее бумаг, от шума многоэтажных, гудящих, как улей, учреждений, она поступила на службу в отдел контроля Треста цветных металлов. У нее было чувство воробья, залетевшего в тысячеколесный механизм башенных курантов. Она поджала хвост. Минута в минуту приходила на службу. Присматривалась и робела, потому что никакими усилиями ума не могла определить степень пользы, которую приносила, переписывая бумажки. Здесь ни к чему были ее ловкость, ее безрассудная смелость, ее гадючья злость. Здесь только постукивали ундервуды, как молоточки в ушах в сыпнотифозном бреду, шелестели бумаги, бормотали в телефонные трубки хозяйственные голоса. То ли было на войне: ясно, отчетливо, под пение пуль — всегда к видимой цели…
Затем, разумеется, она попривыкла, обошлась, «разгладила шерстку». Побежали дни, рабочие, однообразные, спокойные. Чтобы не утонуть с головой в этом забвении канцелярий, она стала брать на себя общественную нагрузку. В клубную работу она внесла дисциплину и терминологию эскадрона. Ее пришлось удерживать от излишней резкости.
Первый щелчок она получила от помзава, сидевшего сбоку от нее, по другую сторону двери, ведущей в кабинет зава. Произошло это по случаю курения махорки. Помзав сказал:
— Удивляюсь вам, товарищ Зотова: такая, в общем, интересная женщина и — провоняли все помещение махоркой… Женственности, что ли, в вас нет… Курили бы «Яву».
Должно быть, это пустячное замечание пришлось как раз вовремя. Ольге Вячеславовне стало неприятно, потом больно до слез. Уходя со службы, она остановилась на лестничной площадке перед зеркалом и, впервые за много лет, по-женски оглядела себя: «Черт знает что такое — огородное чучело». Протертая плюшевая юбка спереди вздернута, сзади сбита в махры каблуками, мужские штиблеты, ситцевая серая кофта… Как же это случилось?..
Две пишбарышни в соблазнительных юбочках и розовых чулочках, пробегая мимо, оглянулись на Зотову, дико стоящую перед зеркалом, и — ниже площадкой — фыркнули со смеху; можно было разобрать только: «…лошади испугаются…» Кровь прилила к прекрасному цыганскому лицу Ольги Вячеславовны… Одна из этих пишбарышень жила в той же квартире на Зарядье — звали ее Сонечка Варенцова.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Спустя несколько дней женщины, населявшие квартиру на Псковском переулке (что на Зарядье), были изумлены странной выходкой Ольги Вячеславовны. Утром, придя на кухню мыться, она уставилась блестящими глазами, как гадюка, на Сонечку Варенцову, варившую кашку. Подошла и, указывая на ее чулки: «Это где купили?» — задрала Сонечкину юбку и, указывая на белье: «А это где купили?» И спрашивала со злобой, словно рубила клинком.
Сонечка, нежная от природы, испугалась ее резких движений. Выручила Роза Абрамовна: мягким голосом подробно объяснила, что эти вещи Ольга Вячеславовна сумеет достать на Кузнецком мосту, что теперь носят платья «шемиз», чулки телесного оттенка и прочее и прочее…
Слушая, Ольга Вячеславовна кивала головой, повторяла: «Есть. Так… Поняла…» Затем схватилась за Сонечкину светленькую кудряшку, хотя это была и не конская грива, а нежнейшая прядь:
— А это — как чесать?
— Безусловно стричь, мое золотко, — пела Роза Абрамовна, — сзади — коротко, спереди — с пробором на уши…
Петр Семенович Морш, зайдя на кухню, прислушался и отмочил, как всегда, самодовольно блестя черепом:
— Поздненько вы делаете переход от военного коммунизма, Ольга Вячеславовна…
Она стремительно обернулась к нему (впоследствии он рассказывал, что у нее даже лязгнули зубы) и проговорила не громко, но внятно:
— Сволочь недорезанная! Попался бы ты мне в поле…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
В управлении Треста цветных металлов все растерялись в первую минуту, когда Зотова явилась на службу в черном, с короткими рукавами, шелковом платье, в телесных чулках и лакированных туфельках; каштановые волосы ее были подстрижены и блестели, как черно-бурый мех. Она села к столу, низко опустила голову в бумаги, уши у нее горели.
Помзав, молодой и наивный парень, ужасно вылупился, сидя под бешено трещавшим телефоном.
— Елки-палки, — сказал он, — это откуда же взялось?
Действительно, Зотова до жути была хороша: тонкое, изящное лицо со смуглым пушком на щеках, глаза — как ночь, длинные ресницы… Руки отмыла от чернил, — одним словом, крути аппарат. Даже зав высунулся, между прочим, из кабинета, уколол Зотову свинцовым глазом.
— Ударная девочка! — впоследствии выразился он про нее.
Прибегали глядеть на нее из других комнат. Только и было разговоров, что про удивительное превращение Зотовой.
Когда прошло первое смущение, она почувствовала на себе эту новую кожу легко и свободно, как некогда — гимназическое платье или кавалерийский шлем, туго стянутый полушубок и шпоры. Если уж слишком пялились мужчины, она, проходя, опускала ресницы, словно прикрывала душу.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
На третий день, в пять часов, когда Зотова оторвала кусок промокашки и, помуслив ее, отчищала на локте чернильное пятно, к ней подошел помзав Иван Федорович Педотти, молодой человек, и сказал, что им «нужно поговорить крайне серьезно». Ольга Вячеславовна чуть подняла красивые полоски бровей, надела шляпу. Они вышли.
Педотти сказал:
— Проще всего зайти ко мне, это сейчас за углом.
Зотова чуть пожала плечиком. Пошли. Жарким ветром несло пыль. Влезли на четвертый этаж, Ольга Вячеславовна первая вошла в его комнату, села на стул.
— Ну? — спросила она. — О чем вы хотели со мной говорить?
Он швырнул портфель на кровать, взъерошил волосы и начал гвоздить кулаком непроветренный воздух в комнате.
— Товарищ Зотова, мы всегда подходим к делу в лоб, прямо… В ударном порядке… Половое влечение есть реальный факт и естественная потребность… Романтику всякую там давно пора выбросить за борт… Ну вот… Предварительно я все объяснил… Вам все понятно…
Он обхватил Ольгу Вячеславовну под мышки и потащил со стула к себе на грудь, в которой неистово, будто на краю неизъяснимой бездны, колотилось его неученое сердце. Но немедленно он испытал сопротивление: Зотову не так-то легко оказалось стащить со стула, — она была тонка и упруга. Не смутившись, почти спокойно, Ольга Вячеславовна сжала обе его руки у запястий и так свернула их, что он громко охнул, рванулся и, так как она продолжала мучительство, закричал:
— Больно же, пустите, ну вас к дьяволу!..
— Вперед не лезь, не спросившись, дурак, — сказала она. Отпустила Педотти, взяла со стола из коробки папиросу «Ява», закурила и ушла…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ольга Вячеславовна всю ночь ворочалась на постели… Садилась у окна, курила, снова пыталась зарыться головой под подушки… Припомнилась вся жизнь; все, что казалось навек задремавшим, ожило, затосковало… Вот была чертова ночка… Зачем, зачем? Неужели нельзя прожить прохладной, как ключевая водица, без любовной лихорадки? И чувствовала, содрогаясь: уж, кажется, жизнь била ее и толкла в ступе, а дури не выбила, и «это», конечно, теперь начнется… Не обойтись, не уйти…
Утром, идя мыться, Ольга Вячеславовна услышала смех на кухне и голос Сонечки Варенцовой:
— …Поразительно, до чего она ломается… Противно даже смотреть… Тронуть, видите ли, ее нельзя, такая разборчивая… При заполнении анкеты прописала вот такими буквами: «девица»… (Смех, шипение примусов.) А все говорят: просто ее возили при эскадроне… Понимаете? Жила чуть не со всем эскадроном…
Голос Марьи Афанасьевны, портнихи:
— Безусловный люис… По морде видно.
Голос Розы Абрамовны:
— А выглядывает — что тебе баронесса Ротшильд.
Басок Петра Семеновича Морша:
— Будьте с ней поосторожнее, гадюку эту я давно раскусил… Она карьеру сделает — глазом не моргнете…
Возмущенный голос Сонечки Варенцовой:
— Вы уж, знаете, и брякнете всегда, Петр Семенович… Успокойтесь, — не с такими данными делают карьеру…
Ольга Вячеславовна вошла на кухню, все замолкли. Взор ее остановился на Сонечке Варенцовой, и проступившие морщинки у рта изобразили такую высшую меру брезгливости, что женщины заклокотали. Но крика никакого не вышло на этот раз.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
После случая с Педотти, возненавидевшим ее со всей силой высеченного мужского самолюбия, вокруг Зотовой образовалась молчаливая враждебность женщин, насмешливое отношение мужчин. Ссориться с ней опасались. Но она затылком чувствовала провожающие недобрые взгляды. За ней укреплялись клички: «гадюка», «клейменая» и «эскадронная шкура», — она расслышивала их в шепотке, читала на промокашке. И всего страннее, что весь этот вздор она воспринимала болезненно… Будто бы можно было закричать им всем: «Я же не такая…»
Недаром когда-то Дмитрий Васильевич назвал ее цыганочкой… С темной тоской она начинала замечать, что в ней снова, но уже со зрелой силой, просыпаются желания… Ее девственность негодовала… Но — что было делать? Мыться с ног до головы под краном ледяной водой? Слишком больно обожглась, страшно бросаться в огонь еще раз… Это было не нужно, это было ужасно…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ольга Вячеславовна всего минуту глядела на этого человека, и все существо ее сказало: он… Это было необъяснимо и катастрофично, как столкновение с автобусом, выгромыхнувшим из-за угла.
Человек в парусиновой толстовке, рослый и, видимо, начинающий полнеть, стоял на лестничной площадке и читал стенгазету. Мимо, из двери в дверь, вниз и вверх по лестнице, бегали служащие. Пахло пылью и табаком. Все было обычно. Человек с ленивой улыбкой рассматривал в центре стенгазеты карикатуру на хозяйственного директора Махорочного треста (помещавшегося этажом выше). Так как Ольга Вячеславовна тоже задержалась у газеты, он обернулся к ней и, указывая на карикатуру (кисть руки его была тяжелая, большая, красивая):
— Вы, кажется, в редакции, товарищ Зотова? (Голос его был сильный и низкий.) Изображайте меня в хвост и в гриву, я не против… Но это же никому не нужно, это — мелочь, это не талантливо!
На карикатуре его изобразили со стаканом чая между двумя трещащими телефонами. Острота заключалась в том, что он в служебные часы любит попивать чай в ущерб деятельности…
— Больно укусить побоялись, а тявкнули — по-лакейски… Ну что же, что чай… В девятнадцатом году я спирт пил с кокаином, чтобы не спать…
Ольга Вячеславовна взглянула ему в глаза: серые, холодноватые, цвета усталой стали, они чем-то напоминали те — любимые, навек погасшие… Чисто выбритое лицо — правильное, крупное, с ленивой и умной усмешкой… Она вспомнила: в девятнадцатом году он был в Сибири продовольственным диктатором, снабжал армию, на десятки тысяч верст его имя наводило ужас… Такие люди ей представлялись — несущие голову в облаках… Он тасовал события и жизни, как колоду карт… И вот — с портфелем, с усталой улыбкой — и мимо бежит порожденная им жизнь, толкая его локтями…
— Так все мельчить неумело, — опять сказал он, — можно всю революцию свести к дешевеньким карикатуркам… Значит, старики сделали дело и — на свалку… Жалованье получили, теперь пойдем пиво пить… Молодежь-то хороша, да вот от прошлого отрываться опасно. Сегодняшним днем только эфемериды живут, однодневки… Так-то…
Он ушел. Ольга Вячеславовна глядела ему на сильный затылок, на широкую спину, медленно поднимающуюся по каменным ступеням в помещение Махорочного треста, и ей казалось, что он делает большое усилие, чтобы не согнуться под тяжестью дней… Ей пронзительно стало его жалко… А, как известно, жалость…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
При первом случае, с бумажкой от месткома, Ольга Вячеславовна поднялась в мрачные комнаты Махорочного треста и вошла в кабинет хозяйственного директора. Он мешал ложечкой в стакане с чаем, на портфеле его лежала сдобная плюшка. У окошка шибко стучала пишбарышня. Ольга Вячеславовна так волновалась, что не обратила на нее внимания, видела только его стальные глаза. Он прочел поданную ею бумажку, подписал. Она продолжала стоять. Он сказал:
— Все, товарищ… Идите.
Это было действительно все… Когда Ольга Вячеславовна затворяла за собой дверь, показалось, что пишбарышня хихикнула. Теперь оставалось только сходить с ума… Ведь гирькой второй раз уже не стукнут, не расстреляют в подвале, он не вынесет ее на руках, не сядет у койки, не пообещает сапожки с убитого гимназиста…
Эту ночь провела так, что лучше не вспоминать. Наутро жильцы разглядывали ее комнату в замочную скважину, и тогда-то именно Петр Семенович Морш предложил дунуть из трубочки граммов десять йодоформу: «Бесится наша гадюка-то», — сказали на кухне. Сонечка Варенцова загадочно усмехнулась, в голубеньких глазках ее дремало спокойствие непоколебимой уверенности.
Преодолеть застенчивость труднее, чем страх смерти; но недаром Ольга Вячеславовна прошла боевую школу: надо — стало быть, надо. Ожидать случая, счастья, действовать по мелочам — где мелькнуть телесными чулочками, где поспешно выдернуть голое плечико из платья, — было не по ней. Решила: прямо пойти и все сказать ему: пусть что хочет, то и делает с ней… А так — жизни нет…
Несколько раз она сбегала вслед за ним по лестнице, чтобы здесь же, на улице, схватить его за рукав: «Я люблю вас, я погибаю…» Но каждый раз он садился в автомобиль, не замечая Зотовой среди других служащих… В эти как раз дни она запустила в Журавлева горящим примусом. Коммунальная квартира насыщалась грозовым электричеством. Сонечка Варенцова нервничала и уходила из кухни, заслышав шаги Зотовой… Шутник Владимир Львович Понизовский проник при помощи подобранного ключа в комнату Зотовой и положил ей под матрац платяную щетку, но она так и проспала ночь, ничего не заметив.
Наконец он пошел пешком со службы (автомобиль был в ремонте). Ольга Вячеславовна догнала его, резко и грубовато окликнула, — во рту, в горле пересохло. Пошла рядом, не могла поднять глаз, ступала неуклюже, топорщила локти. Секунда разлилась в вечность, ей было и жарко, и зябко, и нежно, и злобно. А он шел равнодушный, без улыбки, — строгий…
— Дело в том…
— Дело в том, — сейчас же перебил он с брезгливостью, — мне про вас говорят со всех сторон… Удивляюсь, да, да… Вы преследуете меня… Намеренье ваше понятно, — пожалуйста, не лгите, объяснений мне не нужно… Вы только забыли, что я не нэпман, слюней при виде каждого смазливого личика не распускаю. Вы показали себя на общественной работе с хорошей стороны. Мой совет — выкиньте из головы мечты о шелковых чулочках, пудрах и прочее… Из вас может выйти хороший товарищ…
Не простившись, он перешел улицу, где на тротуаре около кондитерской его взяла под руку Сонечка Варенцова. Пожимая плечами, возмущаясь, она начала что-то ему говорить. Он продолжал брезгливо морщиться, высвободил свою руку и шел, опустив тяжелую голову. Облако бензиновой гари от автобуса скрыло их от Ольги Вячеславовны.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Итак, героиней оказалась Сонечка Варенцова. Это она подробно информировала хозяйственного директора Махорочного треста о прошлой и настоящей жизни эскадронной шкуры Зотовой. Сонечка торжествовала, но трусила ужасно…
В воскресное утро, уже описанное нами выше, когда скрипнула дверь Ольги Вячеславовны, Сонечка бросилась к себе и громко заплакала, потому что ей стало невыносимо обидно жить в постоянном страхе. Вымывшись, Ольга Вячеславовна произнесла неизвестно к чему: «Ах, это — черт знает что» дважды — на кухне и возвращаясь к себе в комнату, — после чего она ушла со двора.
На кухне опять собрались жильцы: Петр Семенович в воскресных брюках и в новом картузике с белым верхом. Владимир Львович — небритый и веселый с перепою. Роза Абрамовна варила варенье из мирабели. Марья Афанасьевна гладила блузку. Болтали и острили. Появилась Сонечка Варенцова с запухшими глазками.
— Я больше не могу, — сказала она еще в дверях, — это должно кончиться наконец… Она меня обольет купоросом…
Владимир Львович Понизовский предложил сейчас же настричь щетины от платяной щетки и каждый день сыпать в кровать гадюке, — не выдержит, сама съедет. Петр Семенович Морш предложил химическую оборону — сероводородом или опять тот же йодоформ. Все это были мужские фантазии. Одна Марья Афанасьевна сказала дело:
— Хотя вы и на редкость скрытная, Лялечка, но признайтесь: с директором у вас оформлена связь?
— Да, — ответила Лялечка, — третьего дня мы были в загсе… Я даже настаивала на церковном, но это пока еще невозможно…
— Поживем — увидим, — блеснув лысиной, проскрипел Петр Семенович.
— Так этой гадине ползучей, — Марья Афанасьевна потрясла утюгом, — этой маркитантке вы в морду швырните загсово удостоверение.
— Ой, нет… Ни за что на свете… Я так боюсь, такие тяжелые предчувствия…
— Мы будем стоять за дверью… Можете ничего не бояться…
Владимир Львович, радостный с перепою, заблеял баранчиком:
— Станем за дверью, вооруженные орудиями кухонного производства.
Лялечку уговорили.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ольга Вячеславовна вернулась в восемь часов вечера, сутулая от усталости, с землистым лицом. Заперлась у себя, села на кровать, уронив руки в колени… Одна, одна в дикой, враждебной жизни, одинока, как в минуту смерти, не нужна никому… Со вчерашнего дня ею все сильнее овладевала странная рассеянность. Так, сейчас она увидела в руках у себя велодок — и не вспомнила, когда сняла его со стены. Сидела, думала, глядя на стальную смертельную игрушку…
В дверь постучали. Ольга Вячеславовна сильно вздрогнула. Постучали сильнее. Она встала, распахнула дверь. За ней в темноту коридора, толкаясь, шарахнулись жильцы, — кажется, в руках у них были щетки, кочерги… В комнату вошла Варенцова, бледная, с поджатыми губами… Сразу же заговорила срывающимся на визг голосом:
— Это совершенное бесстыдство — лезть к человеку, который женат… Вот удостоверение из загса… Все знают, что вы — с венерическими болезнями… И вы с ними намерены делать карьеру!.. Да еще через моего законного мужа!.. Вы — сволочь!.. Вот удостоверение…
Ольга Вячеславовна глядела как слепая на визжавшую Сонечку… И вот волна знакомой дикой ненависти подкатила, стиснула горло, все мускулы напряглись, как сталь… Из горла вырвался вопль… Ольга Вячеславовна выстрелила и — продолжала стрелять в это белое, заметавшееся перед ней лицо…
1928
Алексей Толстой. «Гадюка».
Художник П. Караченцев.
ЮРИЙ ТЫНЯНОВ
ПОДПОРУЧИК КИЖЕ[26]
1
Император Павел дремал у открытого окна. В послеобеденный час, когда пища медленно борется с телом, были запрещены какие-либо беспокойства. Он дремал, сидя на высоком кресле, заставленный сзади и с боков стеклянною ширмою. Павлу Петровичу снился обычный послеобеденный сон.
Он сидел в Гатчине, в своем стриженом садике, и округлый купидон в углу смотрел на него, как он обедает с семьей. Потом издали пошел скрип. Он шел по ухабам, однообразно и подпрыгивая. Павел Петрович увидел вдали треуголку, конский скок, оглобли одноколки, пыль. Он спрятался под стол, так как треуголка была — фельдъегерь. За ним скакали из Петербурга.
— Nous sommes perdus…[27] — закричал он хрипло жене из-под стола, чтобы она тоже спряталась.
Под столом не хватало воздуха, и скрип уже был там, одноколка оглоблями лезла на него.
Фельдъегерь заглянул под стол, нашел там Павла Петровича и сказал ему:
— Ваше величество. Ее величество матушка ваша скончалась.
Но как только Павел Петрович стал вылезать из-под стола, фельдъегерь щелкнул его по лбу и крикнул:
— Караул!
Павел Петрович отмахнулся и поймал муху.
Так он сидел, выкатив серые глаза в окно Павловского дворца, задыхаясь от пищи и тоски, с жужжащей мухой в руке, и прислушивался.
Кто-то кричал под окном «караул».
2
В канцелярии Преображенского полка военный писарь был сослан в Сибирь, по наказании.
Новый писарь, молодой еще, мальчик, сидел за столом и писал. Его рука дрожала, потому что он запоздал.
Нужно было кончить перепиской приказ по полку ровно к шести часам, для того чтобы дежурный адъютант отвез его во дворец и там адъютант его величества, присоединив приказ к другим таким же, представил императору в девять. Опоздание было преступлением. Полковой писарь встал раньше времени, но испортил приказ и теперь делал другой список. В первом списке сделал он две ошибки: поручика Синюхаева написал умершим, так как Синюхаев шел сразу же после умершего майора Соколова, и допустил нелепое написание — вместо «Подпоручики же Стивен, Рыбин и Азанчеев назначаются» написал: «Подпоручик Киже, Стивен, Рыбин и Азанчеев назначаются». Когда он писал слово: «Подпоручики», вошел офицер, и он вытянулся перед ним, остановись на к, а потом, сев снова за приказ, напутал и написал: «Подпоручик Киже».
Он знал, что, если к шести часам приказ не поспеет, адъютант крикнет: «Взять», и его возьмут. Поэтому его рука не шла, он писал все медленнее и медленнее и вдруг брызнул большую, красивую, как фонтан, кляксу на приказ.
Оставалось всего десять минут.
Откинувшись назад, писарь посмотрел на часы, как на живого человека, потом пальцами, как бы отделенными от тела и ходившими по своей воле, он стал рыться в бумагах за чистым листом, хотя здесь чистых листов вовсе не было, а они лежали в шкафу, в большом аккурате сложенные в стопку.
Но так, уже в отчаянии и только для последнего приличия перед самим собою роясь, он вторично остолбенел.
Другая, не менее важная бумага была написана тоже неправильно.
Согласно императорского предложения за № 940 о неупотреблении слов в донесениях, следовало не употреблять слова «обозреть», но осмотреть, не употреблять слова «выполнить», но исполнить, не писать «стража», но караул, и ни в коем случае не писать «отряд», но деташемент.
Для гражданских установлений было еще прибавлено, чтобы не писать «степень», но класс, и не «общество», но собрание, а вместо «гражданин» употреблять: купец или мещанин.
Но это уже было написано мелким почерком, внизу распоряжения № 940, висящего тут же на стене, перед глазами писаря, и этого он не читал, но о словах «обозреть» и прочая он выучил в первый же день и хорошо помнил.
В бумаге же, приготовленной для подписания командиру полка и направляемой барону Аракчееву, было написано:
Обозрев, по поручению вашего превосходительства, отряды стражи, собственно для несения пригородной при Санктпетербурге и выездной служб назначенные, донесть честь имею, что все сие выполнено…
И это еще не все.
Первая строка им же самим давеча переписанного донесения изображена была:
Ваше Превосходительство Милостивый Государь.
Для малого ребенка уже было небезызвестно, что обращение, в одну строку написанное, означало приказание, а в донесениях лица подчиненного, и в особенности такому лицу, как барон Аракчеев, можно было писать только в двух строках:
Ваше Превосходительство
Милостивый Государь,
что означало подчинение и вежливость.
И если за обозрев и прочая могло быть ему поставлено в вину, что он не заметил и вовремя не обратил внимания, то с Милостивым Государем напутал при переписке именно он сам.
И, уж более не сознавая, что делает, писарь сел исправить эту бумагу. Переписывая ее, он мгновенно позабыл о приказе, хотя тот был много спешнее.
Когда же от адъютанта прибыл за приказом вестовой, писарь посмотрел на часы и на вестового и вдруг протянул ему лист с умершим поручиком Синюхаевым.
Потом сел и, все еще дрожа, писал: превосходительства, деташементы караула.
3
Ровно в девять часов прозвонил во дворце колокольчик, император дернул за шнурок. Адъютант его величества ровно в девять часов вошел с обычным докладом к Павлу Петровичу. Павел Петрович сидел во вчерашнем положении, у окна, заставленный стеклянною ширмою.
Между тем он не спал, не дремал, и выражение его лица было также другое.
Адъютант знал, как и все во дворце, что император гневен. Но он равным образом знал, что гнев ищет причин и чем более их находит, тем более воспламеняется. Итак, доклад ни в каком случае не мог быть пропущен.
Он вытянулся перед стеклянной ширмой и императорской спиной и отрапортовал.
Павел Петрович не повернулся к адъютанту. Он тяжело и редко дышал.
Весь вчерашний день не могли доискаться, кто кричал под его окном «караул», и ночью он два раза просыпался в тоске.
«Караул» был крик нелепый, и вначале у Павла Петровича был гнев небольшой, как у всякого, кто видит дурной сон и которому помешали досмотреть его до конца. Потому что благополучный конец сна все же означает благополучие. Потом было любопытство: кто и зачем кричал «караул» у самого окна? Но когда во всем дворце, метавшемся в большом страхе, не могли сыскать того человека, гнев стал большой. Дело оборачивалось так: в самом дворце, в послеобеденное время, человек мог причинить беспокойство и остаться неразысканным. Притом же никто не мог знать, с какою целью было крикнуто: «Караул». Может быть, это было предостережение раскаявшегося злоумыслителя. Или, может быть, там, в кустах, уже трижды обысканных, сунули человеку глухой кляп в глотку и удушили его. Он точно провалился сквозь землю. Надлежало… Но что надлежало, если тот человек не разыскан.
Надлежало увеличить караулы. И не только здесь.
Павел Петрович, не оборачиваясь, смотрел на четырехугольные зеленые кусты, такие же почти, как в Трианоне.[28] Они были стриженые. И, однако же, неизвестно, кто в них был.
И, не глядя на адъютанта, он закинул назад правую руку. Адъютант знал, что это означает: во времена большого гнева император не оборачивался. Он ловко всунул в руку приказ по гвардии Преображенскому полку, и Павел Петрович стал внимательно читать. Потом рука опять откинулась назад, а адъютант, изловчившись, без шума поднял перо с рабочего столика, обмакнул в чернильницу, стряхнул и легко положил на руку, замарав себя чернилами. Все у него заняло мгновение. Вскоре подписанный лист полетел в адъютанта. Так адъютант стал подавать листы, и подписанные или просто читанные листы летели один за другим в адъютанта. Он стал уже привыкать к этому делу и надеялся, что так сойдет, когда император соскочил с возвышенного кресла.
Маленькими шагами он подбежал к адъютанту. Лицо его было красно, и глаза темны.
Он приблизился вплотную и понюхал адъютанта. Так делал император, когда бывал подозрителен. Потом он двумя пальцами крепко ухватил адъютанта за рукав и ущипнул.
Адъютант стоял прямо и держал в руке листы.
— Службы не знаешь, сударь, — сипло сказал Павел, — сзади заходишь.
Он щипнул его еще разок.
— Потемкинский дух вышибу, ступай.
И адъютант задом удалился в дверь.
Как только дверь неслышно затворилась, Павел Петрович быстро размотал шейный платок и стал тихонько раздирать на груди рубашку, рот его перекосился и губы задрожали.
Начинался великий гнев.
4
Приказ по гвардии Преображенскому полку, подписанный императором, был им сердито исправлен. Слова: Подпоручик Киже, Стивен, Рыбин и Азанчеев назначаются император исправил: после первого к вставил преогромный ер, несколько следующих букв похерил и сверху надписал: Подпоручик Киже в караул. Остальное не встретило возражений.
Приказ был передан.
Когда командир его получил, он долго вспоминал, кто таков подпоручик со странной фамилией Киже. Он тотчас взял список всех офицеров Преображенского полка, но офицер с такой фамилией не значился. Не было его даже и в рядовых списках. Непонятно, что это было такое. Во всем мире понимал это верно один писарь, но его никто не спросил, а он никому не сказал. Однако же приказ императора должен был быть исполнен. И все же он не мог быть исполнен, потому что нигде в полку не было подпоручика Киже.
Командир подумал, не обратиться ли к барону Аракчееву. Но тотчас махнул рукой. Барон Аракчеев проживал в Гатчине, да и исход был сомнителен.
А как всегда в беде было принято бросаться к родне, то командир быстро счелся родней с адъютантом его величества Саблуковым и поскакал в Павловское.
В Павловском было большое смятение, и адъютант сначала вовсе не хотел принять командира.
Потом он брезгливо выслушал его и уже хотел сказать ему черта, и без того дела довольно, как вдруг насупился, метнул взгляд на командира, и взгляд этот внезапно изменился: он стал азартным.
Адъютант медленно сказал:
— Императору не доносить. Считать подпоручика Киже в живых. Назначить в караул.
Не глядя на обмякшего командира, он бросил его на произвол судеб, подтянулся и зашагал прочь.
5
Поручик Синюхаев был захудалый поручик. Отец его был лекарь, при бароне Аракчееве, и барон, в награждение за пилюли, восстановившие его силы, тишком сунул лекарского сына в полк. Прямолинейный и неумный вид сына понравился барону. В полку он ни с кем не был на короткой ноге, но и не бегал от товарищей. Он был неразговорчив, любил табак, не махался с женщинами[29] и, что было не вовсе бравым офицерским делом, с удовольствием играл на «гобое любви».
Амуниция его была всегда начищена.
Когда читался приказ по полку, Синюхаев стоял и, как обычно, вытянувшись в струнку, ни о чем не думал.
Внезапно он услышал свое имя и дрогнул ушами, как то случается с задумавшимися лошадьми от неожиданного кнута.
«Поручика Синюхаева, как умершего горячкою, считать по службе выбывшим».
Тут случилось, что командир, читавший приказ, невольно посмотрел на то место, где всегда стоял Синюхаев, и рука его с бумажным листом опустилась.
Синюхаев стоял, как всегда, на своем месте. Однако вскоре командир снова стал читать приказ, — правда, уже не столь отчетливо, — прочел о Стивене, Азанчееве, Киже и дочитал до конца. Начался развод, и Синюхаеву должно было вместе со всеми двигаться в фигурных упражнениях. Но вместо того он остался стоять.
Он привык внимать словам приказов как особым словам, не похожим на человеческую речь. Они имели не смысл, не значение, а собственную жизнь и власть.
Дело было не в том, исполнен приказ или не исполнен. Приказ как-то изменял полки, улицы и людей, если даже его и не исполняли.
Когда он услышал слова приказа, он сначала остался стоять на месте, как недослышавший человек. Он тянулся за словами. Потом перестал сомневаться. Это о нем читали. И, когда двинулась его колонна, он начал сомневаться, жив ли он.
Ощущая руку, лежащую на эфесе, некоторое стеснение от туго стянутых портупейных ремней, тяжесть сегодня утром насаленной косы, он как будто и был жив, но вместе с тем он знал, что здесь что-то неладно, что-то непоправимо испорчено. Он ни разу не подумал, что в приказе ошибка. Напротив, ему показалось, что он по ошибке, по оплошности жив. По небрежности он чего-то не заметил и не сообщил никому.
Во всяком случае, он портил все фигуры развода, стоя столбиком на площади. Он даже не подумал шелохнуться.
Как только кончился развод, командир налетел на поручика. Он был красен. Было настоящим счастьем, что на разводе не было по случаю жаркого времени императора, отдыхавшего в Павловском. Командир хотел рявкнуть: на гауптвахту, — но для исхода гнева нужен был более раскатистый звук, и он уже хотел пустить на рр: под аррест, — как вдруг рот его замкнулся, словно командир случайно поймал им муху. И так он стоял перед поручиком Синюхаевым минуты две.
Потом, отшатнувшись, как от зачумленного, он пошел своим путем.
Он вспомнил, что поручик Синюхаев, как умерший, отчислен от службы, и сдержался, потому что не знал, как говорить с таким человеком.
6
Павел Петрович ходил по своей комнате и изредка останавливался.
Он прислушивался.
С тех пор как император в пыльных сапогах и дорожном плаще прогремел шпорами по зале, в которой еще хрипела его мать, и хлопнул дверью, было наблюдено: большой гнев становился великим гневом, великий гнев кончался через дня два страхом или умилением.
Химеры по лестницам делал в Павловском дикий Бренна,[30] а плафоны и стены дворца делал Камерон,[31] любитель нежных красок, которые мрут на глазах у всех. С одной стороны — разинутые пасти вздыбленных и человекообразных львов, с другой — изящное чувство.
Кроме того, в дворцовом зале висели два фонаря, подарок незадолго перед тем обезглавленного Людовика XVI. Этот подарок получил он во Франции, когда еще странствовал под именем графа Северного.
Фонари были высокой работы: стенки были таковы, что смягчали свет.
Но Павел Петрович избегал зажигать их.
Также часы, подарок Марии-Антуанетты, стояли на яшмовом столе. Часовая стрелка была золотым Сатурном[32] с длинною косой, а минутная — амуром со стрелою.
Когда часы били полдень и полночь, Сатурн заслонял косой стрелу амура. Это значило, что время побеждает любовь.
Как бы то ни было, часы не заводились.
Итак, в саду был Бренна, по стенам Камерон, а над головой в подпотолочной пустоте качался фонарь Людовика XVI.
Во время великого гнева Павел Петрович приобретал даже некоторое наружное сходство с одним из львов Бренны.
Тогда, как с неба при ясной погоде, рушились палки на целые полки, темною ночью при свете факелов рубили кому-то голову на Дону, маршировали пешком в Сибирь случайные солдаты, писаря, поручики, генералы и генерал-губернаторы.
Похитительница престола, его мать, была мертва. Потемкинский дух он вышиб, как некогда Иван Четвертый вышиб боярский. Он разметал потемкинские кости и сровнял его могилу. Он уничтожил самый вкус матери. Вкус похитительницы! Золото, комнаты, выложенные индийским шелком, комнаты, выложенные китайской посудой, с голландскими печами, — и комната из синего стекла — табакерка. Балаган! Римские и греческие медали, которыми она хвасталась! Он велел употребить их на позолоту своего замка.
И все же дух остался, привкус остался.
Им пахло кругом, и поэтому, может быть, Павел Петрович имел привычку принюхиваться к собеседникам.
А над головой качался французский висельник, фонарь.
И наступал страх. Императору не хватало воздуха. Он не боялся ни жены, ни старших сыновей, из которых каждый, вспомнив пример веселой бабушки и свекрови, мог его заколоть вилкою и сесть на престол.
Он не боялся подозрительно веселых министров и подозрительно мрачных генералов. Он не боялся никого из той пятидесятимиллионной черни, которая сидела по кочкам, болотам, пескам и полям его империи и которую он никак не мог себе представить. Он не боялся их, взятых в отдельности. Вместе же это было море, и он тонул в нем.
И он приказал окопать свой петербургский замок рвами и форпостами и вздернуть на цепи подъемный мост. Но и цепи были неверны — их охраняли часовые.
И когда великий гнев становился великим страхом, начинала работать канцелярия криминальных дел, и кого-то подвешивали за руки, и под кем-то проваливался пол, а внизу его ждали заплечные мастера.
Поэтому, когда из императорской комнаты слышались то маленькие, то растянутые, внезапно спотыкливые шаги, все переглядывались с тоской и редко кто улыбался.
В комнате великий страх.
Император бродит.
7
Поручик Синюхаев стоял на том самом месте, где налетел на него распекателем и не распек и так внезапно остановился командир.
Вокруг него никого не было.
Обычно после развода он расправлялся, сбавлял выправку, руки размякали, и он шел в казармы вольно. Каждый член становился вольным: он становился партикулярным.
Дома, в офицерской казарме, поручик расстегивал сюртук и играл на гобое любви. Потом набивал трубку и смотрел в окно. Он видел большой кус вырубленного сада, где теперь была пустыня, называемая Царицыным лугом. На поле не было никакого разнообразия, никакой зелени, но на песке сохранились следы коней и солдат. Куренье нравилось ему всеми статьями: набивкой, придавкой, затяжкой и дымом. С куреньем человек никогда не пропадет. Этого было достаточно, так как вскоре наступал вечер и он уходил к приятелям или просто погулять.
Он любил вежливость простонародья. Однажды мещанин сказал ему, когда он чихнул: «Спица в нос невелика — с перст».
Перед сном он садился играть со своим денщиком в карты. Он выучил играть денщика в контру и в памфил, и когда денщик проигрывал, поручик хлопал его колодой по носу, а когда он сам проигрывал, то не хлопал денщика. Наконец он осматривал начищенную денщиком амуницию, сам завивал, заплетал и салил косу и ложился спать.
Но теперь он не расправился, мышцы его были надуты, и дыханья было не слышно у поручиковых сомкнутых губ. Он стал рассматривать разводную площадь, и она оказалась незнакомой ему. По крайней мере, он никогда не замечал раньше карнизов на окнах красного казенного здания и мутных стекол.
Круглые булыжники мостовой были не похожи один на другой, как разные братья.
В большом порядке, в сером аккурате, лежал солдатский С.-Петербург, с пустынями, реками и мутными глазами мостовой, вовсе ему незнакомый город.
Тогда он понял, что умер.
8
Павел Петрович заслышал шаги адъютанта, кошкой прокрался к креслам, стоявшим за стеклянною ширмою, и сел так твердо, как будто сидел все время.
Он знал шаги приближенных. Сидя задом к ним, он различал шарканье уверенных, подпрыгиванье льстивых и легкие, воздушные шаги устрашенных. Прямых шагов он не слыхал.
На этот раз адъютант шел уверенно, он подшаркивал. Павел Петрович полуобернул голову.
Адъютант зашел до середины ширм и склонил голову.
— Ваше величество. Караул кричал подпоручик Киже.
— Кто таков?
Страх становился легче, он получал фамилию.
Этого вопроса адъютант не ждал и слегка отступил.
— Подпоручик, который назначен в караульную службу, ваше величество.
— Для чего кричал? — Император притопнул ногой. — Слушаю, сударь.
Адъютант помолчал.
— По неразумию, — лепетнул он.
— Произвесть дознание и, бив плетьми, пешком в Сибирь.
9
Так началась жизнь подпоручика Киже.
Когда писарь переписывал приказ, подпоручик Киже был ошибкой, опиской, не более. Ее могли не заметить, и она потонула бы в море бумаг, а так как приказ был ничем не любопытен, то вряд ли позднейшие историки даже стали бы ее воспроизводить.
Придирчивый глаз Павла Петровича ее извлек и твердым знаком дал ей сомнительную жизнь — описка стала подпоручиком, без лица, но с фамилией.
Потом в прерывистых мыслях адъютанта у него наметилось и лицо, правда — едва брезжущее, как во сне. Это он крикнул «караул» под дворцовым окном.
Теперь это лицо отвердело и вытянулось: подпоручик Киже оказался злоумышленником, который был осужден на дыбу или, в лучшем случае, кобылу — и Сибирь.
Это была действительность.
До сих пор он был беспокойством писаря, растерянностью командира и находчивостью адъютанта.
Отныне кобыла, плети и путешествие в Сибирь были его собственным, личным делом.
Приказ должен был быть выполнен. Подпоручик Киже должен был выйти из военной инстанции, перейти в юстицкую инстанцию, а оттуда пойти по зеленой дороге прямо в Сибирь.
И так сделалось.
В том полку, где он числился, командир таким громовым голосом, который бывает только у совсем потерянного человека, выкликнул перед строем имя подпоручика Киже.
В стороне уже стояла наготове кобыла, и двое гвардейцев захлестнули ее ремнями в головах и по ногам. Двое гвардейцев, с обеих сторон, хлестали семихвостками по гладкому дереву, третий считал, а полк смотрел.
Так как дерево было отполировано уже ранее тысячами животов, то кобыла казалась не вовсе пустою. Хотя на ней никого не было, а все же как будто кто-то и был. Солдаты, нахмуря брови, смотрели на молчаливую кобылу, а командир к концу экзекуции покраснел, и его ноздри раздулись, как всегда.
Потом ремни расхлестнули, и чьи-то плечи как будто освободились на кобыле. Двое гвардейцев подошли к ней и подождали команды.
Они пошли по улице, удаляясь от полка ровным шагом, ружья на плечо, и изредка посматривали косвенным взглядом, не друг на друга, но на место, заключенное между ними.
В строю стоял молодой солдат, его недавно забрили. Он смотрел на экзекуцию с интересом. Он думал, что все происходящее — дело обыкновенное и часто совершается на военной службе.
Но вечером он вдруг заворочался на нарах и тихонько спросил у старого гвардейца, лежащего рядом:
— Дяденька, а кто у нас императором?
— Павел Петрович, дура, — ответил испуганно старик.
— А ты его видал?
— Видел, — буркнул старик, — и ты увидишь.
Они замолчали. Но старый солдат не мог заснуть. Он ворочался. Прошло минут десять.
— А ты почто спрашиваешь? — вдруг спросил старик молодого.
— А я не знаю, — охотно ответил молодой, — говорят, говорят: император, а кто такой — неизвестно. Может, только говорят…
— Дура, — сказал старик и покосился по сторонам, — молчи, дура деревенская.
Прошло еще десять минут. В казарме было темно и тихо.
— Он есть, — сказал вдруг старик на ухо молодому, — только он подмененный.
10
Поручик Синюхаев внимательно посмотрел на комнату, в которой жил до сего дня.
Комната была просторная, с низкими потолками, с портретом человека средних лет, в очках и при небольшой косичке. Это был отец поручика, лекарь Синюхаев.
Он жил в Гатчине, но поручик, глядя на портрет, не почувствовал особой уверенности в этом. Может быть, живет, а может, и нет.
Потом он посмотрел на вещи, принадлежавшие поручику Синюхаеву: гобой любви[33] в деревянном ларчике, щипцы для завивки, баночку с пудрой, песочницу, и эти вещи посмотрели на него. Он отвел от них взгляд.
Так он стоял посреди комнаты и ждал чего-то. Вряд ли он ждал денщика.
Между тем именно денщик осторожно вошел в комнату и остановился перед поручиком. Он слегка раскрыл рот и, смотря на поручика, стоял.
Вероятно, он и всегда так стоял, ожидая приказаний, но поручик посмотрел на него, словно видел его в первый раз, и потупился.
Смерть следовало скрывать временно, как преступление. К вечеру вошел к нему в комнату молодой человек, сел за стол, на котором стоял ларчик с гобоем любви, вынул его из ларчика, подул в него и, не добившись звука, сложил в угол.
Затем, кликнув денщика, сказал подать пенника. Ни разу он не посмотрел на поручика Синюхаева.
Поручик же спросил стесненным голосом:
— Кто таков?
Молодой человек, пьющий его пенник, отвечал, зевнув:
— Юнкерской школы при сенате аудитор, — и приказал денщику постилать постель. Потом он стал раздеваться, и поручик Синюхаев долго смотрел, как ловко аудитор стаскивает штиблеты и сталкивает их со стуком, расстегивается, потом укрывается одеялом и зевает. Потянувшись наконец, молодой человек вдруг посмотрел на руку поручика Синюхаева и вытащил у него из обшлага рукава полотняный платочек. Прочистив нос, он снова зевнул.
Тогда наконец поручик Синюхаев нашелся и вяло сказал, что сие против правил.
Аудитор равнодушно возразил, что, напротив, все по правилам, что он действует по части второй, как бывший Синюхаев — «яко же умре», и чтоб поручик снял свой мундир, который кажется аудитору еще довольно приличным, а сам чтоб надел мундир, не годный для носки.
Поручик Синюхаев стал снимать мундир, а аудитор ему помог, объясняя, что сам бывший Синюхаев может это сделать «не так».
Потом бывший Синюхаев надел мундир, не годный для носки, и постоял, опасаясь, как бы аудитор перчаток не взял. У него были длинные желтые перчатки, с угловатыми пальцами, форменные. Перчатки потерять — к бесчестью, слыхал он. В перчатках поручик, каков бы он ни был, все поручик. Поэтому, натянув перчатки, бывший Синюхаев повернулся и пошел прочь.
Всю ночь он пробродил по улицам С.-Петербурга, даже не пытаясь зайти никуда. Под утро он устал и сел наземь у какого-то дома. Он продремал несколько минут, затем внезапно вскочил и пошел, не глядя по сторонам.
Вскоре он вышел за черту города. Сонный торшрейбер[34] у шлагбаума рассеянно записал его фамилию.
Больше он не возвращался в казармы.
11
Адъютант был хитер и не сказал никому о подпоручике Киже и своей удаче. У него, как и у всякого, были враги. Поэтому он сказал только кой-кому, что человек, кричавший «караул», найден.
Но это произвело странное действие на женской половине дворца.
Ко дворцу с его верхними колоннами, тонкими, как пальцы, ударяющие в клавесин, построенному Камероном, были пристроены с фаса два крыла, округленные, как кошачьи лапы, когда кошка играет с мышонком. В одном крыле девствовала фрейлина Нелидова со штатом.
Часто Павел Петрович, виновато миновав стражу, отправлялся на это крыло, а однажды часовые видели, как император быстро выбежал оттуда, со съехавшим набок париком, и вдогонку над его головой пролетела женская туфля.
Хотя Нелидова была только фрейлиной, у нее самой были фрейлины.
И вот, когда до женского крыла дошло, что кричавший «караул» найден, одна из фрейлин Нелидовой упала в краткий обморок.
Она была, как и Нелидова, кудрявой и тонкой, как пастушок.
При бабке Елизавете у фрейлин стучала парча, трещали шелка, и освобожденные соски испуганно появлялись из них. Такова была мода.
Амазонки, любившие мужскую одежду, бархатные морские хвосты и звезды у сосков, отошли вместе с похитительницей престола.
Теперь женщины стали пастушками с кудрявыми головами.
Итак, одна из них рухнула в краткий обморок.
Поднятая с полу своей покровительницей и пробудившись от бесчувствия, она рассказала: у нее в тот час было назначено любовное свидание с офицером. Она не могла, однако, отлучиться из верхнего этажа и вдруг, посмотрев в окно, увидела, что распаленный офицер, позабыв осторожность, а может быть, и не зная о том, стоит у самого окна императора и посылает ей наверх знаки.
Она махнула ему рукой, сделала ужас глазами, но любовник понял это так, будто он омерзел ей, и жалобно закричал: «Караул».
В тот же миг, не растерявшись, она приплюснула пальцем нос и указала вниз. После этого курносого знака офицер обомлел и скрылся.
Больше она его не видела, а по быстроте любовного случая, который произошел накануне, даже не знала его фамилии.
Теперь его обнаружили и сослали в Сибирь.
Нелидова стала думать.
Ее случай был на ущербе, и хоть она себе в этом не хотела сознаться, но ее туфля уже не могла больше летать.
С адъютантом она была холодна, и ей не хотелось обращаться к нему. Состояние императора было сомнительно. В таких случаях она обращалась теперь к одному партикулярному, но могущественному человеку, Юрию Александровичу Нелединскому-Мелецкому.[35]
Она так и сделала и послала к нему камер-лакея с запиской.
Дюжий камер-лакей, передавая уже не впервые эти записки, всегда удивлялся мизерности могущественного человека. Мелецкий был певец и статс-секретарь. Он был певец «Быстрой реченьки» и сладострастен к пастушкам. Вид его был самый маленький, рот сладостен, а брови мохнаты. Но он был к тому же великий хитрец и, глядя вверх на плечистого камер-лакея, сказал:
— Скажи, чтоб не было беспокойства. Пусть ждут. Все сие решится.
Но сам он немного трусил, вовсе не зная, как все это решится, и когда в дверь сунулась к нему одна из его юных пастушек, которую раньше звали Авдотьей, а теперь Селименою, он свирепо повел бровями.
Дворня Юрия Александровича состояла по большей части из юных пастушек.
12
Часовые шли и шли.
От шлагбаума к шлагбауму, от поста к крепости, они шли прямо и с опаскою посматривали на важное пространство, шедшее между ними.
Сопровождать сосланного в Сибирь им приходилось не впервой, но им еще никогда не случалось вести такого преступника. Когда они вышли за черту города, у них было сомнение. Не слышно было звука цепей и не нужно было подгонять прикладами. Но потом они подумали, что дело казенное и бумага при них. Они мало разговаривали, так как это было запрещено.
На первом посту смотритель посмотрел на них как на сумасшедших, и они смутились. Но старший показал бумагу, в которой было сказано, что арестант секретный и фигуры не имеет, и смотритель захлопотал и отвел им для ночлега особую камеру в три нары. Он избегал разговаривать с ними и так юлил, что часовые невольно почувствовали свое значение.
Ко второму — большому — посту они подошли уже уверенно, с важным молчаливым видом, и старший просто бросил бумагу на комендантский стол. И этот точно так же заюлил и захлопотал, как первый.
Понемногу они начали понимать, что сопровождают важного преступника. Они привыкли и значительно говорили между собою: «он» или «оно».
Так они зашли уже в глубь Российской империи, по той же прямой и притоптанной Владимирской дороге.
И пустое пространство, терпеливо шедшее между ними, менялось; то это был ветер, то пыль, то усталая, сбившаяся с ног жара позднего лета.
13
Между тем по той же Владимирской дороге шел за ними вдогонку от заставы к заставе, от крепости к крепости важный приказ.
Юрий Александрович Неледипский-Мелецкий сказал: ждать, и в этом не ошибся.
Потому что великий страх Павла Петровича медленно, но верно переходил в жалость к самому себе, в умиление.
Император поворачивался спиною к звероподобным садовым кустам и, побродив в пустоте, обращался к изящному чувству Камерона.
Он согнул в бараний рог всех губернаторов и генералов матери, он запрятал их в имения, где они отсиживались. Он должен был так сделать. И что же? Вокруг образовалась большая пустота.
Он вывесил ящик для жалоб и писем перед своим замком, потому что ведь он, а не кто другой был отцом отечества. Сначала ящик пустовал, — и это его огорчало, потому что отечество должно разговаривать с отцом. Потом в ящике было найдено подметное письмо, в котором его называли: батька курносый, и угрожали.
Он посмотрелся тогда в зеркало.
— Курнос, сударики, точно курнос, — прохрипел он и велел ящик снять.
Он предпринял путешествие по этому странному отечеству. Он загнал в Сибирь губернатора, который осмелился положить в своей губернии для его проезда новые мосты. Путешествие было не маменькино: все должно было быть так, как есть, а не принаряжено. Но отечество молчало. На Волге собрались было вокруг него мужики. Он послал парня зачерпнуть воды с середины реки, чтобы выпить чистой воды.
Он выпил эту воду и сказал сипло мужикам:
— Вот я пью вашу воду. Что глазеете?
И вокруг стало пусто.
Больше в путешествие он не ездил и вместо ящика поставил на каждом форпосте крепких часовых, но не знал, верны ли они, и не знал, кого нужно опасаться.
Кругом была измена и пустота.
Он нашел секрет, как избыть их, — и ввел точность и совершенное подчинение. Заработали канцелярии. Считалось, что себе он берет власть только исполнительную. Но как-то так случалось, что исполнительная власть путала все канцелярии, и поэтому были: сомнительная измена, пустота и лукавое подчинение. Он казался сам себе случайным пловцом, воздымающим среди ярых воли пустые руки, — некогда он видел такую гравюру.
А между тем он был единственный после долгих лет законный самодержец.
И его тяготило желание опереться на отца, хотя бы на мертвого. Он вырыл из могилы убитого вилкою немецкого недоумка, который считался его отцом, и поставил его гроб рядом с гробом похитительницы престола.[36] Но это было сделано так, более в отместку мертвой матери, при жизни которой он жил как ежеминутно приговоренный к казни.
Да и была ли она его матерью?
Он знал что-то смутное о скандале своего рождения.
Он был человек безродный, лишенный даже мертвого отца, даже мертвой матери.
Он никогда обо всем этом не думал и велел бы выстрелить из пушки человеком, который бы его заподозрил в таких мыслях.
Но в такие минуты ему бывали приятны даже малые шалости и китайские домики его Трианона. Он становился прямым другом натуры и желал всеобщей любви или хотя бы чьей-нибудь.
Это шло припадком, и тогда грубость считалась откровенностью, глупость — прямотой, хитрость — добротой, и денщик-турок, который ваксил его сапоги, делался графом.
Юрий Александрович всегда верхним чутьем чуял перемену.
Он выждал с неделю, а потом почуял.
Тихими, но веселыми шагами он потоптался вокруг стеклянной ширмы и вдруг рассказал императору в покрове простоты все, то знал о подпоручике Киже, за исключением, разумеется, подробности о курносом знаке.
Тут император захохотал таким лающим, таким собачьим, хриплым и прерывистым смехом, как будто он пугал кого-нибудь.
Юрий Александрович обеспокоился.
Он хотел оказать приятность Нелидовой, у которой был домовым приятелем, и показать мимоходом свое значение — ибо, по немецкой пословице, ходкой тогда, umsonst ist der Tod — даром одна смерть. Но такой хохот мог сразу вогнать Юрия Александровича во вторую роль или даже быть орудием его уничтожения.
Может быть, это сарказмы?
Но нет, император изнемог от смеха. Он протянул руку за пером, и Юрий Александрович, привстав на цыпочки, прочел вслед за императорской рукой:
Подпоручика Киже, в Сибирь сосланного, вернуть, произвести поручики и на той фрейлине женить.
Написав это, император прошелся по комнате с вдохновением.
Он ударил в ладоши и запел свою любимую песню и стал присвистывать:
Ельник, мой ельник,
Частый мой березник…
а Юрий Александрович тонким и очень тихим голосом подхватил:
Люшеньки-люли.
14
Искусанный пес любит уходить в поле и лечиться там горькими травами.
Поручик Синюхаев шел пешком из С.-Петербурга в Гатчину. Он шел к отцу, не для того чтобы просить помощи, а так, может быть, из желания проверить, существует ли отец в Гатчине или, может быть, не существует. На отцовский привет он ничего не ответил, посмотрел кругом и уже собрался уходить, как стесняющийся и даже жеманничающий человек.
Но лекарь, увидев изъяны в его одежде, усадил его и начал допытываться:
— Ты проигрался или проштрафился?
— Я не живой, — вдруг сказал поручик.
Лекарь пощупал ему пульс, сказал что-то о пиявках и продолжал допытываться.
Когда он узнал о сыновней оплошности, он взволновался, целый час писал и переписывал прошение, заставил сына его подписать и назавтра пошел к барону Аракчееву, чтобы вместе с суточным рапортом передать его. Сына он, однако, постеснялся держать у себя дома, а положил его в гошпиталь и написал на доске над его кроватью:
Mors occasionalis
Случайная смерть
15
Барона Аракчеева тревожила идея государства.
Поэтому его характер мало поддавался определению, он был неуловим. Барон не был злопамятен, бывал иногда и снисходителен. При рассказе какой-нибудь печальной истории он слезился, как дитя, и давал садовой девочке, обходя сад, копейку. Потом, заметив, что дорожки в саду нечисто выметены, приказывал бить девчонку розгами. По окончании же экзекуции выдавал дитяти пятачок.
В присутствии императора он чувствовал слабость, похожую на любовь.
Он любил чистоту, она была эмблемою его нрава. Но бывал доволен именно тогда, когда находил изъяны в чистоте и порядке, и если их не оказывалось, втайне огорчался. Вместо свежего жаркого он ел всегда солонину.
Он был рассеян, как философ. И, правда, ученые немцы находили сходство в его глазах с глазами известного тогда в Германии философа Канта: они были жидкого, неопределенного цвета и подернуты прозрачной пеленой. Но барон обиделся, когда ему кто-то сказал об этом сходстве.
Он был не только скуп, но любил и блеснуть и показать все в лучшем виде. Для этого он входил в малейшие хозяйственные подробности. Он сидел над проектами часовен, орденов, образов и обеденного стола. Его прельщали круги, эллипсы и линии, которые, переплетаясь, как ремни в треххвостке, давали постройку, способную обмануть глаз. А он любил обмануть посетителя или обмануть императора и притворялся, что не видит, когда кто ухитрялся и его обмануть. Обмануть же, конечно, его было трудно.
Он имел подробную опись вещам каждого из своих людей, начиная с камердинера и кончая поваренком, и проверял все гошпитальные описи.
При устройстве гошпиталя, в котором служил отец поручика Синюхаева, барон сам показывал, как поставить кровати, куда скамейки, где должен быть ординаторский столик и даже какого вида должно быть перо, то есть голое, без бородки, в виде римского calamus — тростника. За перо, очиненное с бородкою, подлекарю полагалось пять розог.
Идея римского государства тревожила барона Аракчеева.
Поэтому он рассеянно выслушал лекаря Синюхаева, и только когда тот протянул прошение, он внимательно прочел его и сделал выговор лекарю, что бумага подписана нечеткою рукой.
Лекарь извинился тем, что у сына рука дрожит.
— Ага, братец, вот видишь, — ответил барон с удовольствием, — и рука дрожит.
Потом, поглядев на лекаря, он спросил его:
— А когда приключилась смерть?
— Иуня пятнадцатого, — ответил, несколько оторопев, лекарь.
— Иуня пятнадцатого, — протянул барон, соображая, — иуня пятнадцатого… А теперь уже семнадцатое, — сказал он вдруг в упор лекарю. — Где же был мертвец два дня?
Ухмыльнувшись на лекарский вид, он кисло заглянул в прошение и сказал:
— Вот какие неисправности. Теперь прощай, братец, поди.
16
Певец и статс-секретарь Мелецкий действовал на ура, он рисковал и часто выигрывал, потому что все представлял в нежном виде, под стать краскам Камерона, но выигрыши сменялись проигрышами, как в игре кадрилия.
У барона Аракчеева была другая повадка. Он не рисковал, ни за что не ручался. Напротив, в донесениях императору он указывал на злоупотребление — вот оно — и тут же испрашивал распоряжения, какими мерами его уничтожить. Умаление, которым рисковал Мелецкий, барон сам производил над собою. Зато выигрыш вдали мелькал большой, как в игре фаро.
Он сухо донес императору, что умерший поручик Синюхаев явился в Гатчину, где и положен в гошпиталь. Причем сказался живым и подал прошение о восстановлении в списках. Каковое препровождается и испрашивается дальнейшее распоряжение. Он хотел показать покорность этой бумагой, как рачительный приказчик, обо всем спрашивающий хозяина.
Ответ получился скоро, — и на прошение и барону Аракчееву в особенности.
На прошение была наложена резолюция:
Бывшему поручику Синюхаеву, выключенному из списка за смертью, отказать по той же самой причине.
А барону Аракчееву была прислана записка:
Господин барон Аракчеев.
Удивляюсь, что, будучи в чине генерала, не знаете устава, направляя прямо ко мне прошение умершего поручика Синюхаева, к тому и не вашего полка, которое надлежало сначала направить собственно в канцелярию полка, которого этот поручик, а не меня прямо обременять таковым прошением.
Впрочем, пребываю к вам благосклонный
Не было сказано: «навсегда благосклонный».
И Аракчеев прослезился, так как смерть не любил получать выговоры. Он сам пошел в гошпиталь и велел немедля гнать умершего поручика, выдав ему белье, а офицерскую одежду, значащуюся в описи, задержать.
17
Когда поручик Киже вернулся из Сибири, о нем уже знали многие. Это был тот самый поручик, который крикнул «караул» под окном императора, был наказан и сослан в Сибирь, а потом помилован и сделан поручиком. Таковы были вполне определенные черты его жизни.
Командир уже не чувствовал никакого стеснения с ним и просто назначал то в караул, то на дежурства. Когда полк выступал в лагери для маневров, поручик выступал вместе с ним. Он был исправный офицер, потому что ничего дурного за ним нельзя было заметить.
Фрейлина, краткий обморок которой спас его, сначала обрадовалась, думая, что ее соединяют с ее внезапным любовником. Она поставила мушку на щеку и затянула несходившуюся шнуровку. Потом в церкви она заметила, что стоит одиноко, а над соседним, пустым местом держит венец адъютант. Она хотела уже снова упасть в обморок, но так как держала глаза опущенными ниц и видела свою талию, то раздумала. Некоторая таинственность обряда, при котором жених не присутствовал, многим понравилась.
И через некоторое время у поручика Киже родился сын, по слухам, похожий на него.
Император забыл о нем. У него было много дел.
Быстрая Нелидова была отставлена, и ее место заняла пухлая Гагарина. Камерон, швейцарские домики и даже все Павловское были забыты. В кирпичном аккурате лежал приземистый и солдатский С.-Петербург. Суворов, которого император не любил, но терпел, потому что тот враждовал с покойным Потемкиным, был потревожен в своем деревенском уединении. Приближалась кампания, так как у императора были планы. Планов этих было много, и нередко один заскакивал за другой. Павел Петрович раздался в ширину и осел. Лицо его стало кирпичного цвета. Суворов опять впал в немилость. Император все реже смеялся.
Перебирая полковые списки, он наткнулся раз на имя поручика Киже и назначил его капитаном, а в другой раз полковником. Поручик был исправный офицер. Потом император снова забыл о нем.
Жизнь полковника Киже протекала незаметно, и все с этим примирились. Дома у него был свой кабинет, в казарме своя комната, и иногда туда заносили донесения и приказы, не слишком удивляясь отсутствию полковника.
Он уже командовал полком.
Лучше всего чувствовала себя в громадной двуспальной кровати фрейлина. Муж подвигался по службе, спать было удобно, сын подрастал. Иногда супружеское место полковника согревалось каким-либо поручиком, капитаном или же статским лицом. Так, впрочем, бывало во многих полковничьих постелях С.-Петербурга, хозяева которых были в походе.
Однажды, когда утомившийся любовник спал, ей послышался скрип в соседней комнате. Скрип повторился. Без сомнения, это рассыхался пол. Но она мгновенно растолкала заснувшего, вытолкала его и бросила ему в дверь одежду. Опомнившись, она смеялась над собою.
Но и это случалось во многих полковничьих домах.
18
От мужиков пахло ветром, от баб дымом.
Поручик Синюхаев никому не смотрел прямо в лицо и различал людей по запаху.
По запаху он выбирал место для ночлега, причем норовил спать под деревом, потому что под деревом дождь не так мочит.
Он шел, нигде не задерживаясь.
Он проходил чухонские деревни, как проходит реку плоский камешек, «блинок», пускаемый мальчишкой, — почти не задевая. Изредка чухонка давала ему молока. Он пил стоя и уходил дальше. Ребятишки затихали и блистали белесоватыми соплями. Деревня смыкалась за ним.
Его походка мало изменилась. От ходьбы она развинтилась, но эта мякинная, развинченная, даже игрушечная походка была все же офицерская, военная походка.
Он не разбирался в направлениях. Но эти направления можно было определить. Уклоняясь, делая зигзаги, подобные молниям на картинках, изображающих всемирный потоп, он давал круги, и круги эти медленно сужались.
Так прошел год, пока круг сомкнулся точкой, и он вступил в С.-Петербург. Вступя, он обошел его кругом из конца в конец.
Потом он начал кружить по городу, и ему случалось неделями делать один и тот же круг.
Шел он быстро, все тою же своей военной, развинченной походкой, при которой ноги и руки казались нарочно подвешенными.
Лавочники его ненавидели.
Когда ему случалось проходить по Гостиному ряду, они покрикивали вслед:
— Приходи вчера.
— Играй назад.
О нем говорили, что он приносит неудачу, а бабы-калашницы, чтобы откупиться от его глаза, давали ему, молчаливо сговорясь, по калачу.
Мальчишки, которые во все эпохи превосходно улавливают слабые черты, бежали за ним и кричали:
— Подвешенной!
19
В С.-Петербурге часовые у замка Павла Петровича прокричали:
— Император спит.
Этот крик повторяли алебардщики на перекрестках:
— Император спит.
И от этого крика, как от ветра, одна за другой закрылись лавки, а пешеходы попрятались в дома.
Это означало вечер.
На Исаакиевской площади толпы мужиков в дерюге, согнанные на работу из деревень, потушили костры и улеглись тут же, на земле, покрывшись гуньками.[37]
Стража с алебардами, прокричав: «Император спит», — сама заснула. На Петропавловской крепости ходил, как часы, часовой. В одном кабаке на окраине сидел кабацкий молодец, опоясанный лыком, и пил царское вино с извозчиком.
— Батьке курносому скоро конец, — говорил извозчик, — я возил важных господ…
Подъемный мост у замка был поднят, и Павел Петрович смотрел в окно.
Он был пока безопасен, на своем острове.
Но были шепоты и взгляды во дворце, которые он понимал, и на улицах встречные люди падали перед его лошадью на колени со странным выражением. Так было им заведено, но теперь люди падали в грязь не так, как всегда. Они падали слишком стремительно. Конь был высок, и он качался в седле. Он царствовал слишком быстро. Замок был недостаточно защищен, просторен. Нужно было выбрать комнату поменьше. Павел Петрович, однако, не мог этого сделать — кой-кто тотчас бы заметил. «Нужно бы спрятаться в табакерку», — подумал император, нюхая табак. Свечи он не зажег. Не нужно наводить на след. Он стоял в темноте, в одном белье. У окна он вел счет людям. Делал перестановки, вычеркивал из памяти Беннигсена, вносил Олсуфьева.
Список не сходился.
— Тут моего счета нету…
— Аракчеев глуп, — сказал он негромко.
— …vague incertitude[38] которою сей угодствует…
У подъемного моста еле был виден часовой.
— Надобно, — сказал по привычке Павел Петрович.
Он барабанил пальцами по табакерке.
— Надобно. — Он припоминал и барабанил, и вдруг перестал.
Все, что надобно, уже давно сделалось, и это оказалось недостаточным.
— Надобно заключить Александра Павловича, — он поторопился и махнул рукой.
— Надобно…
Что надобно?
Он лег и быстро, как все делал, юркнул под одеяло.
Он заснул крепким сном.
В семь часов утра он вдруг, толчком, проснулся и вспомнил: надобно приблизить человека простого и скромного, который был бы всецело обязан ему, а всех прочих сменить.
И заснул опять.
20
Наутро Павел Петрович просматривал приказы. Полковник Киже был внезапно произведен в генералы. Это был полковник, который не клянчил имений, не лез в люди за дяденькиной спиной, не хвастун, не щелкун. Он нес службу без ропота и шума.
Павел Петрович потребовал его формулярные списки.
Он остановился над бумагой, из которой явствовало, что полковник подпоручиком был сослан в Сибирь за крик под императорским окном: «Караул». Он кое-что в тумане вспомнил и улыбнулся. Там была какая-то легкая любовная история.
Как кстати был бы теперь человек, который в нужное время крикнул бы «караул» под окном. Он пожаловал генералу Киже усадьбу и тысячу душ.
Вечером того дня имя генерала Киже всплыло на поверхность. О нем говорили.
Некто слышал, как император сказал графу Палену с улыбкой, которой давно не видали:
— Дивизией погодить его обременять. Он потребен на важнейшее.
Никто, кроме Беннигсепа, не хотел сознаться, что ничего не знает о генерале. Пален щурился.
Обер-камергер Александр Львович Нарышкин вспомнил генерала:
— Ну да, полковник Киже… Я помню. Он махался с Сандуновой…
— На маневрах под Красным…
— Помнится, родственник Олсуфьеву, Федору Яковлевичу…
— Он не родственник Олсуфьеву, граф. Полковник Киже из Франции. Его отец был обезглавлен чернью в Тулоне.
21
События шли быстро. Генерал Киже был вызван к императору. В тот же день императору донесли, что генерал опасно заболел.
Он крякнул с досадой и отвертел пуговицу у Палена, принесшего весть.
Он прохрипел:
— Положить в гошпиталь, вылечить. И если, сударь, не вылечат…
Императорский камер-лакей ездил в гошпиталь дважды в день справляться о здоровье.
В большой палате, за наглухо закрытыми дверьми, суетились лекаря, дрожа, как больные.
К вечеру третьего дня генерал Киже скончался.
Павел Петрович уже не сердился. Он посмотрел на всех туманным взглядом и удалился к себе.
22
Похороны генерала Киже долго не забывались С.-Петербургом, и некоторые мемуаристы сохранили их подробности.
Полк шел со свернутыми знаменами. Тридцать придворных карет, пустых и наполненных, покачивались сзади. Так хотел император. На подушках несли ордена.
За черным тяжелым гробом шла жена, ведя за руку ребенка.
И она плакала.
Когда процессия проходила мимо замка Павла Петровича, он медленно, сам-друг, выехал на мост ее смотреть и поднял обнаженную шпагу.
— У меня умирают лучшие люди.
Потом, пропустив мимо себя придворные кареты, он сказал по-латыни, глядя им вслед:
— Sic transit gloria mundi.[39]
23
Так был похоронен генерал Киже, выполнив все, что можно было в жизни, и наполненный всем этим: молодостью и любовным приключением, наказанием и ссылкою, годами службы, семьей, внезапной милостью императора и завистью придворных.
Имя его значится в «С.-Петербургском Некрополе», и некоторые историки вскользь упоминают о нем.
В «Петербургском Некрополе» не встречается имени умершего поручика Синюхаева.
Он исчез без остатка, рассыпался в прах, в мякину, словно никогда не существовал.
А Павел Петрович умер в марте того же года, что и генерал Киже, — по официальным известиям, от апоплексии.
1928
ЛЕО КИАЧЕЛИ
АЛМАСГИР КИБУЛАН[40]
На Ленхерских лесозаготовках, там, где Хуберчала впадает в Ингури, работали сваны. Собралось их человек десять. Был здесь и Алмасгир Кибулан, житель отдаленного селения Халде. Алмасгир резко выделялся среди земляков своим богатырским сложением — так старинная башня возвышается над обычными сванскими домами.
С Кибуланом пришел его сын Гивергил. Односельчане прозвали юношу «Дали гезал», что значит «Сын Дали»,[41] — такой он был удачливый охотник!
Гивергилу едва исполнилось пятнадцать лет, и отец впервые взял его на лесозаготовки.
Алмасгира вызвал из деревни его родственник Бимурзола Маргвелани. Он тоже был родом из Халде, но жил теперь постоянно в Ленхери.
Еще год назад Бимурзола договорился со старым подрядчиком Каузой Пипия о том, что к началу будущего лета сдаст ему в селении Джвари сотню отборных сосновых бревен определенного размера. Подписав соглашение, Бимурзола получил от подрядчика задаток и разрешение на заготовку леса. Кроме Алмасгира Кибулана и Гивергила, Бимурзола привлек к работе еще нескольких своих бывших соседей — опытных лесорубов.
И в ту же зиму сваны вступили в борьбу с могучими дэвами, горделиво высившимися по берегам Хуберчалы. Свалив сотню отборных сосен, сваны обрубили ветки, очистили стволы от коры, поставили клейма и уложили гладкие, точно восковые свечи, бревна на склонах, обращенных к реке, чтобы весной, во время половодья, сплавить их, как было условлено, до селения Джвари.
Вот уже неделя прошла, как сваны на исходе весны снова собрались в ущелье Ленхери и приступили к сплаву.
Весна в том году выдалась бурная. В ущельях гремели потоки. Ручьи белыми шелковыми лентами извивались по горным склонам. Водопады, пенясь, с шальной быстротою низвергались в пропасти. Ничтожные речонки, захлебываясь от избытка воды, превратились в реки, а переполненная до краев Хуберчала соперничала с самим Ингури.
Всю неделю сваны общими усилиями, пользуясь катками, перекатывали заготовленные зимою бревна и сбрасывали их с горных склонов в ревущие воды Хуберчалы. Стволы сшибались на лету, от береговых скал сыпались белые искры, гребни волн, взлетая, сверкали на солнце, точно высоко занесенные шашки.
Алмасгир Кибулан и Гивергил, вооружившись баграми, подстерегали на берегу, у слияния Хуберчалы с Ингури, подхваченные течением бревна. Едва бревно, погрузившись в водовороты Ингури, всплывало на поверхность, отец и сын набрасывались на него с баграми и, налегая что было сил, толкали к левому берегу, — здесь, в стороне от бурного течения реки, под защитой нависших скал образовалась тихая заводь, лениво текущие воды которой чуть пониже сворачивали вправо и впадали в основное русло.
Этот проток служил чем-то вроде естественной запани для сплавляемого по Ингури леса. Собрав сюда всю партию бревен, лесорубы гнали их затем на стрежень. Они шли по обрывистому берегу Ингури, там, где это было возможно, вслед за вереницей плывущих стволов и, не спуская с них глаз, устраняли возникавшие по пути препятствия.
У Алмасгира Кибулана и Гивергила уже собралось в запани значительное количество леса. Оголенные стволы жались друг к другу, всхлипывая и дрожа всем телом, точно испуганные овцы, — казалось, они спешили передохнуть и залечить рапы, нанесенные им прибрежными скалами.
Неподалеку от запани, под седловиной нависшего над берегом утеса, сваны сколотили себе на скорую руку шалаш, прилегавший вплотную к отвесной скалистой стене. Шалаш этот держался на четырех столбах и был перекрыт бурками и еловыми ветками. В нем лесорубы отдыхали днем и коротали ночи.
Перед шалашом сваны сложили очаг из трех камней одинаковой высоты. В очаге постоянно горел огонь, и на камнях весь день стоял котелок.
Гивергил был ловкий, удачливый охотник; благодаря ему у сванов не было недостатка в дичи — они почти каждый день ели мясо, чаще всего куропаток, которыми изобиловали прибрежные скалистые ущелья.
На столбах шалаша были развешаны овчины, кожаные мешки, бурки, короткие сванские чохи[42] с поясами и огромными кинжалами.
У самого входа поверх кожуха висела на ремне старинная, богато отделанная серебром одностволка.
Кожух Гивергилу сшили когда-то из шкуры первого убитого им тура. Охотничий самопал также принадлежал юноше и был предметом его гордости. Гивергил свято верил, что сама Дали собственными руками трижды чистила его ружье и трижды благословила.
Близился вечер. Пропустив в заводь последнее бревно, принесенное водами Хуберчалы, Алмасгир вскинул багор на плечо, и, подняв заскорузлый, мозолистый палец, принялся считать сбившиеся стадом стволы.
Вскоре спустились с горы остальные лесорубы, пришел с ними и Бимурзола. Сваны столпились на берегу, вокруг Алмасгира. Все радовались, что самая трудная часть работы уже позади. Пускай теперь повозятся с этими бревнами волны Ингури!
Бимурзола и лесорубы тоже принялись, каждый про себя, пересчитывать бревна. Счет сошелся. Все сто бревен, от первого до последнего, оказались на месте.
Сваны направились к шалашу. Отряхнули одежду, накинули на плечи бурки, задымили трубками. И полилась беседа, как всегда у сванов, тихая, медлительная — так струится мука из-под жернова.
А Гивергил накинул свой кожух, взял под мышку ружье и, точно тигренок, двумя-тремя легкими прыжками достиг вершины утеса. Затаив дыхание, стал вглядываться в угрюмые, пустынные скалы. И вдруг подобрался всем телом, точь-в-точь готовый к взлету сокол. Нос с горбинкой и желтоватые, горящие угольками глаза довершали это сходство. Мускулы на груди и смуглых кремневых руках вздрагивали от напряжения, как тугая тетива.
Сидевшие у костра пожилые сваны приметили юношу, оседлавшего утес, словно коня, и гордая улыбка тронула их лица. С завистью взглянули они на стоявшего в стороне Алмасгира. Бимурзола погладил седую бороду и, чтобы еще больше раззадорить юного Кибулана, затянул сванскую охотничью песню:
Войда Лемчил, иавойда накам,
Войда Гивер, иавойда гила…[43]
Гивергил сорвался с места и вдруг исчез, — казалось, улетел куда-то ввысь.
Алмасгир нахмурился.
— Час поздний! Да и места незнакомые… — промолвил он.
Лесорубы упрекнули его в излишней осторожности, молодого охотника похвалили за отвагу и напомнили Алмасгиру, что сама судьба в лице богини Дали покровительствует его сыну во время охоты.
Алмасгир повел плечами и проворчал, как бы оправдываясь.
— Старуха просила беречь… Сон ей, видишь ли, приснился накануне! Я и забыл, сейчас только вспомнил…
Бимурзола расхохотался. Был он человек грамотный, подолгу живал в городах.
— Наши бабы слишком много спят, Алмасгир! Моя старуха тоже не раз меня предостерегала, а вот я до сих пор жив и здоров. Не верь, брат, снам! Может, в былые времена и имело смысл, а теперь…
Алмасгир не отозвался, но другие заспорили с Бимурзолой.
Один из сванов принялся рассказывать длинную историю о страшных чудищах. Цхеки-Лаав, Эсрия, Шашар Лахвааэ… Чего только люди не натерпелись от них.
И день, как бы испугавшись этих сказочных чудовищ, свернул вдруг свои крылья; в горах наступил час причудливой игры красок.
Насторожился Алмасгир. Угрюмый великан двинулся вверх по горному склону, туда, где недавно еще мелькнул его сын.
Среди опаленных солнцем утесов он и сам походил на каменную глыбу, которая обрела каким-то чудом живую душу.
Его огромное нескладное тело, казалось, сбито из неровных, угловатых обломков гранита, схваченных на груди и плечах обручем из сванского железа. Взгляд у Алмасгира был острый, недоверчивый, он искоса поглядывал на мир. С крутого лба, затеняя глаза цвета зрелой пшеницы, свисали черные крылья бровей.
Алмасгир остановился на вершине утеса, заслонил глаза широкой, как лопата, ладонью и зорко оглядел горы, обрызганные золотистыми бликами закатных лучей. Лицо его, туго обтянутое жесткой, изрезанной глубокими морщинами кожей, потемнело от безотчетного страха.
— Гиверги-ил!
И в это самое мгновение раздался выстрел. Сваны шумно повскакали с мест.
Войда Гивер, иавойда гила!
Еще выстрел, и над обрывом показался Гивергил.
Сваны встретили удачливого охотника веселым хороводом. Он стоял с добычей в руках посреди круга, а родичи, покачиваясь в торжественной пляске, скользили мимо него.
Веселый Бимурзола затянул песню, вторя раскатам и стонам Ингури:
Войда Лилево, исхвани дидаб,
Бингошиа войда Лиле…[44]
Гивергил звонким голосом подхватил напев, забирая все выше и выше. Немного погодя в хоровод вступил и Алмасгир, и его громоподобный бас эхом отдался в горах.
А внизу, в ущелье, Ингури в предчувствии ночи уже укутался в дымчатое одеяло.
По высокому берегу двинулась рать сумрачно-сизых теней.
Еще выше, на ближней горе, угасла золотистая зыбь солнца, уже утратившего свою силу.
Только Ушба вдали, сверкая на недосягаемой высоте своими бесподобными алмазами, освещала путь покидавшему землю солнцу и как бы давала знать своим собратьям, белоголовому Тетнульду и седому Лайле,[45] верным часовым Сванетии, что ночь уже близка…
День доживал свои последние мгновения, а сваны все еще кружились в хороводе.
На рассвете лесорубы снова вооружились баграми, навьючили на себя кожаные мешки и свернутые бурки и, засучив рукава и штаны, вытянулись цепочкой вдоль стиснутой громадами скал реки. Отталкивая прибитые к берегу бревна, они гнали их поодиночке из запани.
Ущелье все еще было окутано туманом, утренней заре не сразу удалось прогнать ночной сумрак; но Ингури уже почувствовал, что день победил; расправив плечи, он разбил сковывающий его перламутровый панцирь и раскидал клочья туманного своего покрова по скатам нависавших отовсюду скал.
Впереди всех, по правому берегу реки, шел Алмасгир Кибулан и — точно пастух стадо — вел за собой растянувшиеся длинной вереницей бревна. По другому берегу реки, вровень с отцом, сражаясь со скалами и волнами, прокладывал себе путь Гивергил. Оттолкнув бревно, он взмахивал длинным багром, рассекая им попутно, словно шашкой, плотные сгустки тумана. На юноше был кожух, обтягивавший его крепко сбитый стан; за плечами висела одностволка. Гивергил то появлялся, выделяясь бронзовым изваянием на белом фоне кипящей пены, то снова скрывался за выступами скал и за высокими гребнями волн, с неистовым ревом налетавших на берег.
— Гиверги-и-ил, име хари?[46] — раздавался тогда призыв Алмасгира. Голос его, прорываясь через горные теснины и покрывая вой Ингури, выдавал тайную тревогу за сына, от которой сжималось отцовское сердце.
Так прошли они немалую часть пути.
Было уже утро, когда сваны, миновав границу Сванетии, приближались к Худони.
Чуть повыше селения перед ними неожиданно встало неодолимое препятствие. Громадная скала, высившаяся на самой середине реки, преградила путь бревнам. Образовался затор. Стволы наваливались друг на друга и громоздились у скалы, образуя подобие башни.
Бревна Алмасгира и Гивергила одно за другим налетели на затор. Отпрянули. Водоворот втянул их и закружил, точно щепки. А там подхватила следующая волна и швырнула — одни в зияющие пустоты затора, другие на его вершину.
На берегу, невдалеке от затора, суетились какие-то люди. Алмасгир Кибулан узнал среди них подрядчика Каузу Пипия и еще нескольких знакомых сванов. Рев Ингури заглушал голоса, но по всему было видно, что сваны о чем-то ожесточенно спорят и препираются с подрядчиком.
Кауза Пипия держал в одной руке смотанную веревку, в другой — какую-то сложенную четырехугольником бумажку. Он то и дело разворачивал эту бумажку и снова складывал, пытаясь, видимо, успокоить взволнованных сванов. Подрядчик указывал то одной, то другой рукой на какое-то бревно и что-то объяснял, но по жестам его Алмасгир ничего не понял.
Бимурзола догнал Кибуланов. Подоспели и другие лесорубы.
— Обманул нас Кауза! Обещал взорвать скалу и не сдержал слова! — сказал Бимурзола.
Сваны направились к подрядчику, и тут же выяснилось, о чем идет спор и что за бумажку вертит он в руках.
Кауза Пипия предлагал десятку тому смельчаку, который взберется на затор и затянет петлю на «замке» — на самом нижнем бревне из тех, что навалились на скалу и преградили течение.
Казалось, человеку ловкому и, главное, небольшого веса не так уж трудно было заработать эту десятку. Узкий поток между берегом и скалой был сплошь забит бревнами, образовавшими подобие моста, который упирался одним концом в берег, другим в скалу.
Однако рабочие считали, что награда, назначенная подрядчиком, слишком незначительна, и требовали прибавки.
Наконец из толпы выступил стройный, худощавый юноша и заявил, что готов попытать счастья.
Подрядчик передал десятку указанному юношей свану.
Смельчака на всякий случай обвязали веревкой вокруг пояса, несколько рабочих ухватились за другой ее конец, и юноша двинулся к затору.
Бревна оказались такими скользкими, что на округлой их поверхности трудно было удержаться. Едва пройдя несколько шагов, юноша оступился, падая, ушиб руку и тотчас повернул обратно.
Однако опыт показал, что бревна сбились крепко-накрепко и мост между берегом и скалой в самом деле достаточно устойчив.
Бледный от пережитого напряжения, юноша не стал во второй раз испытывать судьбу. Он сослался на ушибы и боль в руке. Отступили и другие.
Тогда Гивергил шепнул на ухо Бимурзоле, что он попытается накинуть петлю на проклятое бревно. Бимурзола схватил Гивергила за руку, подвел к подрядчику и во всеуслышание заявил о согласии молодого свана выполнить опасное поручение.
Алмасгир Кибулан вспыхнул. Он гневно взмахнул руками, обхватил сына за плечи и оттащил в сторону. Старик рассердился на Бимурзолу, подозревая, что он подговорил мальчика.
Загоревшиеся удалью глаза Гивергила сразу погасли.
Заволновались, зашумели односельчане Алмасгира. Одни превозносили Гивергила за смелость, другие доказывали отцу, что добраться до затора не так уж трудно. Кое-кто соблазнял Алмасгира обещанной подрядчиком наградой. И даже чужие, незнакомые Алмасгиру люди, взглянув на Гивергила, заявили решительно:
— Нечего и сомневаться! Этот тигренок свое возьмет! Кто же, если не он?
И в самом деле: соперников у Гивергила не оказалось.
Сваны столько шумели, что Алмасгиру пришлось умолкнуть.
Подрядчик обрадовался, протянул старому свану деньги и, боясь, как бы Алмасгир снова не отказался, собственноручно сунул ему десятку за пазуху.
Гивергил снял ружье и повесил отцу на плечо; его так же, как и предыдущего юношу, обвязали веревкой.
Алмасгир, не доверяя никому, сам взялся за другой ее конец. Он намотал веревку на руку и, упершись ногами в скалистый выступ, огромной глыбой стал над рекою, как раз против груды бревен, громоздившихся у скалы.
Гивергил, чтобы легче держать равновесие, раскинул руки, точно крылья, и в мгновение ока преодолел расстояние между берегом и затором.
Люди, затаив дыхание, следили с берега за юношей. И никто не слышал призывов Алмасгира, вырывавшихся, точно приглушенный рев, из глубины его сердца.
— Довольно, Гивергил! Поворачивай обратно!
Гивергил уже спускался с вершины затора к «замку». Он ловко уселся на конец выдававшегося вперед ствола, который показался ему особенно удобным, и перегнулся всем телом к заранее намеченному нижнему бревну.
— Ай да молодец мальчик! — загудели сваны.
Но в это мгновение раздался вдруг оглушительный треск.
Гул пронесся над рекой, дрогнули нависшие над берегом горы, затряслась земля.
Затор прорвало. Бревна неслись в воде и по воздуху, точно кинутые со сверхъестественной силой гигантские стрелы: их было так много, казалось — мрак сгустился в теснине; в какой-то неистовой скачке обгоняли они друг друга с ужасающим грохотом и треском.
Не успели люди опомниться, как на берегу раздался вопль, не менее потрясающий, чем грохот снесенного бешеным напором волн затора.
— Гивергил, име хари?
Все обернулись.
Алмасгир Кибулан стоял у самой воды. Он сжимал в руках обрывок веревки и, глядя в смятении то на один, то на другой ее конец, рычал, как обезумевший от боли зверь.
— Гивергил, име хари? Люди пришли в себя.
— Гивергил! Гивергил! — пронесся над берегом дружный призыв.
Гивергила не было видно.
Алмасгир впился взглядом в бурные воды Ингури.
— Гивергил! — крикнул он еще раз и обернулся к стоявшим на берегу сванам. Он обвел их отсутствующим взглядом, в глазах его мелькнуло недоумение. Казалось, он впервые видит этих людей.
— Где же, братья, мой Гивергил? — спросил он. Из глаз его полились слезы.
Прижавшись всем телом к скалистой стене, стоял перепуганный насмерть подрядчик Кауза Пипия.
Алмасгир, подбежав, швырнул веревку к его ногам. Вынув бумажку, протянул ее подрядчику и затем сунул ему за пазуху.
— На, брат! — сказал он и тряхнул подрядчика, обхватив его обеими руками за плечи.
— Вот твои деньги! Возьми! Отдай мне сына! — повторял он яростью, но Пипия не отзывался.
Тогда Алмасгир с неистовой силой встряхнул его еще и еще раз…
Отвесная черная стена, к которой мгновенье тому назад жался Пипия, окрасилась в красный цвет. Кровь брызнула в лицо Алмасгиру. Бездыханное тело подрядчика с размозженным черепом выпало из рук старого свана. Алмасгир склонился над ним. Он, видимо, не понимал, что же здесь произошло.
— Алмасгир, что ты сделал? — донесся до него вдруг голос Бимурзолы.
Алмасгир обернулся.
— Бимурзола! — крикнул он. В голосе его зазвучали ярость и жажда мести.
Алмасгир огляделся. Никого вокруг не было. Бимурзола скрылся вместе с другими лесорубами.
Старый сван снова обратил свои взоры к Ингури. Чуть дальше того места, где рухнул затор, на поверхности реки всплыло что-то серое и снова исчезло в волнах.
— Гивергил! — вскрикнул Алмасгир Кибулан и устремился по берегу вслед за шальным течением Ингури.
Гивергил чудился отцу в каждой волне, в каждом водовороте, голос сына слышался в каждом всплеске реки.
Ружье Гивергила висело на плече старика, но он ничего не чувствовал, ничего не помнил, он только всем существом своим стремился к сыну. Он неустанно выкрикивал одно только имя сына и бежал, бежал, испуская жалобные вопли, с легкостью прыгая с камня на камень, с глыбы на глыбу; казалось, к его нечеловеческой силе прибавилась тигриная ловкость Гивергила.
Где-то в глубине сердца теплилась надежда: неужели такой юноша, как Гивергил, сдастся, неужели он допустит, чтоб Ингури его одолел! Алмасгир не мог себе представить, что сын его погиб. Разве это возможно?! Подхваченный течением, Гивергил, верно, выбрался где-нибудь пониже на берег. Вот-вот они встретятся.
Но тут же его покидала надежда. И тогда в отчаянии он страстно желал увидеть сына, если не живым, то хоть мертвым. Желал, но, боясь сойти с ума, закрывал глаза, до боли сжимая ладонями виски, только бы прогнать эту мысль, только бы не увидеть мертвое лицо любимого сына.
Был уже полдень, когда Алмасгир пришел в селение Джвари, где крутые берега Ингури расступаются и река, замедлив свой неистовый бег, течет уже по широкой просторной долине. Алмасгиру приходилось и раньше бывать в Джвари, но здесь кончался ведомый ему мир.
У заезжего двора стояли крестьяне. Увидав шагавшего по берегу великана, они поспешили ему навстречу. Несколько подростков, отделившись от толпы, с криком сбежали вниз к Ингури.
Все с недоумением глядели на этого внезапно сошедшего с гор странного человека, напоминавшего им дэва из старинных сказок: казалось, огнедышащее чудище движется средь бела дня вдоль берега, извергая искры из глаз, а из уст — раскаленные угли.
У Алмасгира мучительно забилось сердце при виде бежавших навстречу юношей. На одном из них была сванская шапочка. И был он такой же стройный и гибкий, как Гивергил.
Старик остановился.
— Гивергил! — воскликнул он и с нежностью протянул руки.
Но подростки в испуге разбежались.
Тогда Алмасгир, размахнувшись, с такой силой ударил себя в грудь кулаком, что внутри загудело.
— Горе мне! О, горе мне, Гивергил! — завопил он.
Слезы неудержимым потоком полились из глаз старика. И он снова устремился за убегавшими волнами Ингури.
Время шло, горы остались уже позади. Перед Алмасгиром расстилались ровные поля и луга. Ингури на его глазах рос, поглощая встречные ручьи и реки, становился все шире и глубже. Влажный воздух вокруг Алмасгира тяжелел, затрудняя дыхание. Прямые линии равнин были неприятны горцу, с непривычки болели глаза.
Ночь застигла Алмасгира в этих незнакомых местах. Он выбился из сил и едва брел, не разбирая пути, то и дело увязая в болоте. Ветки колючего кустарника ранили его, кровь, смешиваясь с потом, стекала по лицу.
Старик прокладывал себе путь вдоль реки. Небо над нею отсвечивало медью. И когда наконец взошла луна, Алмасгиру стало легче. Он даже обрадовался. В этом чуждом и душном краю только луна была знакома ему.
Алмасгир безмолвно взмолился к луне, излив ей свое отцовское горе. И вот старик увидел сквозь слезы, как она, словно в ответ на его мольбы, приняла образ богини Дали, распустила косы, сошла на землю и остановилась неподалеку от Алмасгира.
Старый сван увидел: лицо ее исцарапано в знак скорби — как если бы она была матерью или сестрой юноши; услышал: Дали, подобно ему, жалобно призывает Гивергила.
— Дали, о Дали! — взмолился Алмасгир, но из груди его вырвался только хрип. Старик потерял голос. И все же снова обрел надежду и, шатаясь от утомления, устремился вперед.
Но вдруг какой-то необычайной силы всплеск, неведомо откуда возникший, поразил помраченное сознание Алмасгира; а еще несколько мгновений спустя перед ним развернулось непостижимое зрелище: небо и земля слились друг с другом в своей беспредельности, и мир утратил присущий ему облик.
Это было море, Ингури привел Алмасгира к морю.
Еще раз что-то прогремело, и огромная, возникшая в бескрайних просторах волна, встав на дыбы, преградила ему путь.
Ужас объял Алмасгира, и, потрясенный, он замер. Алмасгир никогда не видел моря. Громоподобный всплеск волны на мгновение вызвал в его памяти затор на Ингури, с ошеломляющим грохотом распавшийся под напором волн. Неужели этот ужас повторится и сын снова погибнет у него на глазах?
— Дали, помоги своему Гивергилу! — собрав последние силы, воскликнул Алмасгир и вошел в море.
Из морских глубин подымалось лучезарное видение. Это была Дали, покровительница Гивергила, сошедшая ради него с неба. Она вырвала Гивергила из пучины, окутала его своими золотистыми волосами и плыла, нежно прижимая юношу к своей груди.
— Гивергил! — с нечеловеческой силой вырвалось из груди Алмасгира Кибулана; охваченный бесконечной радостью, он весь подобрался, тело его стало легким, и, простирая узловатые руки к милому облику сына, он кинулся, разрезая волны, в море. Но он не почувствовал моря. Не почувствовал и смерти. Он видел перед собою только сына, который, широко раскрыв глаза, улыбался ему навстречу.
1928
ЮРИЙ ОЛЕША
ЛЮБОВЬ[47]
Шувалов ожидал Лелю в парке. Был жаркий полдень. На камне появилась ящерица. Шувалов подумал: на этом камне ящерица беззащитна, ее можно сразу обнаружить. «Мимикрия», — подумал он. Мысль о мимикрии привела воспоминание о хамелеоне.
— Здравствуйте, — сказал Шувалов. — Не хватало только хамелеона.
Ящерица бежала.
Шувалов поднялся в сердцах со скамейки и быстро пошел по дорожке. Его охватила досада, возникло желание воспротивиться чему-то. Он остановился и сказал довольно громко:
— Да ну его к черту! Зачем мне думать о мимикрии и хамелеоне? Эти мысли мне совершенно не нужны.
Он вышел на полянку и присел на пенек. Летали насекомые. Вздрагивали стебли. Архитектура летания птиц, мух, жуков была призрачна, но можно было уловить кое-какой пунктир, очерк арок, мостов, башен, террас — некий быстро перемещающийся и ежесекундно деформирующийся город.
«Мною начинают распоряжаться, — подумал Шувалов. — Сфера моего внимания засоряется. Я становлюсь эклектиком. Кто распоряжается мною? Я начинаю видеть то, чего нет».
Леля не шла. Его пребывание в саду затянулось. Он прогуливался. Ему пришлось убедиться в существовании многих пород насекомых. По стеблю ползла букашка, он снял ее и посадил на ладонь. Внезапно ярко сверкнуло ее брюшко. Он рассердился.
— К черту! Еще полчаса — и я стану натуралистом.
Стебли были разнообразны, листья, стволы; он видел травинки, суставчатые, как бамбук; его поразила многоцветность того, что называют травяным покровом; многоцветность самой почвы оказалась для него совершенно неожиданной.
— Я не хочу быть натуралистом! — взмолился он. — Мне не нужны эти случайные наблюдения.
Но Леля не шла. Он уже сделал кое-какие статистические выводы, произвел уже кое-какую классификацию. Он уже мог утверждать, что в этом парке преобладают деревья с широкими стволами и листьями, имеющими трефовую форму. Он узнавал звучание насекомых. Внимание его, помимо его желания, наполнилось совершенно неинтересным для него содержанием.
А Леля не шла. Он тосковал и досадовал. Вместо Лели пришел неизвестный гражданин в черной шляпе. Гражданин сел рядом с Шуваловым на зеленую скамью. Гражданин сидел несколько понурившись, положив на каждое колено по белой руке. Он был молод и тих. Оказалось впоследствии, что молодой человек страдает дальтонизмом. Они разговорились.
— Я вам завидую, — сказал молодой человек. — Говорят, что листья зеленые. Я никогда не видел зеленых листьев. Мне приходится есть синие груши.
— Синий цвет несъедобный, — сказал Шувалов. — Меня бы стошнило от синей груши.
— Я ем синие груши, — печально повторил дальтоник.
Шувалов вздрогнул.
— Скажите, — спросил он, — не замечали ли вы, что когда вокруг вас летают птицы, то получается город, воображаемые линии?..
— Не замечал, — ответил дальтоник.
— Значит, весь мир воспринимается вами правильно?
— Весь мир, кроме некоторых цветовых деталей. — Дальтоник повернул к Шувалову бледное лицо.
— Вы влюблены? — спросил он.
— Влюблен, — честно ответил Шувалов.
— Только некоторая путаница в цветах, а в остальном — все естественно! — весело сказал дальтоник. При этом он сделал покровительственный по отношению к собеседнику жест.
— Однако синие груши — это не пустяк, — ухмыльнулся Шувалов.
Вдали появилась Леля. Шувалов подпрыгнул. Дальтоник встал и, приподняв черную шляпу, стал удаляться.
— Вы не скрипач? — спросил вдогонку Шувалов.
— Вы видите то, чего нет, — ответил молодой человек.
Шувалов запальчиво крикнул:
— Вы похожи на скрипача.
Дальтоник, продолжая удаляться, проговорил что-то, и Шувалову послышалось:
— Вы на опасном пути…
Леля быстро шла. Он поднялся навстречу, сделал несколько шагов. Покачивались ветви с трефовыми листьями. Шувалов стоял посреди дорожки. Ветви шумели. Она шла, встречаемая овацией листвы. Дальтоник, забиравший вправо, подумал: «А ведь погода-то ветрена», — и посмотрел вверх, на листву. Листва вела себя, как всякая листва, взволнованная ветром. Дальтоник увидел качающиеся синие кроны. Шувалов увидел зеленые кроны. Но Шувалов сделал неестественный вывод. Он подумал: «Деревья встречают Лелю овацией». Дальтоник ошибался, но Шувалов ошибался еще грубее.
— Я вижу то, чего нет, — повторил Шувалов.
Леля подошла. В руке она держала кулек с абрикосами. Другую руку она протянула ему. Мир стремительно изменился.
— Отчего ты морщишься? — спросила она.
— Я, кажется, в очках.
Леля достала из кулька абрикос, разорвала маленькие его ягодицы и выбросила косточку. Косточка упала в траву. Он испуганно оглянулся. Он оглянулся и увидел: на месте падения косточки возникло дерево, тонкое, сияющее деревце, чудесный зонт. Тогда Шувалов сказал Леле:
— Происходит какая-то ерунда. Я начинаю мыслить образами. Для меня перестают существовать законы. Через пять лет на этом месте вырастет абрикосовое дерево. Вполне возможно. Это будет в полном согласии с наукой. Но я, наперекор всем естествам, увидел это дерево на пять лет раньше. Ерунда. Я становлюсь идеалистом.
— Это от любви, — сказала она, истекая абрикосовым соком.
Она сидела на подушках, ожидая его. Кровать была вдвинута в угол. Золотились на обоях венчики. Он подошел, она обняла его. Она была так молода и так легка, что, раздетая, в сорочке, казалась противоестественно оголенной. Первое объятие было бурным. Детский медальон вспорхнул с ее груди и застрял в волосах, как золотая миндалина. Шувалов опускался над ее лицом — медленно, как лицо умирающей, уходившим в подушку.
Горела лампа.
— Я потушу, — сказала Леля.
Шувалов лежал под стеной. Угол надвинулся. Шувалов водил пальцем по узору обоев. Он понял: та часть общего узора обоев, тот участок стены, под которым он засыпает, имеет двойное существование: одно обычное, дневное, ничем не замечательное — простые венчики; другое — ночное, воспринимаемое за пять минут до погружения в сон. Внезапно подступив вплотную, части узоров увеличились, детализировались и изменились. На грани засыпания, близкий к детским ощущениям, он не протестовал против превращения знакомых и законных форм, тем более что превращение это было умилительно: вместо завитков и колец он увидел козу, повара…
— И вот скрипичный ключ, — сказала Леля, поняв его.
— И хамелеон… — прошепелявил он, засыпая.
Он проснулся рано утром. Очень рано. Он проснулся, посмотрел по сторонам и вскрикнул. Блаженный звук вылетел из его горла. За эту ночь перемена, начавшаяся в мире в первый день их знакомства, завершилась. Он проснулся на новой земле. Сияние утра наполняло комнату. Он видел подоконник и на подоконнике горшки с разноцветными цветами. Леля спала, повернувшись к нему спиной. Она лежала свернувшись, спина ее округлилась, под кожей обозначился позвоночник — тонкая камышина. «Удочка, — подумал Шувалов, — бамбук». На этой новой земле все было умилительно и смешно. В открытое окно летели голоса. Люди разговаривали о цветочных горшках, выставленных на ее окне.
Он встал, оделся, с трудом удерживаясь на земле. Земного притяжения более не существовало. Он не постиг еще законов этого нового мира и поэтому действовал осторожно, с опаской, боясь каким-нибудь неосторожным поступком вызвать оглушительный эффект. Даже просто мыслить, просто воспринимать предметы было рискованно. А вдруг за ночь в него вселилось умение материализировать мысли? Имелось основание так предполагать. Так, например, сами собой застегнулись пуговицы. Так, например, когда ему потребовалось намочить щетку, чтобы освежить волосы, внезапно раздался звук падающих капель. Он оглянулся. На стене под лучами солнца горела цветами монгольфьеров охапка Лелиных платьев.
— Я тут, — прозвучал из вороха голос крана.
Он нашел под охапкой кран и раковину. Розовый обмылок лежал тут же. Теперь Шувалов боялся подумать о чем-либо страшном. «В комнату вошел тигр», — готов был подумать он против желания, но успел отвлечь себя от этой мысли… Однако в ужасе посмотрел он на дверь. Материализация произошла, но так как мысль была не вполне оформлена, то и эффект материализации получился отдаленный и приблизительный: в окно влетела оса… она была полосата и кровожадна.
— Леля! Тигр! — завопил Шувалов.
Леля проснулась. Оса повисла на тарелке. Оса жироскопически гудела.[48] Леля соскочила с кровати. Оса полетела на нее. Леля отмахивалась — оса и медальон летали вокруг нее. Шувалов прихлопнул медальон ладонью. Они устроили облаву. Леля накрыла осу хрустящей своей соломенной шляпой.
Шувалов ушел. Они распрощались на сквозняке, который в этом мире казался необычайно деятельным и многоголосым. Сквозняк раскрыл двери внизу. Он пел, как прачка. Он завертел цветы на подоконнике, подкинул Лелину шляпу, выпустил осу и бросил в салат. Он поднял Лелины волосы дыбом. Он свистел.
Он поднял дыбом Лелину сорочку.
Они расстались, и, от счастья не чувствуя под собой ступенек, Шувалов спустился вниз, вышел во двор… Да, он не чувствовал ступенек. Далее он не почувствовал крыльца, камня; тогда он обнаружил, что сие не мираж, а реальность, что ноги его висят в воздухе, что он летит.
— Летит на крыльях любви, — сказали в окне под боком.
Он взмыл, толстовка превратилась в кринолин, на губе появилась лихорадка, он летел, прищелкивая пальцами.
В два часа он пришел в парк. Утомленный любовью и счастьем, он заснул на зеленой скамье. Он спал, выпятив ключицы под расстегнутой толстовкой.
По дорожке медленно, держа на заду руки, со степенностью ксендза и в одеянии вроде сутаны, в черной шляпе, в крепких синих очках, то опуская, то высоко поднимая голову, шел неизвестный мужчина.
Он подошел и сел рядом с Шуваловым.
— Я Исаак Ньютон, — сказал неизвестный, приподняв черную шляпу. Он видел сквозь очки свой синий фотографический мир.
— Здравствуйте, — пролепетал Шувалов.
Великий ученый сидел прямо, настороженно, на иголках. Он прислушивался, его уши вздрагивали, указательный палец левой руки торчал в воздухе, точно призывая к вниманию невидимый хор, готовый каждую секунду грянуть по знаку этого пальца. Все притаилось в природе. Шувалов тихо спрятался за скамью. Один раз взвизгнул под пятой его гравий. Знаменитый физик слушал великое молчание природы. Вдали, над купами зелени, как в затмение, обозначилась звезда, и стало прохладно.
— Вот! — вдруг вскрикнул Ньютон. — Слышите?..
Не оглядываясь, он протянул руку, схватил Шувалова за полу и, поднявшись, вытащил из засады. Они пошли по траве. Просторные башмаки ученого мягко ступали, на траве оставались белые следы. Впереди, часто оглядываясь, бежала ящерица. Они прошли сквозь чащу, украсившую пухом и божьими коровками железо очков ученого. Открылась полянка. Шувалов узнал появившееся вчера деревце.
— Абрикосы? — спросил он.
— Нет, — раздраженно возразил ученый, — это яблоня.
Рама яблони, клеточная рама ее кроны, легкая и хрупкая, как рама монгольфьера, сквозила за необильным покровом листьев. Все было неподвижно и тихо.
— Вот, — сказал ученый, сгибая спину. От согнутости его голос походил на рык. — Вот! — Он держал в руке яблоко. — Что это значит?
Было видно, что не часто приходилось ему нагибаться: выровнявшись, он несколько раз откинул спину, ублажая позвоночник, старый бамбук позвоночника. Яблоко покоилось на подставке из трех пальцев.
— Что это значит? — повторил он, оханьем мешая звучанью фразы. — Не скажете ли вы, почему упало яблоко?
Шувалов смотрел на яблоко, как некогда Вильгельм Телль.
— Это закон притяжения, — прошепелявил он.
Тогда, после паузы, великий физик спросил:
— Вы, кажется, сегодня летали, студент? — так спросил магистр. Брови его ушли высоко над очками.
— Вы, кажется, сегодня летали, молодой марксист?
Божья коровка переползла с пальца на яблоко. Ньютон скосил глаза. Божья коровка была для него ослепительно-синей. Он поморщился. Она снялась с самой верхней точки яблока и улетела при помощи крыльев, вынутых откуда-то сзади, как вынимают из-под фрака носовой платок.
— Вы сегодня, кажется, летали?
Шувалов молчал.
— Свинья, — сказал Исаак Ньютон.
Шувалов проснулся.
— Свинья, — сказала Леля, стоявшая над ним. — Ты ждешь меня и спишь. Свинья!
Она сняла божью коровку со лба его, улыбнувшись тому, что брюшко у насекомого железное.
— Черт! — выругался он. — Я тебя ненавижу. Прежде я знал, что это божья коровка, и ничего другого о ней, кроме того, что она божья коровка, я не знал. Ну, скажем, я мог бы еще прийти к заключению, что имя у нее несколько антирелигиозное. Но вот с тех пор, как мы встретились, что-то сделалось с моими глазами. Я вижу синие груши и вижу, что мухомор похож на божью коровку.
Она хотела обнять его.
— Оставь меня! Оставь! — закричал он. — Мне надоело! Мне стыдно.
Крича так, он убегал, как лань. Фыркая, дикими скачками, бежал он, отпрыгивая от собственной тени, кося глазом. Запыхавшись, он остановился. Леля исчезла. Он решил забыть все. Потерянный мир должен быть возвращен.
— До свиданья, — вздохнул он, — мы с тобой не увидимся больше.
Он сел на покатом месте, на гребне, с которого открывался вид на широчайшее пространство, усеянное дачами. Он сидел на вершине призмы, спустив ноги по покатости. Под ним кружил зонт мороженщика, весь выезд мороженщика, чем-то напоминающий негритянскую деревню.
— Я живу в раю, — сказал молодой марксист расквашенным голосом.
— Вы марксист? — прозвучало рядом.
Молодой человек в черной шляпе, знакомый дальтоник, сидел с Шуваловым в ближайшем соседстве.
— Да, я марксист, — сказал Шувалов.
— Вам нельзя жить в раю.
Дальтоник поигрывал прутиком. Шувалов вздыхал.
— Что же мне делать? Земля превратилась в рай.
Дальтоник посвистывал. Дальтоник почесывал прутиком в ухе.
— Вы знаете, — продолжал, хныкая, Шувалов, — вы знаете, до чего я дошел? Я сегодня летал.
В небе косо, как почтовая марка, стоял змей.
— Хотите, я продемонстрирую вам… я полечу туда. (Он протянул руку.)
— Нет, спасибо. Я не хочу быть свидетелем вашего позора.
— Да, это ужасно, — помолчав, молвил Шувалов. — Я знаю, что это ужасно.
— Я вам завидую, — продолжал он.
— Неужели?
— Честное слово. Как хорошо весь мир воспринимать правильно и путаться только в некоторых цветовых деталях, как это происходит с вами. Вам не приходится жить в раю. Мир не исчез для вас. Все в порядке. А я? Вы подумайте, я совершенно здоровый человек, я материалист… и вдруг на моих глазах начинает происходить преступная антинаучная деформация веществ, материи…
— Да, это ужасно, — согласился дальтоник. — И все это от любви.
Шувалов с неожиданной горячностью схватил соседа за руку.
— Слушайте! — воскликнул он. — Я согласен. Дайте мне вашу радужную оболочку и возьмите мою любовь.
Дальтоник полез по покатости вниз.
— Извините, — говорил он. — Мне некогда. До свиданья. Живите себе в раю.
Ему трудно было двигаться по наклону. Он полз раскорякой, теряя сходство с человеком и приобретая сходство с отражением человека в воде. Наконец он добрался до ровной плоскости и весело зашагал. Затем, подкинув прутик, он послал Шувалову поцелуй и крик.
— Кланяйтесь Еве! — крикнул он.
А Леля спала. Через час после встречи с дальтоником Шувалов отыскал ее в недрах парка, в сердцевине. Он не был натуралистом, он не мог определить, что окружает его: орешник, боярышник, бузина или шиповник. Со всех сторон насели на него ветви, кустарники, он шел, как коробейник, нагруженный легким сплетением сгущавшихся к сердцевине ветвей. Он сбрасывал с себя эти корзины, высыпавшие на него листья, лепестки, шипы, ягоды и птиц.
Леля лежала на спине, в розовом платье, с открытой грудью. Она спала. Он слышал, как потрескивают пленки в ее набрякшем от сна носу. Он сел рядом.
Затем он положил голову к ней на грудь, пальцы его чувствовали ситец, голова лежала на потной груди ее, он видел сосок ее, розовый, с нежными, как пенка на молоке, морщинами. Он не слышал шороха, вздоха, треска сучьев.
Дальтоник возник за переплетом куста. Куст не пускал его.
— Послушайте, — сказал дальтоник.
Шувалов поднял голову с услащенной щекой.
— Не ходите за мной, как собака, — сказал Шувалов.
— Слушайте, я согласен. Возьмите мою радужную оболочку и дайте мне вашу любовь…
— Идите покушайте синих груш, — ответил Шувалов.
1928
МУХТАР АУЭЗОВ
СЕРЫЙ ЛЮТЫЙ[49]
Большой овраг близ Черного Холма безлюден, но хорошо известен пастухам окрестных аулов. Из этого оврага нередко приходит беда.
Черный Холм, точно меховой шапкой, покрыт низкорослыми кустами караганника и таволги. Верхушки караганника бледно, нежно зеленеют — на них раскрылись почки. Овраг сплошь зарос шиповником. Под его колючим пышным ковром скрыты волчьи норы.
Прохладный майский ветер порывами задувает из оврага, далеко разнося запах молодых трав и дикого лука. Кусты шевелятся и угрюмо, сухо шелестят, словно перешептываясь.
Поздней весной в овраг к старым норам пришли волк и волчица. Старые норы размыло полой водой, в них мог бы свободно влезть человек. Волки выкопали поблизости новую, более тесную нору и соединили ее со старыми узкими темными лазами.
Волчьи лапы вскоре утоптали свеженарытую землю. Белесая шкура волчицы не успела облинять, когда в логове появились дымчато-серые волчата.
Тихим утром волчица лежала на солнцепеке, под высокими метелками конского щавеля. Здесь было безветренно, жарко, ее разморило. Она дремала, изредка приоткрывая мутный глаз. Бока у нее опали, соски набухли молоком. Кожа на спине нервно подергивалась, соски непрестанно вздрагивали.
Слабый хруст донесся из-за кустов. Волчица вскочила, взметнув с земли летучие клочья белой шерсти, и оскалилась, глухо ворча. Волчата барахтались у ее ног.
И тотчас, перелетев через ветвистую стенку кустов, перед волчицей плюхнулась туша ягненка. Следом бесшумно выскочил крупный, тяжелый волк с низко опущенным хвостом. Роняя с морды красноватую пену, он обнюхал волчицу, а она жадно лизнула его в окровавленную скулу.
Ягненок был еще жив. Волк и волчица набросились на него и в одну минуту разорвали на части. Две белозубые прожорливые пасти большими кусками глотали легкое, нежное мясо. Зеленые глаза злобно горели.
Сожрав ягненка без остатка, волк и волчица повалялись в сочной пахучей траве и растянулись на ней во весь рост. Потом поочередно стали отрыгивать проглоченное мясо.
Волчата один за другим подползли к мясу и, урча, толкаясь, стали его трепать. Только двое, родившиеся последними, были еще слепы. Волчица подтащила их к себе и положила около сосков.
На другой день, когда солнце стояло в зените, волчица издалека почуяла стойкий, густой конский запах. Быстро затолкав волчат в нору, она скрылась в кустах.
Послышались людские голоса, конский топот.
Люди съехались у самого логова, спрыгнули с коней. О землю дробно застучали длинные пастушьи дубины.
Волчица стояла в шиповнике на крутом откосе оврага, вывалив из оскаленной пасти язык. Она все видела.
Набрасывая на головы, на шеи волчатам крепкие ременные путы, двуногие вытаскивали их одного за другим из темной норы, пятерых тут же прикончили. Одному перебили задние лапы и бросили около обгрызенной головы ягненка. Волчонок будет ползать, скулить, и волки унесут его и надолго уйдут из этих мест. А самого маленького из выводка люди взяли с собой.
Стих в овраге конский топот. Матерый черногорбый волк и белая волчица с двух сторон подошли к лежащему пластом волчонку и свирепо оскалились на него, а затем друг на друга. Волчица схватила волчонка и скользнула вверх по оврагу. Волк высокими, летучими прыжками понесся за ней.
Логово опустело.
Жил в ауле мальчик по имени Курмаш. Ему и достался слепой волчонок. Старшие говорили: серый попал к людям слепым — может быть, он приживется в ауле.
Курмаш не расставался с ним; приготовил для него чистую плошку, мягкий кожаный ошейник.
Дня через два волчонок открыл глаза, но из юрты не высовывался — снаружи доносился лай и жутко пахло псиной. На ночь Курмаш брал волчонка к себе под одеяло. Ради него мальчик ложился теперь спать врозь со старой бабушкой, которую любил больше всех людей на свете.
Она одна не одобряла его привязанности к слабому, прозрачно-серому зверьку с острыми, точно колючки, зубами.
— Он еще не прозрел, когда у него выросли клыки, — говорила бабушка. — Не успеет встать на ноги — прижмет к затылку уши.
И мальчик сердился на нее.
К середине лета волчонок подрос, окреп и ничем не отличался от аульных щенков, своих однолетков. Будь он полохматей, он походил бы на маленького волкодава. Но жизнь в ауле была для него неволей. Пастушьи псы не хотели с ним примириться, как и старая бабушка. Рычащие, ощеренные пасти встречали его всякий раз, когда он отваживался показаться из юрты.
Курмаш заступался за него, и верные сторожевые псы отходили от мальчика, обиженно огрызаясь. А в юрте волчонку было тесно, душно и скучно. Ему хотелось в степь, в высокие многоцветные травы, в неизведанный простор.
Однажды рослый черно-пегий пес из Большой юрты подстерег, когда мальчика не было поблизости, отогнал волчонка от его юрты, повалил и долго мял тяжелыми клыками. Подоспели другие псы и с упоенным лаем принялись хватать серого за ноги и за бока. Прибежали дети и взрослые, едва отбили волчонка. Потрепанный, искусанный, он отполз к юрте, сел к ней спиной и беззвучно оскалил белозубую пасть.
— Ишь какой немой… Гордый! — удивились мужчины. — Щенок бы сейчас своим визгом землю просверлил.
А женщины сказали:
— Ворюга! Потому и немой…
И это было верно. Даже Курмаша изумляла и тревожила прожорливость волчонка. Мальчик баловал, кормил его безотказно, намного сытнее, чем собак. А волчонок, казалось, никогда не мог насытиться.
Аульные псы ходили поджарые, они были неприхотливы. У волчонка туго налились бока и грудь, заметно рос жирный загривок. А он был постоянно голоден и рыскал по юрте, поводя черным влажным носом.
При людях он не притрагивался к еде, отворачивал от нее морду. Но стоило человеку отойти, как он мгновенно проглатывал все, что ему положили, и тоскливо смотрел на пустую плошку, будто ничего не ел. Стоило людям заглядеться, как он жадно хватал все, что было плохо положено и попадалось ему на зуб. Утаскивал вареное хозяйское мясо, лакал простоквашу из казана, будто она поставлена для него, грыз свежие шкуры, подвешенные сушиться на остов юрты.
Частенько он попадался, и его колотили безжалостно. Он испытал и удары скалкой, от которых гудело в голове, и острую, жгучую боль от тонко свистящей плетки. Ловко увертываясь, он молча скалил белые клыки. Не было случая, чтобы он, побитый, подал голос.
А между тем в ауле стали поговаривать, что по ночам он проскальзывает, не замеченный собаками, в кошары и обнюхивает курдюки у ягнят, и овцы его боятся. Кто-то видел, как он украдкой убегал в степь.
Курмаш не слушал аульных пересудов. Но как ни старался мальчик, как ни учил своего серого, тот никак не мог понять, чем хуже еда, которую он крал, той, что давали ему хозяева.
Курмаша он не опасался, ел при нем. Когда мальчик протягивал ему мясо, волчонок не брал, а выхватывал кусок из его рук. Но Курмаш ни разу не поднял на него палки, которой отгонял псов. Мальчик любовался волчонком, его сумрачным независимым взглядом исподлобья, его слегка темнеющим грозным загривком, его растущей день ото дня упрямой силой.
И назвал Курмаш своего любимца Коксерек, что означает Серый Лютый.
К исходу лета Серый Лютый стал уже мало похож на аульных псов. Голенастый, как теленок, крутогорбый, как бык, он перерос их всех. Хвоста он не поднимал по-собачьи и оттого казался еще рослей, а загривок и спина его напоминали натянутый лук.
Теперь он не убегал от черно-пегого кобеля, и собаки перестали задирать его. Едва он поворачивал к ним лобастую каменно-серую морду и сморщивал верхнюю губу, те кидались врассыпную. Обычно собаки, завидев его, держались сворой. И он и они всегда были настороже.
Никто не замечал, чтобы волк резвился в ауле. Не играл он и с Курмашем. Кличку свою помнил хорошо и прибегал, когда его звали Курмаш или старая бабушка, но бежал неторопливо, ленивой трусцой и не махал хвостом.
Собак он не трогал, не оборачивался на их лай, не гнался за убегавшими. Чаще всего он лежал в тени юрты, выпрямив острые уши, и угрюмо щурил зеленые глаза.
Курмаш гордился молчаливым зеленоглазым зверем и весело смеялся, когда соседские собаки, визжа от страха, пускались от него наутек. По правде сказать, мальчик и сам подчас побаивался Серого Лютого, но ни за что не признался бы в том даже старой милой бабушке.
Хозяин, черно-пегого пса хвастался:
— Что ваш серый, вислохвостый! Мой черно-пегий враз его скрутит, только дай! Давно бы придушил, если б не отгоняли.
Как-то походя, пробы ради, он науськал черно-пегого. Пес, не колеблясь, с азартным лаем бросился на волка, ударил его клыками в плечо. Метил он в шею, но промазал. В последний миг волк увернулся и, прежде чем пес успел отскочить, молча метнулся, в прыжке взял его за загривок и швырнул на землю. Огромный пес покатился с пригорка, точно беспомощная жирная овца. Волк тоже промахнулся, иначе он вырвал бы у пса горло.
Выбежал Курмаш и отозвал Серого Лютого, а хозяин отогнал своего черно-пегого.
Поздним вечером два волка неожиданно напали на овец, которые паслись неподалеку от аула.
Чабан поднял отчаянный крик, свист. Прискакали на конях из аула подростки и старшие. С оглушительным лаем дружной сворой примчались на выручку все аульные псы, а с ними и Серый Лютый.
Волки ушли в степь. За ними погнались — не догнали.
На ближних холмах всадники и собаки остановились. Вдали, по высокому гребню Черного Холма, в тусклом, неясном свете скользили серые тени.
— Раненько они нынче объявились, — сказал чабан.
И только Курмаш заметил, как по волчьим следам, почти касаясь мордой земли, бесшумно понесся Серый Лютый.
Мальчик отстал от людей и пеший бесстрашно пошел в темноту, к Черному Холму. Долго ласково звал:
— Коксерек! Кок-се-рек…
Но Серый Лютый так и не пришел на его зов.
Волк появился в ауле ночью. Встав на виду у своей юрты, он неторопливо поскреб железными когтями сухую, утоптанную землю, взметая клубы пыли. Поднял голову к звездному небу и втянул в себя по-осеннему студеный воздух, жадно внюхиваясь в слабые дуновения со стороны Черного Холма.
Днем Серого Лютого видели в ауле, а ночью он опять ушел в степь.
Пропадал трое суток. Вернулся отощавший, люто голодный, но по-прежнему угрюмый и без ошейника. Когда Курмаш окликнул его, он подошел, низко и словно бы угрожающе опустив голову. Мальчик обрадовался, обхватил его за короткую мускулистую шею. Волк вырвался, прижал к затылку уши, но даже бабушка не стала его бранить и захлопотала, готовя еду.
Ел он страшно, и Курмаш отступил от него подальше.
— Ого! Сказывается порода, — сказал Курмашу отец. — Глаза-то у зверя зеленые-презеленые, днем горят. Пора, сынок, пора содрать с него шкуру.
И мальчик задрожал, боясь, что теперь старшие не уступят ему, погубят его волка.
Но Серый Лютый словно понял, что говорят о нем. Едва люди отвернулись, он исчез. Никто не видел, когда он ушел из аула.
Много дней затем Курмаш напрасно искал его в зарослях чия — с тоской, с угрозой. Тщетно! Минула ветреная осень, белой кошмой покрыла степь суровая зима. Серый Лютый не возвращался.
До поздней осени он кормился зайчатиной далеко от родных мест, не брезговал и мышковать. Суслики были жирны, и он лакомился ими, как лиса. А по снегу голод пригнал его к людским зимовкам, овечьим загонам.
Теперь он пришел крадучись, как чужой. Шерсть поднималась на нем торчком, когда он видел людей.
Ночь за ночью он кружил, петлял по заснеженным холмам, оставляя на снегу летучий след пяток и когтей. Пар клубился у его слегка сморщенной серой морды. Он останавливался с подветренной стороны, и в нос ему бил густой сытный запах хлева и скота, а в уши — собачий беспокойный лай. Волк свирепо клацал клыками. Сейчас собаки так же чутки, как он голоден.
В глухой пуржистый час он попытался приблизиться к зимовке. Но бессонные псы словно знали, откуда он подойдет. Его встретила вся свора во главе с черно-пегим, прогнала.
Ветер стих, подморозило. Волк заплясал, приседая на задние лапы. Жесткий снежный наст обжигал ему пятки, черные уголки пасти мерзли, брюхо стянула голодная боль. Мелкой рысцой волк поднялся на холм. Снег искрился под сильным лунным светом. Серый Лютый вскинул голову к небу и, застыв в судорожной, не испытанной прежде истоме, протяжно, уныло завыл.
Тотчас в ауле вскипел оголтелый собачий лай.
Серый Лютый не опускал головы. И вдруг издалека, с Черного Холма, донесся невнятный, тоскливый отклик. Волк выпрямился, дрожа. Кто-то ему вторил, манил его. Он вслушался, повел носом и стремительно понесся на зов.
У схода в большой овраг он остановился, настороженный, вздрагивая от сильного озноба. С Черного Холма к нему спускалась снежно-белая волчица.
Серый Лютый не подпустил ее к себе. Она подходила, он отскакивал, скаля зубы, прижимая уши. Но уйти он не мог. И когда она пошла по его следу, вынюхивая его, а потом повернулась, жалобно повизгивая, и ткнулась теплым носом ему в пах, он не тронулся с места. Волчица тихо побежала прочь. Он догнал ее и лизнул в скулу.
Плечом к плечу они пустились вверх по оврагу, пролетели его насквозь и повернули к людскому жилью. По гребням холмов они за полчаса безостановочно, неутомимо проложили гигантский полукруг двойного редкого следа, и только наст звонко похрустывал под их лапами. Затем, словно сговорясь, они так же рядом помчались вниз, к аулу.
Луна зашла. Ночь была на исходе. Серый Лютый и белая волчица вихрем пролетели аул, как большой овраг, и оба увидели, как от желтоватого сугроба у овчарни за ними метнулся вдогон длинношерстный кудлатый пес, увлекая за собой всю свору. Это был, конечно, черно-пегий.
Волки неслись от аула во весь мах. Черно-пегий не отставал, надрывисто, натужно лая. Свора за ним растягивалась, редела. И Серый Лютый умерил скок, злобно прислушиваясь к лаю, — пес разрывался от ярости, от гнева.
Близ лощины свора остановилась, остановился и черно-пегий кобель и побежал обратно, к своре. Волчица первая кинулась за ним.
В безлюдной степи собаке трудно убежать от волка. Но черно-пегий не струсил, хотя остался один. Он жил для того, чтобы драться с волком, и, не колеблясь, сцепился с волчицей, когда на него налетел Серый Лютый и подмял под себя. Волчица с визгливым рычанием впилась псу в горло.
Вскоре от огромного черно-пегого остались лишь хвост, обглоданная голова да редкие клочки шерсти. Даже окровавленный снег волки проглотили.
Нажравшись, они ушли к Черному Холму и в овраге повалялись на чистом снегу.
С той ночи они не разлучались. И пошла гулять по округе серая беда.
То тут, то там, близ Черного Холма и далеко от него, волки задирали овец, резали коров и лошадей, валили верблюдов, губили лучших сторожевых псов и ускользали безнаказанно.
От аула к аулу ползла худая молва.
— Их целая стая, серых бесов, и все, точно оборотни, человека не боятся. Ничуть не боятся — вот что! Вожак у них матерый, с теленка ростом, до того лют, до того страховиден… Не бежит, даже когда человек подходит к нему на длину соила! Подойти-то боязно. Налетит стая с одной стороны, чабаны кидаются туда, собаки их травят, а тем временем вожак с другой стороны уносит на горбу овцу…
Подолгу волки не держались на одном месте. Сегодня их видели у Черного Холма, а завтра — верстах в десяти, двадцати, тридцати южнее, восточнее. Известно: волка ноги кормят.
Степь в том краю холмистая, овражистая, обросла кустарником. Любо-дорого посмотреть на нее с Черного Холма: точно море в бурю, она горбится высокими валами, кипит мохнатыми гребнями. В таких местах удобно волку, хлопотно пастуху. Легко подобраться невидимкой к стаду, к загону, легко подстеречь, Отбить отставшую скотину. И трудно выследить серого, невозможно предвидеть, откуда он выскочит неслышной дымчатой тенью. А снежной зимой и выследишь — не догонишь! Глубоки сугробы. Волк уходит целиной. Наст волка держит, а всадника нет: проваливается конь, не скачет — вспахивает снег.
Попробовали у большого оврага, где не раз находили волчьи норы, подбросить отравленное мясо, и покаялись. Разве оборотни возьмут отраву? Молодые аульные псы-недоумки подобрали мясо у оврага и там же остались лежать. Волки не тронули и застывшие собачьи туши.
Сытной была для волков та зима. Серый Лютый все рос и рос, наливаясь каменным весом, но по-прежнему не мог утолить свою страшную жажду мяса и крови.
Лишь к весне как будто слегка приглох его голод, и в жилах у него ненадолго зажглась иная жажда.
Снег в степи рыхлел, темнел. На холмах появились рваные пятна проталин, оголялась рыжая вязкая земля.
Небывалая игривость обуяла Серого Лютого. На бегу он стал суетлив, никчемно кружил, метался около волчицы, как щенок. Она ложилась отдыхать, а он приплясывал близ нее, поднимая вихри искрящегося снега, дурашливо прыгал через нее, толкал грудью, лапами, мордой. Она сердито огрызалась, а он хватал ее за шею и, подержав, отпускал. Иногда он подолгу трепал ее за шиворот, не давая вырваться. Она сварливо визжала, кусалась.
Потом она подобрела и стала чаще обнюхивать его и лизать.
Севернее Черного Холма лежали обширные мелководные соленые озера. Берега их тесно поросли чием и камышом. Места дикие — не зря над зарослями постоянно висит птичий грай. Сюда белая волчица увела весной, когда буйно зазеленели берега озер, Серого Лютого.
Теперь он охотился далеко от родных краев. А волчица не покидала логова и кормилась птичьими яйцами, подобранными в камышах.
Раз он принес ей бараний курдюк, но она не встретила его у норы, как обычно. Он беспокойно заскреб лапами землю, и она вылезла из норы обессиленная, едва волоча ноги.
Из норы исходил сильный незнакомый запах. Серый Лютый грозно ощетинился, сунул в нору оскаленную морду и вытащил зубами хлипкого, неказистого волчонка.
Волчица, слабо тявкая, кинулась к нему, но не смогла ему помешать. Серый Лютый бил маленького слепого волчонка о землю, пока тот не превратился в бесформенный серый комок, потом с отвращением швырнул через себя.
Когда он обернулся к волчице, она лежала между ним и норой, и к ней подползали другие волчата, тыкались ей в соски.
Серый Лютый, угрюмо облизываясь, лег в стороне.
Волчица стала выходить с ним на охоту, но была еще неповоротлива, грузна и то и дело убегала к своему выводку. Нередко они возвращались в логово, не солоно хлебавши, ничего не добыв, и он алчно поглядывал на волчат, а она кусала его, гоня от норы.
Ранним апрельским утром, когда волчата уже прозрели, Серый Лютый и белая волчица бежали вдоль озера к своей лежке, она — впереди, не позволяя себя обогнать, он — вплотную за ее хвостом, и вдруг почуяли человека. Птицы тучей поднялись над гнездами, топотали кони, стучали о землю пастушьи дубины… Волки прятались в камышах, пока не стихло кругом. А подкравшись к логову, нашли в нем лишь одного волчонка с перебитыми лапами.
Несколько суток волчица неотступно бродила вокруг аула, куда люди увезли других ее волчат. Тщетно Серый Лютый отзывал ее. Она не шла за ним — и их заметили.
Подсохла, зацвела земля. Кони быстро набирали силу на сочных весенних травах. И в один теплый голубой день волки услышали за собой шумную погоню. Трое всадников на резвых конях выгнали волков из большого оврага, что у Черного Холма.
Серый Лютый летел, как стрела. Еще в овраге волчица отстала от него. Соски у нее не успели затвердеть, и она была тяжела в беге. Сперва Серый Лютый вернулся к ней, побежал сзади, покусывая ее в бока, подгоняя. Она зарычала на него. Он оглянулся на конников и молча, стремительно ушел вперед.
У выхода из оврага он круто повернул и гибкими скачками, точно коза, взлетел вверх по скату оврага, заросшего колючим шиповником.
Серый Лютый скрылся в кустах, а белая волчица неслась напрямик по открытому месту, и всадники с гиком и улюлюканьем скакали за ней.
Ночью Серый Лютый, фыркая, осторожно потрусил по следу травли. В дальней лощине на сырой от росы траве он нашел пятно засохшей крови. Принюхался, лизнул его. Здесь лежала белая волчица, и здесь обрывался ее запах.
Серый Лютый сел и сидел, не двигаясь, напружинив выпуклую грудь, горбя бурый затылок, пока не взошла луна. А когда взошла лупа, он завыл уныло, глухо.
Словно окаменев, Серый Лютый сидел в лощине до утра. Перед рассветом поднялся, судорожно позевывая. Голод холодил ему брюхо.
Все лето он рыскал по степи один, нагоняя на стада и аулы страх. Не утихал ночной разбой, и пастухи проклинали свою долю. Как будто ходил у Черного Холма, близ соленых озер и повсюду окрест один серый с бурым горбом, а за лето зарезал не меньше полусотни ягнят и телят! Бездонное было у него брюхо.
Дважды пускались за ним вдогон на свежих конях со сворой резвых собак, оба раза ему удавалось унести ноги. С таким тяжелым брюхом легок был на ногу, разбойник, и неутомим. Волк не убегал — улетал, срамя аульных удальцов.
Днем он прятался, отсыпался в темных дебревых зарослях камыша, на топких, сильно заболоченных озерах, а ночью ничто его не останавливало — ни крик человека, ни лай собак, ни гром и огонь ружейного выстрела. Зря тратили чабаны патрон за патроном, целя в серую тень, без толку посвистывали над отарами жаканы — волк, невредимый, возвращался, едва утихало эхо в ночном мраке.
За лето Серый Лютый разжирел. Плотная жесткая шерсть стояла на нем, как колючки на еже, но брюхо было поджато и не знало ни часу покоя.
Повадился он ходить за косяками лошадей. Подкравшись к сосунку, он хватал его за короткий хвост и держал так, что тот не мог тронуться с места. Жеребенок вырывался изо всей мочи; волк внезапно выпускал его, и тот кубарем катился по земле. Волк бросался, и его клыки смыкались на горле жертвы.
Осень промелькнула короткая, ненастная, и вот опять завыли, замели многодневные, многоснежные бураны.
В морозную светлую ночь на голом гребне холма Серый Лютый неожиданно столкнулся с большой волчьей стаей. Взметая вихрь колючей снежной пыли, стая налетела на него и окружила. Серый Лютый оказался носом к носу с вожаком — громадным матерым зверем с дымящейся на морозе оскаленной пастью.
Но стая сразу поняла, что встретила не добычу, а хозяина здешних мест. Поджав толстый хвост, приседая, Серый Лютый свирепо клацал железными клыками. Он был вдвое моложе вожака, но не уступал ему ни в росте, ни в весе; ни у кого в стае не было таких крутых гладких боков.
Волчицы первые подошли и принялись обнюхивать Серого Лютого. Опасливо приблизились волки помоложе. Лишь вожаку он не позволил себя обнюхать, и тот тоже не подпустил его к себе. Пришельцы повалялись на твердом сугробе, поглотали мерзлые комья снега. Так же поступил Серый Лютый. И пошел со стаей рядом с вожаком.
К утру заметелило. Серый Лютый привел стаю к табуну коней. Отбили кобылу-двухлетку, загнали ее в глубокий сугроб, и Серый Лютый свалил ее на снег, как некогда черно-пегого кобеля. Волки навалились на лошадь со всех сторон. Серый Лютый по привычке вцепился в лопатки и отскочил от тупого удара клыками в плечо. Около него, ощерясь, стоял вожак: Серый Лютый тронул его коронную часть добычи.
Однако драться в эту минуту было некогда — лошадиная туша таяла, дымясь. Молодые волки вгрызлись в брюхо по уши. Волчицы терзали труп, толкаясь и рыча. Серый Лютый и вожак вернулись в тесный круг.
Над последней задней ногой остались только они двое. Остальные с почтительного отдаления, положив головы на лапы, смотрели, как они рвут мясо, с хрустом мозжат лошадиные кости. Оба отошли одновременно, тяжело дыша, немирно косясь один на другого, вымазанные в крови до глаз.
Легли порознь в центре стаи. Волчицы кружили около Серого Лютого. Он не сводил зеленых глаз со старого вожака.
Еще несколько ночей они водили стаю вдвоем, держась голова к голове, и если один уходил вперед на полшага, другой тотчас хватал его зубами за бок или за ногу.
А ночи выдались ясные, безветренные, голодные. В немом горле Серого Лютого клокотала ярость.
Волки шли вдоль яра, когда у них из-под ног сорвался заяц. Косой проскакал и прометался перед волчьими носами не менее версты, прежде чем его смяли. Серый Лютый и старый вожак одновременно схватили его и разорвали пополам. Стая далеко отстала от них.
Оба жадно проглотили свои куски и тут же бросились друг на друга. Веером полетели снежные комья, клочья шерсти. Дробный лязг клыков разнесся в тишине.
Двое матерых грызлись, встав на задние лапы, сцепившись передними, глубоко вскапывая под собой сугроб. На секунду они разошлись. Вожак рычал, он был не прочь покончить и на том. Но Серый Лютый изловчился и немо схватил его чуть пониже уха — собачий прием, так берут волкодавы. Согнул, подмял под себя и мгновенно вгрызся в высокий могучий загорбок. Сжал клыки, как клещи, и сломал волку шею.
Старый вожак лежал боком на снегу, бессильно скаля пасть. Подоспела стая и с ходу мгновенно разнесла его до костей. Волк лежачего не щадит — ни чужого, ни своего.
День и ночь не слезали табунщики с коней и не могли устеречь табунов. Такого страха, такого разбоя еще не знавали близ Черного Холма. На глазах пастухов волки косили все живое.
Серый Лютый водил свою стаю от зимовки к зимовке с заката до рассвета. Волки быстро отъелись, отяжелели, но вожак не давал им подолгу спать. Он бил, кусал даже волчиц, а волчицы злобно подгоняли младших волков. Стая снималась с лежки, неслась по степи, точно лавина.
И был случай, когда серая шайка напала на человека. Одинокий путник ехал в санях по торной дороге. Редко волк отваживается подойти к такой дороге, пересечь ее, особенно ежели по ней едет человек. А Серый Лютый не долго колебался, прижал уши к затылку и погнался за санями.
Лошадь понесла. Стая настигла ее, завернула с дороги в сугроб. Сани увязли, лошадь провалилась по грудь, и волки серой грудой оседлали ее.
Путник, обезумев от страха, скатился с саней и кинулся бежать по глубокому снегу. Серый Лютый перепрыгнул через сани и короткими легкими скачками понесся за бегущим. Две матерые волчицы тотчас пустились вслед за вожаком.
Серый Лютый, словно играя и испытывая себя, сделал широкий круг и стал на пути человека. Волчицы остановились за спиной обреченного, беззащитного и все же неприкосновенного двуногого, выжидая. Тронет ли его серый атаман? Повалит ли на четвереньки человека?
Люди спасли его. С ближнего холма донесся гул и топот. По дороге галопом, пронзительно свистя, неслись вниз, в лощину, два всадника.
Серый Лютый сморщил верхнюю губу и, оглядываясь, все быстрее и быстрее пошел прочь по снежной целине. Стая снялась с растерзанной лошади и растаяла в сумеречной, взвихренной поземкой степи.
И еще раз Серый Лютый попробовал схватиться с человеком — в открытую.
Это случилось днем. Трескучий мороз сковал степь. Белесо-голубое небо затянуло искрящееся марево, сквозь которое угрюмо смотрело багровое, кровавое око солнца. Снега звенели.
Волки, горбясь, приседая и словно дымясь на морозе, подошли вплотную к аулу. И вдруг из-за окраинной зимовки вышел двугорбый верблюд, валко зашагал прямо на стаю. Между его горбами сидел человек, один человек, и голова его была обернута белым, а это — женский убор.
Серый Лютый насторожился.
Верблюд — не конь, и всадник на нем — не чабан, не табунщик. Собаки лаяли, не высовываясь из аула. Стая застыла, предвкушая легкую добычу. Однако верблюд поднял губастую голову и побежал на стаю ровной размашистой рысцой. Волки заметались, наскакивая друг на друга, и брызнули от него в степь.
Странный верблюд! Куда он бежит? Почему не боится? И всадник странный — не кричит, не свищет, не размахивает руками.
Волки бежали без оглядки. Бежал и Серый Лютый. Верблюд остановился, шумно фыркая. Жгучий январский ветер шевелил на его боках грязно-бурые космы. Женщина сидела между его горбами не шевелясь, лишь платок на ее голове вздулся белым шаром.
Вся шерсть поднялась на Сером Лютом. Он стал как вкопанный, вытянул лобастую остроухую морду, принюхиваясь.
Ничего особенного… Двуногий его не пугал, он сам пугал двуногих, едва успев вырасти, еще в ауле. А здесь, в открытой степи, он, серый, всех страшнее.
Стая рассеялась, волки маячили далеко на холмах в сияющем морозном тумане. Серый Лютый остался. И когда верблюд опять вскинул голову и пошел к нему, он неспешно затрусил к холмам, низко держа, словно бы волоча по снегу, хвост, заманивая всадника подальше от аула, поближе к стае.
Верблюд останавливался — тотчас садился на хвост и волк. Верблюд пускался рысью — рысил впереди него и волк. Расстояние между ними медленно сокращалось. Серый Лютый терпеливо, холодно примеривался.
Наконец аул скрылся за снежным косогором, а стая — вот она!
Серый Лютый выпрямился и поступил так же, как накануне с одиноким путником: скачками, играючи, понесся вокруг верблюда, отрезая ему путь в аул. Верблюд затоптался на месте, скрипуче заревел, и Серый Лютый видел, как на рев кинулась с холма разом осмелевшая стая.
Зато он не заметил, как меж верблюжьих горбов внезапно, невесть откуда, возникла, блеснув на солнце, гладкая черная палка с круглым немигающим глазом на конце.
И вот из безоблачного зимнего неба ударил гром. Раскатистое эхо запрыгало по окрестным холмам. Незримая свинцовая оса впилась волку в ляжку и прожгла ее насквозь. Впервые в жизни Серый Лютый подал голос. Яростно взвизгнув, он куснул себя в ляжку и полетел через голову кувырком, чего с ним тоже до тех пор не случалось.
Вскочив, Серый Лютый на трех ногах ошалело покатил прочь от ревевшего верблюда. Озябшие человечьи руки не успели перезарядить ружье — волк скрылся в лощине. Длинная нитка ярко-красных капель протянулась вдоль его трехлапого следа.
Кое-как Серый Лютый доскакал до большого оврага у Черного Холма и повалился на снег. Пробитая пулей ляжка горела, точно опаленная головешкой из костра. Волк стал зализывать рану снаружи и со стороны паха, ежеминутно вздрагивая и испуганно настораживая уши.
Стая ушла, теперь ее не вернешь в эти края. И хорошо, что она далеко и что молодые волки не понюхали его свежей крови, не видели его лежащим на красном снегу, — вот когда бы они с ним сквитались.
Не слышно было и погони. Странный верблюд не пошел по следу, но Серый Лютый боялся иного. Он ждал за собой собачьего лая и топота коней.
А люди замешкались, не сразу собрали свору. Собаки не шли из аула — они чуяли приближение леденящей затяжной метели.
Мороз не ослабевал, а ветер усилился. Застонала степь. И повисли над степными просторами снежные хвосты от земли до неба.
Серый Лютый медленно поднялся. Оглядываясь, боком, на трех лапах, изредка судорожно подрыгивая четвертой, он поскакал к камышовым чащобам, на соленые озера.
Трое суток без передышки гудел стоголосый степной буран, и день не отличить было от ночи. Трое суток не высовывался Серый Лютый из занесенных снегом камышей. Закопался в сугроб, уткнулся носом в хвост, и кровь не застыла в его жилах, грела лучше, чем очаг юрту.
Отощал серый, ослаб, но рана у него в паху, рваная, косая, затянулась, запеклась.
На четвертую ночь он выбрался из-под снега и, сильно прихрамывая, пошел в степь. На ходу размялся, хромота стала менее заметна, но боль не ослабевала.
Целую неделю он голодал. Искал падаль — не нашел. Лишь к концу недели повезло: наткнулся он на отставшую от табуна кобылу со стригуном, загрыз стригуна, лег рядом и жрал его всю ночь напролет, не отрываясь. Рыгал и жрал, рыгал и жрал, подбирая под свое раздувшееся брюхо затекавшую на морозе раненую лапу.
Прошла еще неделя. Ляжка у волка поджила и ныла реже. Он стал бегать резвее и осмелел. Его потянуло к Черному Холму.
К вечеру он подошел к аулу, в котором вырос, и стал на гребне холма с вздыбленной от ушей до хвоста шерстью. Верблюда в ауле не видно. И собак не слышно — они с отарами и табунами в степи. Серый Лютый пустился рыскать по знакомым местам и тропам, поставив против ветра влажный нос.
Издалека слабо и сладко пахнуло овцами. Серый Лютый сморщил губу. На горизонте, в желтоватом свете зари, маячила высокая фигура всадника. Маленький гурт овец теснился у ног коня. Чабан вел их к загону.
Волк бросился наперерез, прячась за буграми и косогорами. Выскочил, как всегда, стремительно, неожиданно, но чабан сразу же увидел его и вдруг закричал тонким, ребяческим голоском, отчаянным, но властным.
Серый Лютый резко остановился, приседая на хвост и вспахивая лапами снег. На коне сидел мальчик, подросток, с длинной, не по руке, пастушьей дубинкой.
Мальчик!.. Волк не боялся его.
Злобно ощерясь, Серый Лютый метнулся вбок, чтобы обойти маленького пастуха, и подобрался к жалобно блеющим и наседающим друг на друга овцам. Это блеяние, толкотня горячили волка. Перед ним была легкая и жирная добыча, мягкие кости, обильная кровь. Но мальчик изо всех сил забил коня пятками в бока, поднял над головой тяжелую, непослушную дубинку и бесстрашно поскакал прямо на волка.
Серый Лютый опять невольно повернул в сторону от сбившегося в кучу гурта. Мальчик кричал не переставая. И что-то непонятное томило и пугало волка в мальчишечьем крике. Волк бежал, мальчик гнался за ним, не подпуская к овцам. Привстав на стременах, потрясая дубинкой, он вопил во все горло, захлебываясь:
— …ок…ерек!..ок…ерек!
Волк щелкнул клыками и ускорил бег.
Мальчик был ловким наездником и отчаянно понукал послушного коня, бил его дубинкой, но видел, что отстанет. Серый Лютый уходил, и мальчик, размахнувшись, швырнул ему вслед дубинку, точно копье.
Она задела больную ногу волка округленным концом и покатилась по обледеневшей земле, подскакивая и звеня. Серый Лютый свирепо схватил ее клыками и мгновенно переломил надвое. Затем повернулся и, прижав уши, сморщив губу, словно улыбаясь свирепой волчьей улыбкой, немо кинулся на мальчика. Прыгнул и рванул его за полу овчинного полушубка. Конь отпрянул в сторону с испуганным ржаньем, а мальчик вылетел из седла и ударился оземь, о наледь, облепленную пушистым снегом, спиной и затылком, так что шапка слетела с его головы и покатилась по белому откосу.
Последнее, что видел мальчик, было знакомое ему волчье ухо, надорванное у виска в драке с собаками в дни, когда серый жил еще в ауле.
Мальчик был уже мертв, когда волк вихрем пронесся над ним и с ходу распорол ему изогнутым клыком щеку.
Ночью труп мальчика подобрали, унесли в аул и положили у очага в юрте.
Старая бабушка села у него в ногах.
— Жеребеночек мой, — приговаривала бабушка, — жеребеночек мой!..
И высохшие ее подслеповатые глаза не могли источить желанную слезу.
Тогда пришел черед охотника Хасена, знаменитого в тех краях, и его рыжевато-белой борзой.
Своего пса Хасен выменял в Семипалатинске на коня. На лбу у пса белела маленькая пролысинка с четырьмя соразмерными лучиками, и оттого хозяин назвал его Белозвездный — Аккаска.
Об Аккаске ходила громкая молва, все знали его, и иные считали, что он происходит от легендарной, воспетой в песнях собаки батыра Богамбая из рода канжыгалы.
Пес был кровный, гордый и вспыльчивый. При кормежке мясо брал с рычанием. На стоянках Хасен сажал его на цепь, пес подпускал к себе одного хозяина. Безродные аульные собаки сторонились Аккаски и облаивали его издалека. Аккаска их не замечал, позевывая лениво, часами лежал на брюхе пластом, положив длинную морду на длинные лапы, и лишь на охоте загорался, легко обгонял любого коня и лаял гулко, жутко. Глаза у него светились, как у волка, но не зеленым, а красноватым огнем, точно горячие угли.
Несколько суток Хасен прожил с табунщиками, изучая повадки Серого Лютого, расспрашивая о нем. Мужчины ночевали в шалашах. И все ночи напролет у костров не утихали горячие споры об одиноком волке, убившем Курмаша. Но Хасен не услышал ничего нового, неожиданного для себя.
Говорили, что волк — бешеный. Говорили, что это вовсе и не волк, а гиена. Недаром он так немыслимо прожорлив. Хасен не верил басням.
— Это волк, — говорил он. — А волка сеном не накормишь!
Табунщики бранились, грозились:
— Эх, попадись он нам в руки!..
Хасен посмеивался:
— Что сделаете? Шкуру сдерете?
И только горькие слова отца Курмаша больно задели Хасена. На могиле сына он сказал охотнику:
— Ты малый бывалый… смелый, упорный… Правда, нелегко взять оборотня. Но если ты не прикончишь его, знай — ты не родич мне и не джигит, никому ты не нужен, и собаке твоей грош цена. Тогда не показывайся нам на глаза.
Хасен решил собрать табунщиков на облаву — иначе не справиться. Их не пришлось уговаривать…
На рассвете, перед облавой, Хасен не дал своему псу мяса; поставил перед его мордой миску с похлебкой из мелко накрошенного сухого овечьего сыра. Аккаска быстро поел и не спускал с хозяина глаз. Умный пес понимал: будет большая, важная охота, опасный гон.
— Ну, Аккаска, — сказал Хасен, трепля пса за ухо, — или ты его, или он тебя, иначе не разойдемся. Сынок Курмаш мертвый пойдет с нами третьим…
Аккаска внимательно смотрел хозяину в глаза, нетерпеливо помахивая рыжим хвостом.
Вышли в степь, и Хасен спустил пса со сворки, чтобы тот размял ноги, разогрел грудь. Аккаска громадными прыжками помчался по синеватым в утренних сумерках снегам.
Хасен разделил людей на несколько групп и разослал в разные стороны, а сам поднялся с Аккаской на каменистую вершину одинокого, открытого всем ветрам холма. Охотники разобрали аульных собак и ускакали. Хасен разостлал меж острых камней плотную кошму, уложил на нее Аккаску и лег рядом на снег, придерживая пса за ошейник.
Аккаска лежал под рукой хозяина спокойно, лишь уши непрерывно ворочались из стороны в сторону, как флюгера. Отовсюду глухо доносились крикливые голоса, ералашный собачий лай, растрепанный ветром.
Вдруг Аккаска поднялся на передних лапах, не подчиняясь руке Хасена, настороженно вглядываясь в сторону тихой лощины. Теперь пес походил на беркута, высматривающего со скалы добычу. Но долго еще в лощине было пусто и голо, а крики людей и лай собак, казалось, отдалялись. Вряд ли загонщики видели волка — серый шел в их многоверстном кольце невидимкой. Аккаска непривычно сгорбился, опустил морду. Уж не отвлекала ли его лежка зайца? Борзая любит ходить за косым.
Нет. Не ошибся Аккаска. Волк внезапно, неслышно показался там, где его ждал пес, — в тихой, пустынной, заснеженной лощине. Вот он, хитрец! Тут сугробы сыпучие, зыбкие — целина. По свежему следу конь не пройдет, увязнет по брюхо.
Волк бежал рысью, ходко, но неторопливо, осмотрительно, и Хасен с минутным сомнением прикусил губу, косясь на пса. Серый был во всей силе и издали напоминал чалого стригуна с волчьей мордой. Ни дать ни взять оборотень!
Волк шел с надветренной стороны и не чуял охотника и борзую. Но Хасен не надеялся, что зверь подойдет на прицельный выстрел, и спустил пса, сказав: «Давай… Держи!» — а сам побежал к коню, привязанному за скалой.
Серый Лютый сразу, с первого же взгляда оцепил стать и силу рыже-белой борзой. От нее не убежать. Собака летела на него с холма с гулким, бухающим ревом, она была поджара и вдвое рослее черно-пегого кобеля. Позади нее, меж камней, точно меж верблюжьих горбов, мелькнул с черной гладкой палкой человек. Кругом облава. Скорей!
Пес и волк столкнулись на снежном откосе, и пес с разгону сшиб волка с ног, но и сам покатился, не устояв. Оба вскочили, сцепились клыками и разошлись с окровавленными пастями, хрипло дыша. Нашла коса на камень…
Несколько раз Серый Лютый кидался на пса и встречал тяжкий, меткий удар клыками. Все же волк извернулся, сумел стать выше пса по косогору и ухватил его пониже уха, как в начале зимы вожака стаи, но Аккаска не согнулся, сильно тряхнул волка и вырвался, оставив в его зубах шматок своей рыжей шерсти и кожи. Серый Лютый понял, что эта схватка скоро не кончится. А с холма уже несся галопом всадник, азартно крича:
— Держи, держи, милый! А-аккаска-а!
Серый Лютый коротко взвизгнул и пошел напролом.
Пес и волк опять сшиблись клыками так, что искры засверкали бы, если бы было темно. И тут Аккаска, не оберегаясь, а помня только то, что кричал человек, сунул нос прямо в волчью пасть и намертво схватил зверя за нижнюю челюсть.
Теперь их было не расцепить: пес грыз волчью челюсть, а тот — его, и ни одни не мог повалить другого.
Подскакал Хасен. Лошадь плясала под ним, встав на дыбы. И руки у Хасена плясали. Он бросил ружье, выпрыгнул из седла и тоже, не думая о себе, повалился всем телом на каменно-твердую спину волка. Сунул ему под лопатку широкий нож.
Аккаска высвободил из судорожно ощеренной волчьей пасти изодранную морду и отошел. Постоял-постоял и упал на грудь. Против него лежал на боку Серый Лютый.
Стали подъезжать охотники, и один из них ткнул кнутовищем в зубы волку, размыкая его черно-красную пасть, и все поразились тому, как она велика.
— Дьявол!.. — сказал один, отходя.
— Коксерек! — сказал Хасен, бережно осматривая раны Аккаски.
Волчью тушу привезли в аул, бросили у юрты Курмаша, и здесь старая бабушка опознала Серого Лютого, как и Курмаш, по надорванному уху.
— Коксерек! — вскрикнула старая бабушка, заламывая руки. — Трижды проклятый… Где же твоя совесть? Кровопиец!
И слабой ногой она пнула волка в оскаленную пасть.
1929

Мухтар Ауэзов. «Серый Лютый».
Художник А. Лурье.
И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ
ДОРОГИ[50]
К. А. Федину
Выезжаем из города на рассвете. Внизу, над рекою, стелется молочно-белый туман. Из серебристого моря тумана, точно видение, поднимаются стены городского собора, темнеют крыши домов. Далеко-далеко за рекою, из тумана, как в стародавние времена, слышится рожок пастуха.
Что-то древнее, призрачное во всем этом! Мы проезжаем мост, пустую базарную площадь, сворачиваем на большой тракт. Солнце встает над лугами. В клочьях поднявшегося тумана дымится лента реки; в заросших осокой, невыкошенных низинах без устали дерут коростели. Седые от утренней росы, у самой дороги лежат высокие, густые валы свежего сена. Там и там, в просторах заливных лугов, молнией вспыхнет в луче восходящего солнца и вдруг погаснет стальное лезвие косы. С лугов тянет туманом, медовым запахом трав. Под крутым берегом реки, отразившись в зеркале воды, пролетел лазурный зимородок — наша райская птица.
Тишина, утро, простор. Мы выезжаем на большак — широкую, бойкую дорогу, обсаженную старыми развесистыми березами, покрытыми потрескавшейся корою. Мало осталось этих древних берез — они дряхлы, дуплисты и, кажется, спят непробудным сном, до самой земли опустив свои плакучие ветви.
Еще стоят кое-где вдоль дороги похинувшиеся деревянные крестики, заросшие высокой муравою. По народному обычаю, отмечали на Смоленщине такими придорожными крестиками памятные места, где нежданная смерть застигала прохожего или проезжего человека. Сколько страшных рассказов слышал я в детстве об убиенных и умерших в пути, опившихся, сраженных грозою, утопших! Тревожное чувство вызывали эти немые памятники печальных событий. Помню, как набожно крестилась мать, как торопили мы, бывало, лошадей, минуя место, овеянное памятью давней трагической кончины…
Вот на перекрестке дорог высится знакомый тесаный камень. По рассказам стариков, некогда здесь стоял веселый кабак; гремя бубенцами, сюда подкатывали ямщицкие и помещичьи тройки, у изгрызенной коновязи, прикрытые армяками, дремали лохматые лошаденки возвращавшихся из города загулявших мужичков. По старинному обычаю, вместо писаной вывески над крышею кабака висела «ведьмина метла» — густая еловая ветка, служившая призывным маяком для проезжих и прохожих гуляк.
Дорога бежит, извивается, пропадает в кудрявых березовых рощах, исчезает в заросших ольшаником глубоких оврагах и рвах, темнеет весенними промоинами, краснеет размытой глиной. Вокруг — холмы, поля, колышется и дымит рожь, нежно зеленеют овсы, туманятся луга. Солнце светит весело и ярко; пухлые, белые, чуть золотистые облака плывут по синему летнему небу, а по холмам за рекою, по сизым хлебам, скользят их лиловые тени… Чернеют соломенными старыми крышами деревни, синевеют за рекою нетронутые леса; зеленым островком кажется деревенское старое кладбище с высокими соснами, с покосившимися крестиками на могилах, с островерхой крышей кладбищенской часовни — каплицы. От кладбища не спеша идет человек в подпоясанной ремешком рубахе; босые, серые от пыли ноги мягко ступают по гладкой, горячей от солнца дороге, стариковские зоркие глаза глядят на нас с любопытством…
Мы едем не торопясь, иногда идем пешком на подъемах. Ямщик идет рядом с дугою, бодро пощелкивая кнутовищем по пыльным солдатским сапогам. Бронзово-черный затылок его оброс курчавыми волосами; на выцветшем сукне старой солдатской гимнастерки налипли слепни. Слепни жадно вьются над потной спиной лошади, липнут на холку, на грудь. Скаля зубы, ямщик давит их рукою, вытирая о колени испачканную кровью грязную мозолистую ладонь.
День занимается ясный, паркий, высоко стоит солнце. По макушкам берез нет-нет прошумит и затихнет полуденный теплый ветерок. Он колышет ветви берез, наносит с полей запах трав и хлебов. В рощах пахнет сыростью, грибами, кое-где под деревьями еще лежит роса. Повиснув в знойном воздухе, плещется над межою крыльями длиннохвостая пустельга…
Я смотрю на поля, на деревья, на недвижно повисшую в воздухе освещенную солнцем пустельгу. Сколько картин, событий, забытых судеб, историй воскрешают эти знакомые с детства места, дороги! Вот здесь, над рекою, стоял против церкви большой, с пустыми зарадужелыми окнами, нежилой дом дворян Пенских, и мне опоминаются слышанные некогда рассказы о грозной барыне Пенчихе, беспощадно поровшей дворовых девок и баб, о полусумасшедшем карлике-барине, ходившем молиться в поле под старый дуб (развесистый дуб этот показывали мне в детстве). Далеким, почти сказочным показывается и недавнее прошлое: волостное правление на краю села, казенка, окруженная шумливыми хмельными мужиками, чернобородый старшина Фетисыч с заплывшими аленькими глазками, чахоточный длинношеий писарь… Далеким прошлым кажутся эти отжитые времена.
Стерт с лица земли, по бревнышкам разнесен дом дворян Пенских; сожжено, головешки не сыщешь, «волостное правление»; с землею сровняли мужики двор кузнечихи Марьи, в смутные годы укрывавшей у себя разбойников-бандитов… Осталась от прежнего высокая белая колокольня, да по-прежнему вьется-бежит среди зеленых лугов знакомая наезженная дорога.
Кормить останавливаемся в старинном Болдинском монастыре.
Проезжаем подмонастырную, богатую некогда деревню с высокими тесовыми крышами, резными нарядными крылечками, с затейливыми скворечнями на деревьях. Монастырь обнесен кирпичной оградой с бойницами, через которые — сказывают люди — некогда лазили по ночам гулять к солдаткам-бабам молодые монахи. Тяжелы, несокрушимы монастырские кованые ворота с тяжелым железным запором. Прославился монастырь веселыми вхождениями монахов, которых духовные власти ссылали на покаяние в эту глухую обитель. Теперь в монастыре — музей и хозяйственный склад, а на опустевшем монастырском дворе пробирается между камнями веселая зеленая мурава. Темная фигура единственного уцелевшего монаха-скопца, отрекшегося от своего сана и оставшегося жить при музее, испуганной птицей метнулась за углом каменного дома…
В опустелом монастыре задерживаемся недолго. Солнце уже высоко, поднимается над дорогою легкая пыль. Дороги здесь вьются вдоль реки перелесками, полями — уводят в синюю зыблющуюся даль.
Большая темная туча растет за рекою. Мы наблюдаем, как надвигается с запада страшная туча, как клубятся, сивой грядою бегут впереди нее грозные клокастые облака. Застывший воздух тяжел и недвижен. Как бы стараясь подчеркнуть наступившую предгрозовую тишину, наперебой изо всех сил стрекочут кузнечики; еще настойчивее липнут к усталой лошади злые слепни. Отсвет пробившегося сквозь облака солнца янтарными бликами ложится на лица. Внезапно налетевший вихрь вдруг поднимает с дороги, несет в глаза пыль, отчаянно треплет, заворачивает на деревьях листву, играет гривою лошади с завязшими в ней репьями. Все громче, все грознее приближаются громовые раскаты. Смутное чувство забытого детского страха возникает в душе.
Первые капли дождя, смешиваясь с пылью, грузно падают на дорогу, на пыльные крылья тележки. Подгоняя лошадь, мы едем, пока позволяет дождь, потом, торопливо привязав к изгороди лошадь, скрываемся в лес под деревья. Макушки деревьев грозно качаются над нами, уныло скрипят. Беспрерывно одна за другою полыхают молнии, громыхает гром, с треском обрушиваются близкие удары, после которых еще сильнее вдруг припускает дождь.
Пережидая грозу, мы сидим долго в лесу под деревьями, потом, мокрые почти до костей, по прибитой дождем траве выходим на залитую водой дорогу. Потемневшая от дождя лошадь радостным ржаньем приветствует нас. Далеко-далеко за полями поднимаются сизые клубы дыма. Это горит деревенский сарай, зажженный прокатившейся грозою. Грозная темная туча медленно уходит. Все реже и реже полощут молнии, дальше и дальше громыхает гром. Впереди над дорогой, над умытой березовой рощей уже открылось высокое чистое небо, и — как бы ничего не было — по ясной его голубизне тихо плывут и плывут высокие легкие облака. Радостно зеленеет и пахнет роща, празднично, точно невесты, белеют стволы умытых берез. Поток мутной дождевой воды стремительно несется по дороге, обмывая вертящиеся ступицы колес.
Из молодой березовой рощи навстречу нам выбегает веселый табун молодых лошадей. Сытые жеребята резвятся, носятся по лугу, трубою раскинув хвосты, копытами разбивая зеркальные лужки. Солнце играет на их лоснящихся мокрых спинах, отражается в белых стволах берез. Через полуразрушенные каменные ворота мы въезжаем в старинный помещичий парк, едем под деревьями, роняющими на дорогу редкие капли, останавливаемся у подъезда огромного старинного, с колоннами, дома-дворца и, привязав лошадь, идем по широкой лестнице вверх.
В этом огромном, похожем на дворец доме жили когда-то богатейшие люди нашего края — знаменитые дворяне Барышниковы, владевшие состоянием почти несметным. Теперь тут государственное коннозаводство, обосновался усадебный музей, живут и работают иные, новые люди.
В верхних, отведенных под музей комнатах — мертвая тишина. На пыльных высоких стенах висят темные, тускло отсвечивающие портреты. Высокие окна пыльны и мутны, за давным-давно не выставлявшимися рамами скопились слои осенних мертвых мух. Воздух в комнатах тяжкий, могильный. Мы проходим пустынные комнаты, уставленные мебелью, столами и креслами, высокими секретерами. На круглых столах лежат альбомы, выцветшие фотографии. В просторных стенных шкафах коричневеют корешки кожаных переплетов, хранятся стопки писем, перевязанные выцветшими атласными ленточками. Я беру, читаю одно письмо, написанное замысловатым старинным почерком на серой плотной бумаге. Какой далекий, чуждый, навеки похороненный мир!..
Здесь, в этих комнатах, жили, воспитывались, родились и умирали поколения людей, державших в руках своих судьбы многих человеческих жизней. Я вспоминаю предание об откупщике, основателе знатного рода Барышниковых, сыне простого посадского, по сохранившейся в народе легенде, присвоившего себе золото, полученное фельдмаршалом Апраксиным в подкуп от прусского короля (золото это, как говорит предание, было доставлено в бочках под видом сельдей); вспоминаю романтическую историю одного из Барышниковых, замечательного, но безвестного художника, рожденного от дочери крепостного позолотчика, простой крестьянки, впоследствии усыновленного своим знатным отцом и воспитывавшегося в Мюнхене, не раз привозившего гостить в смоленские дебри своих друзей, знаменитых немецких художников, картины которых, изображающие жизнь русской деревни, поныне висят в европейских художественных галереях… Живы рассказы о последнем крепостном помещике из рода Барышниковых — толстяке, насмешнике и дебошире, не знавшем удержу в своих безобразных выходках. Это о нем рассказывали старики, как, встретивши раз на большаке мужичка-дегтяря, он велел тому крепостному мужичку под страхом жестокого наказания окунуться трижды в дегтярной бочке; как однажды, проезжая в город на дворянские выборы, завидев по дороге купавшегося в пруду своего соседа, бедного помещика, приказал кучеру остановиться и, подозвав из воды голого соседа, стыдливо прикрывавшего руками наготу, силою усадил в коляску, да так и примчал в Адамовом подобии в город, на многолюдное собрание дворян. О нем же рассказывали, что перед самою смертью, вскочив с одра, гонялся он с заряженным пистолетом за привезенным из Москвы знаменитым лекарем-немцем, крича во все горло: «Сперва ты умрешь, немецкий колпак, а я еще поживу, посеку моих мужичков!..» Много таких рассказов ходило о проделках барина-самодура… В старинных письмах, сохранившихся в потайных ящиках секретеров, повествуется о необыкновенной любви к художнику Барышникову молодой его соседки Бегичевой, на всю жизнь оставшейся верной единственной своей страсти. Перед ее портретом, писанным самим художником, с особенным вниманием останавливается хранитель музея, страстный любитель старины. Приветливо глядит из золоченой овальной рамы прекрасное лицо девушки с чуть раскосыми, приподнятыми татарскими бровями, в белой атласной душегрейке, накинутой на еще детские плечи, с открытой тонкой шеей, с белым цветком лесного шиповника за маленьким нежным ухом. Все это кажется теперь недосягаемо далеким; от старых любовных писем пахнет пылью и прелью, но в городе многие знают, что совсем недавно, уже в глубокой старости, умерла изображенная на портрете красавица, навеки сохранившая верность своей первой и последней любви; что доживает свой век в соседнем городишке, питаясь подаянием, распродавая остатки имущества, последняя из богатейшего рода Барышниковых, одинокая старая дева… А еще долго будет стоять огромный каменный дворец, построенный крепостным архитектором Семеном, — с колоннадами, с английским парком, с большими прудами, на которых недавно умер последний лебедь, со старыми березами на берегу пруда, на которых гнездятся цапли… Многое могли бы еще рассказать старые письма и письмена, но не охотник я долго копаться в старинных бумагах, могильным склепом кажутся мне музейные комнаты с зарадужелыми окнами, с тускло отсвечивающими портретами на стенах, с толстым слоем мертвых мух за невыставлявшимися оконными рамами. Приятнее выйти на свет, на летнее солнце, на легкий ветер, несущий запах трав и цветов, вздохнуть полной грудью, услышать свист иволги, увидеть живого, веселого, смеющегося человека, ехать-трястись пыльным проселком среди полей и лесов…
Мы проходим все комнаты, поднимаемся в детскую половину, откуда открывается вид на пруд, на заглохший цветник, где на запущенных клумбах пасется привязанный на веревке теленок. Но все еще прекрасен и густ старый парк, чудесен пруд с островами, развалившимися беседками, берегами, непролазной чащобой. Какие-то задичавшие, выродившиеся цветы сиротливо тянутся по кирпичной обсыпавшейся ограде…
Выходим на волю, в парк. Седой высокий старик встречается нам в аллее. Он останавливается, заговаривает с нами; еще зорко смотрят его выцветшие, глубоко запавшие глаза, высохшие темные пальцы старческих рук цепко держат обтертый костыль. Он знает все, пережил три поколения вымерших господ, хорошо помнит крепостное. Мы глядим на него, как на живое чудо — на его руки, на седую сквозную бороду, на выцветшие глаза, видевшие далеких, неведомых нам людей…
Вечером один брожу по парку, слушаю соловьев, лягушек, как гомозятся над прудом цапли. Возвращаюсь поздно, прохожу коридором, глухо и пустынно отражающим шаги. Ночуем в охотничьем кабинете, увешанном медвежьими шкурами, черепами и рогами оленей, лосей. И всю ночь не спим, курим, тревожно прислушиваемся к ночным таинственным звукам, к писку и шелесту мышей за шкафами…
Какой долгой кажется эта бессонная тяжелая ночь. И когда занимается в окнах заря, догадавшись о причине бессонницы и ночных смутных страхов, я с яростью отдираю давно не открывавшуюся высокую присохшую раму. С рамы летит на пол замазка. Воздух, пахнущий туманом, свежестью утра, листвою росистого парка, врывается в комнату. Я дышу, надышаться не могу этим свежим, оживляющим, идущим с лугов утренним воздухом!..
Выезжаем, когда над землею опять высоко и ярко поднимается солнце. Проезжаем пруд, полуразвалившийся мост, каменные службы, выкрашенные облупившейся палевой краской, выезжаем в луга. Там уже дует, слегка шевеля травы, нанося запахи цветов, прямо в лицо полуденный легкий ветер. И опять вьется, уводя вдаль, пыльная, нагретая солнцем дорога.
1929–1954
ЮРИЙ ЯНОВСКИЙ
ПИСЬМО В ВЕЧНОСТЬ[51]
В то время готовилось большевистское восстание против гетмана и немцев, кто-то донес, что оно вспыхнет и покатится по Пслу, центр его будет в Сорочинцах, и запылает весь округ до Гадяча. Беспределье кануна троицы пламенело и голубело над селом, из лесу везли на телегах кленовник, орешник, дубовые ветки, ракитник, зеленый аир, украшали хаты к троице, во дворах пахло вянущей травой, красивое село стало пленительным, оно убралось зеленью, разукрасилось ветками, хаты стояли белые, строгие, дворы с покосившимися плетнями, чистые и уютные, а небесная синь лилась и лилась.
В долине под деревьями нежился прекрасноводный Псел, отряд германского кайзера, блуждая по долине, обшаривал каждый куст, а отряд гетманцев рыскал по пескам. Герр капитан Вюртембергского полка руководил поисками, вокруг него носился вприпрыжку его доберман, облаивая каждое дерево, пан сотник гетманского войска разлегся на жупане под вербой, отдыхая после первых часов ожесточенной деятельности. Перед ним на Псле трое ребят выуживали мореный дуб со дна реки, ребята искали его, погрузившись с головой в воду, а потом всплывали на поверхность.
На берегу Псла было томительно и клонило ко сну, солдаты и того и другого отряда последовательно обыскивали каждый уголок, возле сотника остановилась телега с двумя человечками. «Пан атаман, — сказали человечки, — вы люди не тутошние, и вам его сроду не сыскать. Вот эти хлопцы ищут мореный дуб, а мореный дуб ищут под осень, а не в канун троицы. Ведь эти хлопцы наблюдают за вами, кого вы тут разыскиваете, вот какой они мореный дуб ищут, пан атаман, а мы народ здешний, за его светлость ясновельможного пана гетмана стоим и желаем вам пособить. Мы лучше знаем, где найти этого висельника-письмоносца, пан атаман, пусть только это останется в тайне, иначе не станет нам житья от сельских голодранцев, сожгут нас на другую же ночь».
Оба человечка поведали пану сотнику, что в поймах есть озера-заводи, заросшие рогозом да камышом, озера эти они могут по пальцам перечесть. Там они рыбу бреднем ловили, от революции в свое время прятались, письмоносец обязательно в озерах притаился, поджидая ночи, чтобы удрать степью в Сорочинцы. «В озере лежишь под водой, во рту камышину держишь и дышишь через камышину, покуда не пройдет мимо облава, постреляет в воду да в озеро ручную гранату швырнет, чтобы ты всплыл на манер глушеной рыбы. В ушах у тебя полопается, да, пожалуй, и не всегда всплывешь. Иной просто помрет на дне, а иной, может, и спасется, ежели взрыв далеко, а все-таки это самый надежный способ искать беглецов по нашим здешним заводям», — сказали человечки пану сотнику.
Поиски тотчас же наладили, как полагается, озерки принялись внимательно осматривать и кидать в них ручные гранаты, а ребята тут же бросили искать мореный дуб в Псле и отправились разведывать хаты двух человечков, чтобы их подпалить. Человечки угодили домой как раз в ту минуту, когда их усадьбы уже украсились алой листвой и догорали в короткое время. Человечки опалили себе головы и пытались тут же покончить с собой в пламени своего хозяйства, немцы с гетманцами методически бросали в озерки-заводи гранаты и стреляли по всем подозрительным зарослям камыша, письмоносца так и не оказалось, но вот на лужайке наткнулись на ямину с водой.
Она была мелкая, вокруг рос молодой камыш, капитанский доберман забрел в воду, и капитан не велел бросать гранаты, в озерке никого не оказалось, и все двинулись дальше. Вдруг доберман стал бешено лаять на какое-то бревно, лежавшее среди кувшинок и ряски неподалеку от берега.
Герр капитан послал осмотреть бревно, и это оказался лежащий без сознания письмоносец, босые ноги, лицо, руки — черным-черны от бесчисленных пиявок, и, когда письмоносца раздели, на нем не было живого места — пиявки кучами присосались к телу.
Герр капитан созвал солдат, они расстегнули сумки и ссыпали всю соль, которая у них нашлась. От рассола пиявки стали отлипать, письмоносца заставили глотнуть капитанского рома, человек постепенно очухался, и в его единственном глазу загорелись жизнь и колючая ненависть. «Все-таки нашли», — произнес он равнодушным голосом.
Письмоносцу дали обед с капитанского стола, стакан доброго рома, пол был усыпан душистой зеленой травой, по углам ветки, стены убраны цветами, в комнате царила тишина, покуда письмоносец не кончил есть. Он чувствовал, как по жилам разливаются силы, его клонило ко сну, и привиделись ему чудесные сны: он разносит множество писем и никак не может всех раздать. А тем временем день клонится к вечеру, приближается условленное время, исполняется желанное, и снова он носит и носит множество писем, не может их раздать, время идет, а писем все столько же, и никакая сила не коснется письмоносца, покуда не отдаст он последнего письма.
Капитан разогнал сновидения, заговорив вкрадчиво и дружелюбно (он говорил о чарующем лете и о безмятежных звездах единственной в мире родины, о его, письмоносца, жизни в этой пленительной глуши, на берегу очаровательной реки Псел, капитан стал даже красноречивым, чтобы до дна растрогать человечью душу, а переводчик переводил), письмоносец же сидел безучастный и усилием воли изгонял понемногу из памяти те сведения, которых добивался от него капитан.
Он забыл, что является членом подпольного комитета большевиков, что был на совещании, на котором назначили восстание на сегодняшнюю ночь. Он забыл место, куда закопал винтовки и пулемет, и это труднее всего было забыть и отодвинуть в такой укромный уголок памяти, чтобы никакая физическая боль не забралась туда. Эта мысль об оружии покоилась бы там, как воспоминание далекого детства, и озарила бы и согрела его одинокую смерть и предсмертную последнюю боль.
А капитан все говорил письмоносцу, который силился забыть уже свое имя, а себе оставлял одно только твердое первоначальное решение — дожить до ночи и передать оружие восставшим. Капитан описывал далекие роскошные края, куда сможет уехать письмоносец, чтобы жить там и путешествовать на деньги гетманского правительства, — только пусть скажет, где закопал оружие, на какое число назначено восстание и адреса его вожаков.
Письмоносец сидел у стола, и вдруг вспыхнуло в нем непреодолимое желание умереть сейчас же и ни о чем не думать, так и подмывало всадить себе нож в сердце, хотелось лежать в гробу под землей с чувством выполненного долга. Речь капитана становилась все жестче, подошел гетманский сотник и, свирепо заглянув в единственный глаз письмоносца, увидел в нем темную бездну ненависти и мужества. Казалось, электрический ток пронзил сотника — кулак его изо всей силы опустился на лицо письмоносца.
Капитан вышел в другую комнату обедать, а сотник остался с письмоносцем, и когда капитан вернулся, письмоносец лежал на полу, забив себе рот травой, чтобы не стонать и не молить о пощаде, а сотник осатаневшими глазами смотрел в окно. «У нас по-культурному», — усмехнулся капитану письмоносец.
Он не имел права умирать, он должен был пронести свое окровавленное тело сквозь поток времен до самой ночи, принять все муки, кроме смертной, — тяжко было бороться в одиночестве и жить во что бы то ни стало. Будь с ним товарищи, он посмеялся бы над пытками, плевал бы палачам в лицо, приближая славную кончину непреклонного бойца, а теперь он обязан вести свою жизнь, точно стеклянную ладью среди черных волн, дело революции зависело и от его крошечной жизни. Он подумал, что так сильна его ненависть к контре, что ради этой ненависти не жалко даже и жизни, и закипела в его жилах кровь угнетенного класса, о, это великая честь стать над своей жизнью!
И письмоносец повел показывать закопанное оружие. Он брел по притихшему селу, чувствовал на себе солнечное тепло, ступал босыми ногами по мягкой земле, и чудилось ему, будто он бредет один по какой-то волшебной степи, бредет, точно тень собственной жизни, но мужество и упорство в нем крепнут. Он видит людей и знает, кто из них ему сочувствует, а кто ненавидит, он шествует как бы по трещине между этими двумя мирами, и миры не соединятся после его смертного шествия.
Вот он добрел до кучи песка за селом и остановился, солнце давно уже поворотило за полдень, земля дрожала от тишины и зноя, немцы принялись раскапывать песок и потеряли около часа. Письмоносец стоял, оглядывая далекие горизонты, Псел и заречье; крикнул несколько раз удод, пахло рожью.
Письмоносца повалили на песок, на плечи и на ноги насели немцы, остервеневшие оттого, что их провели, после двадцатого шомпола письмоносец лишился сознания; придя в себя, он увидел, что солнце уже висит низко над горизонтом, сотник расстегивает кобуру, а немцы для вида отвернулись. Тогда письмоносец закричал и признался, что оружие закопано в другом месте, он покажет, где именно, «расстрелять всегда успеете, из ваших рук мне все равно не уйти».
И снова они шли по притихшим улицам села, было выше человеческих сил смотреть на письмоносца, который не хотел отдавать свою жизнь, как письмо, в руки врагу, мужчины глядели украдкой сквозь праздничный лиственный узор, перекидывались по закоулкам странными словами, ждали вечера и подмоги. Письмоносца таскали по селу, как бедняцкое горе, по дороге его избивали, увечили сапогами, подвешивали в риге к перекладине, подпекали свечой, заставляли говорить, а он водил, — слезы прожигали песок, — и указывал всевозможные места, и там ничего не находили. Еще свирепей терзали его тело, горе вставало над селом, перерастая в неистовство и ярость, сердца загорались местью, на село опускалась ночь, на заречье за Псел погнали в ночное стадо, призывный колокол звонил ко всенощной.
Письмоносец не мог уже ни идти, ни двигаться, ему казалось, что он пылающий факел, что сердце рвется из груди, кровь журчит и по капле струится из ран, боль вытянулась в одну высокую ноту. Это был вопль всех нервов, всех клеток, глухо гудели поврежденные суставы, только упорная воля боролась насмерть, как боец, не отступая ни на шаг, собирая резервы, сберегая энергию.
Письмоносцу поверили в последний раз и повезли через Псел в пески, его окружал отряд вюртембержцев, ехали верхами гетманцы, прихрамывала, сгорбившись, Василиха, ее привели вечером уговаривать заклятого сына, капитан сказал свое последнее слово, что расстреляет и сына и мать. Письмоносец поговорил с матерью, мать поцеловала его в лоб, как покойника, и пригорюнилась, вытирая сухие глаза. «Делай, как знаешь, — промолвила она, — что мне сказали, то я тебе и передала». Мать тащилась за письмоносцем на заречье, в пески, сын даже шутил, зная, что скоро всему конец, ночь была звездная и темная, кругом безлюдье и глушь.
Добрались до песков, стали копать, немцы залегли кольцом, письмоносец отдыхал на телеге и вслушивался в темноту, раздался где-то одинокий крик, под лопатами звякнул металл. «Стойте, — сказал письмоносец, — разве не видите посланцев, что идут по мою душу?» И вдали во мраке родилось бесконечное множество огней. Они напоминали пламя свечей, казалось, волны гораздо больше человеческого роста несли на себе сотни звезд. Огни колыхались, ритмично поднимались и опускались, двигаясь с трех сторон, и не было слышно ни шума, ни голосов. Немцы стали стрелять, огни, приближаясь, плыли высоко над землей.
«Вот кто получит оружие, — крикнул письмоносец, — теперь застрелите, чтоб не мучился, подымутся села и выйдут комбеды, прощай, свет, в эту темную ночь!» И сотник подошел к письмоносцу и выстрелил в лежачего, и это письмо пошло в вечность от рядового бойца революции. В селах над Пслом забили во все колокола, и было их слышно на много верст, в селах над Пслом зажгли огромные костры, и было их видно на много верст, из темноты кинулись на немцев повстанцы, пробиваясь к оружию, над ними плыли звезды, в недвижимом воздухе ярились звуки, далекие пожары, штурм и отвага, восстание!
К одинокой телеге с мертвым письмоносцем подошел Чубенко. Здесь же рядом мирные воловьи морды жевали жвачку. Зажженные свечи, привязанные к рогам, горели ясным пламенем среди великого покоя ночного воздуха. Возле письмоносца, сгорбившись, сидела Василиха, не сводя глаз с покойника. Чубенко снял шапку и поцеловал Василихину руку.
Письмо в вечность ушло вместе с жизнью, точно свет давно угасшей одинокой звезды.
1932–1935
ЛЕОНИД ПЕРВОМАЙСКИЙ
ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА[52]
Это было в те незабываемые дни, когда впервые в нашей организации раздался призыв «От обреза — к Марксу», когда на стенах появился гениальный лозунг: «Учи, учась, — уча, учись».
— Ты — интеллигентный парень, — сказал мне Алеша, — твой отец переплетчик. Дома у вас всегда было много книг, а память у тебя хорошая. Ты будешь читать лекции о первобытной культуре…
Уже год, как я не жил дома, а встречаясь на улице с отцом, сворачивал в ближайшие ворота. Не то чтобы я его боялся. Просто мне не хотелось с ним встречаться. Из-за того, что он был переплетчик и пользовался наемным трудом, меня в комсомоле называли «интеллигентным парнем» и всегда давали такие нагрузки, от которых кружилась голова и темнело в глазах.
Что касается моей памяти, то какой бы феноменальной она ни была, но помнить хоть одну строчку из книг, мною не прочитанных, я при всем желании не мог. Я всегда интересовался Фенимором Купером, комплектами журналов «Вокруг света» и «Всемирной панорамы» гораздо больше, чем первобытной культурой, и это был первый случай, когда мне пришлось столкнуться с этим вопросом.
В голову приходили еретические мысли, я колебался и не мог решить, что полезнее моим товарищам с четвертой госмельницы и механических мастерских — проблемы первобытной культуры или четыре правила арифметики. Я даже решил обратиться за разрешением этого вопроса к Алеше, но вовремя спохватился: все это напрасно. Так или иначе мне не отвертеться от первобытной культуры, никакой таблицей умножения тут не спасешься. Поэтому я отошел от дверей Алешиного кабинета.
Библиотека укома состояла из реквизированных помещичьих книг. Реквизированные шкафы жались к стенам. Сквозь пыльные стекла тускло поблескивали золоченые корешки. Книги не помещались в шкафах, лежали на окнах, на полу, по всем углам большой комнаты.
Здесь никогда не проветривалось, комната пропахла пылью, книгами, мышами и человеческими знаниями.
Черноволосая девушка пыталась привести в порядок все это богатство, но усилия ее были напрасны. Она начинала записывать книги в каталог, вытирала серой ситцевой тряпкой пыль с перелетов, раскрывала книгу, и тут оказывалось, что это очень интересный роман. Она прочитывала первые строчки и не могла оторваться, пока не заканчивала всю книгу. А так как читала она медленно, вживалась в каждую романтическую ситуацию, углубилась в душу героев, сочувствуя обиженным и ненавидя злодеев, — чтение одной книги отнимало у нее немало времени. Одним словом, с уверенностью можно сказать, что, пока она собиралась занести в каталог следующую книгу, на первой успевал вырасти толстый слой пыли.
— Нет ли у тебя чего-нибудь по первобытной культуре? — обратился я к черноволосой девушке.
Она удивленно вскинула на меня свои длинные ресницы и начала перелистывать каталог. Мне не повезло с первых шагов. Она записывала названия книг в каталог самодельными бузиновыми чернилами, и то, что она писала, кстати, довольно-таки неразборчиво, давно уже успело выцвести и стереться.
— Ничего нельзя разобрать, — прошептала она, ужасаясь.
Я наклонился над каталогом, чтобы помочь ей. Черная прядь шелковистых волос защекотала мне щеку. Я тоже ничего не мог разобрать в каталоге.
— Придется искать в шкафах, — быстро отстранился я и вздохнул.
— Я помогу тебе, — согласилась девушка.
И мы впервые распахнули окна библиотеки. Цвела весна, ветерок залетал в комнату и шелестел бумагой на столе.
Сколько мудрости было в этом весеннем порыве ветра, залетевшего в непроветренную библиотеку, где черноволосая девушка никак не могла справиться с помещичьими сокровищами. Как благодарны были мы ему! Мы задыхались от полноты своей молодости, лозунг «От обреза — к Марксу» опьянял нас, и мы, вооружившись тряпками, стали перетирать переплетенные в кожу книги.
Но наша работа подвигалась вперед очень вяло. Можно смело сказать, что она не сдвинулась с мертвой точки, потому что всякий раз, когда мы тянулись к какой-нибудь книге, смуглая рука с пятнышками самодельных чернил на кончиках пальцев оказывалась в моей руке. Конечно, это продолжалось одно мгновение, затем мы снова смирно сидели на полу, говорили о текущих задачах организации, и я грустно хвастался своей новой нагрузкой по первобытной культуре. Потом мы тяжело вздыхали и снова хотели приниматься за работу, но на этот раз черный локон крутился возле моих губ. Тогда мы молча решили, что будем работать порознь. Минут десять работа кипела, но снова получилось как-то так, что мы стояли у одного шкафа и смущенно улыбались, когда наши руки непонятным образом соединялись на переплете сочинений императрицы Екатерины Второй…
Императрица Екатерина Вторая ничего не писала о первобытной культуре. Она развлекалась со своими многочисленными фаворитами, играла в просвещенный абсолютизм. Нужно было продолжать наши поиски.
На следующий день девушка сказала:
— Буржуазия не интересовалась первобытной культурой. Она эксплуатировала трудящихся и жила, как паразит. Мы ничего здесь не найдем.
Я пробовал возразить, доказывая ей, что буржуазная культура развилась из крови и пота эксплуатируемых трудящихся, но она сделала из этого катастрофический вывод, что в таком случае буржуазная культура является культурой пролетарской.
В тот же день меня встретил Алеша и напомнил, что до первой моей лекции остается три дня и что я должен показать ему тезисы. Эта новость так ошеломила меня, что я не спал всю ночь, а утром помчался в библиотеку. Черноволосая девушка уже ждала меня. Я рассказал ей о тезисах, и оба мы загрустили.
Но мы упорно продолжали искать книгу по первобытной культуре. Все, что хотя бы отдаленно напоминало нам об этой действительно унылой и мало привлекательной эпохе в истории человечества, мы откладывали на окно, но ни одна из этих книг, как потом оказалось, мне не подходила. Часть их была на немецком или французском языках, и единственное, что мы могли объединенными усилиями в этих книгах разобрать, — это слово «культура» в названии.
Иные книги нас не удовлетворяли потому, что авторы посвящали свой труд генералам, великим князьям, а то и коронованным особам.
— Подхалимы! — И мы решили не пользоваться их трудами вообще.
И как раз тогда, когда мы потеряли последнюю надежду найти что-либо подходящее, мы наткнулись в темном углу последнего шкафа на девять томов иллюстрированной «Истории человечества» и ахнули от нежданной радости.
Целый день мы рассматривали картинки, которых было немало в девяти огромных томах. Нас уже не удовлетворял воздух, щедро лившийся в настежь распахнутые окна библиотеки. Нам недавно исполнилось по пятнадцати лет, и хотя книги были с картинками, возиться с ними куда приятнее было на вольной воле, чем в этой скучной библиотеке, где даже весенний ветерок не мог развеять мышиного запаха.
Мы подхватили все девять томов и побрели в городской парк. И надо вам сказать, что никто, вероятно, так нежно не прижимал этих книг к груди, как это делали мы; никто так восторженно не гладил их сафьяновых корешков, никто такими влюбленными глазами не глядел на тисненную золотом немецкую фамилию на переплете…
Я разостлал на молодой траве свою серую шинельку, мы уселись рядом и стали перелистывать страницы, останавливаясь на рисунках дольше, чем того требовала от нас моя ответственная и сложная нагрузка.
Сколько чудесных рисунков было в девяти томах — трудно себе представить! Были рисунки в тексте — штриховые клише и фотографии на сетку, фототипии — на отдельных листах, и, наконец, цветные эстампы, отделенные от текста тончайшей папиросной бумагой. Без сомнения, здесь было на чем остановить свой взор пятнадцатилетнему комсомольцу, особенно если вспомнить, что книги напечатаны мельчайшим шрифтом, и трудно понять, что именно нужно прочесть за три дня из этих девяти томов, хотя и помогает тебе черноволосая девушка со смуглыми ручками, выпачканными самодельными бузиновыми чернилами.
Когда я увидел, что в книгах много папиросной бумаги, между нами возникло маленькое недоразумение по поводу этой чудесной бумаги… Я вполне логично доказывал своей подруге, что рисунки напечатаны давно, краска уже высохла, она может даже попробовать рукой, чтобы убедиться — совсем уже не мажется, и поэтому папиросная бумага зря лежит в книге, надо ее оттуда вырвать и подарить нашим курильщикам, которые скручивают цыгарки из газет или губкомовских тезисов — и то и другое, по-моему, вредно отражалось на их организмах, столь необходимых для революции. Черноволосая моя подруга возмущалась таким отношением к библиотечному имуществу и доказывала, что мне надо быть культурным…
Тут мы снова вспоминали о культуре и снова начинали безнадежно перелистывать страницы девяти томов.
Наступил вечер, мы проголодались, пора было возвращаться домой. За эти дни мы уже стали такими большими друзьями, словно давно и так хорошо узнали друг друга, что стоило одному из нас подумать о чем-нибудь, как другой уже угадывал его мысли. Взявшись за руки, мы отправились в город и встретили Алешу.
— Не забудь, что тебе осталось два дня, — сказал он. — Как твои дела? Тезисы готовы?
Пряча глаза, я начал шарить по карманам в поисках мифических тезисов. Моя подруга глядела испуганными глазами то на меня, то на Алешу и ждала развязки.
— Я как раз собирался тебе их показать, — пробормотал я, краснея. — Гм… Куда же они девались?.. Вот беда! И для чего это у человека столько карманов, не понимаю…
Мой вид ничего не сказал Алеше, и через минуту мы, снова взявшись за руки, шли в город. Я говорил уже, что мы были друзьями, поэтому мы весело смеялись над этой историей с тезисами и на все лады повторяли ее смешные подробности.
— Как ты ему сказал? — смеялась моя подруга, и я, тоже заливаясь смехом, повторял:
— Наверное, я забыл их в коммуне!.. Не могли же они потеряться!
А больше всего книги, тяжелые, солидные книги, произвели впечатление на Алешу.
Так мы смеялись, идя в город, и какое-то удивительное и странное чувство волновало нас. Оно заставляло нас порой умолкать на полуслове, и, посмотрев друг на друга, отводить взгляд, и, равнодушно вздохнув, неожиданно переводить разговор на посторонние вещи, попадавшиеся на глаза.
Так легкомысленно и беспечно проводили мы время, когда организация провозгласила лозунг «Учи, учась, — уча, учись», и на мою долю выпало стать одним из пионеров этого большого дела, к которому я мог бы относиться с большей ответственностью.
Но такие мысли всегда приходят потом, а тогда весенний ветерок подхватил нас, как два листка бумаги, закрутил, завертел, затуманил разум и волю, весенний ветерок нашего отрочества, пьянящий и беззаботный.
Голодная молодость горела в наших взглядах в тот день, когда должна была состояться первая моя лекция. Мы снова забрели в парк. Мы выбрали уютный уголок под старым высоким дубом, опустившим сильные узловатые ветки над душистым овражком. Овражек пересекал старый парк, на дне его с камня на камень струилась прозрачная и холодная вода, прозрачная, как наша молодость, и печальная, как воспоминания о ней.
Мы совсем не могли читать.
Между узловатыми, мускулистыми ветвями дуба горело весеннее небо. В овражке расцветали травы. Черноволосая девушка сидела около меня, и рука ее покоилась в моей руке. Мы очень мало говорили; кажется, мы и десяти слов не вымолвили за весь день. Не успели оглянуться, а уже смеркается. Тогда она испуганно прошептала:
— Тебе же сегодня лекцию читать…
Как горячо забилось мое сердце, оно будто совсем остановилось на миг, а затем вновь застучало быстро-быстро, скорее и чаще, чем я перелистывал страницы «Истории человечества», в тщетной надежде запомнить что-то, найти хотя бы одно слово, за которое можно было бы ухватиться. Из овражка подымался вечер, и ручей насмешливо что-то бормотал… Да ведь там, в укоме, уже собрался кружок, товарищи с четвертой госмельницы и механических мастерских уже ждут, я совсем позабыл о них. Я не вспомнил о них за все эти дни ни разу, по какой причине — мне стыдно и теперь признаться, но это исторический факт, и я не могу его обойти. Я достоин публичного покаяния, и можете назначить мне какую угодно кару. Я даже боялся подумать о том, что мне уже пора идти. Тогда моя черноглазая подруга закрыла книгу, отодвинув мою руку со случайно попавшегося мне на глаза рисунка — это был Бенарес на Ганге, прекрасные здания утопали в солнечном сиянии, лестница спускалась к воде, на ступенях сидели женщины в ослепительно белых одеждах, в реке совершали омовение стройные смуглые индусы, а на берегу пылали костры — то горели трупы мертвых.
— Иди! — сказала моя подруга таким голосом, какой слышишь только раз в жизни. И она положила мне под руку том «Истории человечества», тот самый, который я только что рассматривал. — Иди! — прошептала она и поцеловала меня в губы…
И уже ее не было. Как быстро она скрылась, подхватив остальные тома! Я даже не видел, в какую сторону она побежала.
И какая самоуверенность возникла в моем сердце в то мгновение! Как быстро мчался я в уком, прижав к груди «Историю человечества»!.. Как радостно сверкали мои глаза, когда я влетел в комнату, где уже ждали товарищи с четвертой госмельницы и механических мастерских!
Алеша встретил меня словами:
— Ты аккуратист!.. А мы думали, что ты запоздаешь…
Он даже не спросил о тезисах. Я подошел к столу, положил «Историю человечества» — и растерялся. Товарищи — их было человек двадцать — передвигали стулья, усаживались поудобнее, кашляли, приготавливали карандаши и тетради.
Куда девались моя самоуверенность, сила воли и неуклонная вера в мою звезду, которая не раз уже вывозила меня из еще более сложных историй, чем эта история человечества? Я стоял растерянный и не знал, с чего начать. Я не мог найти ни одного слова, которое хотело бы сорваться у меня с языка; все слова составили заговор против меня, они дико кружились в моем мозгу и только два выплывали из этого хаоса — «первобытная культура». А именно о ней-то я ничего и не знал. Я поднимал глаза к потолку, смотрел на пол, блуждал взглядом по стенам и выглянул в окно: по улице к укому приближалась черноволосая моя подруга, она несла остальные тома «Истории человечества», она сгибалась под тяжестью «Истории человечества» и в моей памяти вызвала яркое воспоминание о первом поцелуе, который она мне подарила, сняв мою руку с книги, раскрытой на той странице, где Бенарес на Ганге купается в золоте индийского солнца.
Я решительно раскрыл «Историю человечества», нашел Бенарес и, высоко подняв рисунок, показал его своим удивленным слушателям.
— Вы видите перед собою первобытную культуру. Река называется Ганг, а город — Бенарес. Так и можете записать — я отвечаю за свои слова. Все это вместе находится в Индии. Индия — большой полуостров на Азиатском материке. Там живут индусы. Культура у них первобытная. В самом деле, вы подумайте, вот двое купаются в реке, а по ней плывет мертвец, — в этом вы можете убедиться, потому что у него закрыты глаза. Может быть, покойник этот болел холерой, в Индии это часто бывает… От этого может произойти эпидемия… Культурные люди так не делают.
Напрасно я в тот момент не взглянул на Алешу. Быть может, я сразу прекратил бы свою лекцию… Но я смотрел на дверь комнаты, ожидая, что она вот-вот откроется и войдет моя подруга. Она действительно вошла, это удвоило мои силы, и я продолжал:
— Теперь смотрите дальше…
Мои слушатели с любопытством вытягивали головы к рисунку, а я каждому показывал его и предлагал хорошенько рассмотреть.
— Вот они разложили костер и сжигают трупы. Разве культурные люди сжигают трупы? Впрочем, не в этом дело. Эти индусы хоронят свою мать, а разве кто-нибудь из них плачет? Никто ни одной слезы не выдавил… Они дикари, им не жалко…
В эту минуту раздался громкий, звонкий и неподдельно искренний смех. Я запнулся на полуслове, поглядел — смеялась моя подруга; она заливалась смехом, слезы катились у нее по щекам, она вытирала их кулачком и хохотала все громче и громче. И не только она хохотала. Все мои товарищи захлебывались от смеха. Все парни и девушки с четвертой госмельницы и механических мастерских хохотали, отчаянно топая ногами об пол, щеки их дрожали от смеха. Алеша даже легонько повизгивал.
Я устало захлопнул книгу, положил ее на стол, а сам отошел к окну. Такая серьезная тема, а они хохочут… чудаки! Не понимаю… Тут поднялся Алеша.
— Вот вам — интеллигентный парень, — сказал он, сдерживая смех и постукивая карандашом по столу, — поручай ему читать лекции…
— Лекции! — заревели ребята, и комната снова потонула во взрыве хохота.
Но мне было не до смеха. Незаметно я выскользнул из комнаты и спрятался на чоновском сеновале. Туда редко кто заходил, и я мог досыта плакать от стыда и позора. Я даже заснул, вдоволь наплакавшись, а проснулся оттого, что чья-то нежная рука гладила мои волосы. Как она узнала, что я здесь?
— Прости, что я смеялась… — прошептала она, и мы спустились с сеновала.
Светало. Взявшись за руки, мы пошли через город. Я проводил ее домой, а сам, не решаясь пойти в коммуну, вернулся на сеновал и заснул как убитый…
1932
АКСЕЛЬ БАКУНЦ
СУМЕРКИ ПРОВИНЦИИ[53]
1
Мы согрешили бы против истины, если бы пространство, именуемое Астафьян, назвали улицей; в нашем городе улица эта славится как место свиданий, как пристань для тех, кто фланирует по ней взад и вперед, ленивой походкой напоминая медленно покачивающиеся лодки. Она в то же время походит и на картинную галерею, с тою лишь разницей, что картины не висят на стенах, а разгуливают. Любознательный человек за один день может ознакомиться почти со всеми представителями духовной культуры страны Наири.[54]
Эта улица пользуется плохой славой; если кто-нибудь хочет подчеркнуть свое недоверие к какому-нибудь событию, он говорит: «Это — сплетни с Астафьевской улицы». Наконец, можно привести еще одно доказательство того, что это пространство — не улица в обычном понимании этого слова, а нечто совсем иное, в корне отличное от других улиц города. Замечено, что людям, долгое время назначавшим там свидания, гулявшим, отдыхавшим, спорившим и вообще всем влюбленным в это пространство, свойственна какая-то особенная походка; своеобразная торжественность шествия, когда человек, выгибая шею, идет, покачиваясь; перед глазами его туман, и в этом тумане — какой-то нереальный мир. Один из наших знакомых, врач по специальности, подготовил к печати научный трактат, в котором считает доказанным, что существует такая болезнь, по его терминологии — «болезнь эрименян», и вполне научно объясняет те недостатки, которые присущи любителям этой улицы.
Достаточно пройтись по нашему городу, чтобы убедиться, что ни одна из его улиц не имеет того особенного, единственного и неповторимого, чем обладает это пространство, именуемое по недоразумению улицей.
В городе еще существует Слепая улица, упирающаяся в дорогу, за которой тянутся сады. Есть улица Печатников, населенная преимущественно ремесленниками-медниками. Есть Банная улица, где живут два зубных врача и где от старых персидских бань уцелел глубокий куб, заполняющийся постепенно сором со дворов.
Есть улицы, жители которых страдают хроническим насморком; эти люди неразговорчивы и мрачны, как могильщики или часовщики. Есть удивительные улицы, где вытянулись стены с низкими дверцами, вдоль которых протекают журчащие ручейки. Здесь темнеет рано, мрак гуще, чем на соседних улицах, оживленных и пылающих огнями даже в ночные часы. Нам случалось видеть старые улицы, где на каждом шагу что-нибудь привлекало наше праздное любопытство. У одного из домов с плоской крышей весь фасад украшен разноцветными кирпичами, в симметрии которых чувствуется какой-то тайный смысл. Другой дом имеет сказочный балкон с голубыми перилами. Чудится, что вот-вот отворится низкая дверца, покажется девушка с миндалевидными глазами и исчезнет снова, как мечта. Вот землянка, которая не имеет снаружи окна, и в серой стене ее не видно двери. Она напоминает заброшенную давильню в пожелтевшем саду, где уже нет плодов и откуда не слышно песен. Однако из нее доносится детский плач и слышится покачивание деревянной люльки. Если заглянете внутрь, то увидите мать, склонившуюся над колыбелью; полузабытая песня перенесет вас в детство. Вот другая улица, посреди нее бежит маленькая речка; балконы расположенных здесь домов нависают над самой водой. Между домами — мостики, во время весеннего половодья их поднимают выше. Как сладко спать в свежие ночи на этих балконах, слышать шум воды и чувствовать прохладу, которая по руслу спускается с гор. Особенно если балкон затенен персиковым деревом и сквозь ветви видны купающиеся в реке звезды и если на другом берегу реки, за глиняной стеной, спит девушка, как серна на лесной поляне.
Из этой улицы можно выйти в некий другой город, — город в городе, со множеством запутанных закоулков, как в муравейнике, с извилистыми и совсем узенькими уличками, по которым с трудом проезжает повозочка продавца мороженого, — лабиринт глиняных домов, где кишат толпы ремесленников и мелких домовладельцев. Вот один дом стонет под тяжестью антенны, вот к маленькой двери другого прибит кусочек жести с надписью «Починю примус», а хозяин ютится в щели полуразрушенной стены. На этих улицах живут самые благонравные граждане, исполняющие распоряжения милиционера с боязливой добросовестностью. Когда на центральных улицах города только начинают украшать стены, над домами этого квартала уже развевается море флагов. А когда молодежь приносит с главных улиц известие, что праздник уже окончился, никто и не думает снимать флагов до тех пор, пока не появляется дежурный милиционер и не приказывает убрать их.
Но есть и солидные улицы с большими домами и каменными тротуарами. По этим улицам бесшумно скользят шикарные авто. Деревья там ровные и подстриженные; они не качаются от всякого случайного ветерка до тех пор, пока не шелохнется крайнее, и шелест, как приказ, передается от листа к листу. Гранитные плиты этих улиц звенят от топота чудных коней и внушают гражданам благоговейное уважение.
Мы невольно прошлись по городу от улицы Печатников до берега реки, побывали в лабиринте азиатского квартала, видели сказочный балкон тихой улицы, даже добрались до тех закоулков, в которых дома похожи на клетки и где из-за решетки окна, когда улица безлюдна, можно услышать грустную песню девушки, а в дверную щель можно увидеть красивый восточный дворик, обсаженный розами, пунцовыми даже тогда, когда начинает падать снег. Мы побывали и на тех улицах, где нет тополей и где по гранитным канавкам без рокота, без шума протекает вода. Но ни одна из этих улиц не составляет гордости города и не является предметом наших описаний. Более того, все они — просто улицы, по которым ходят и ездят, ни одно из их названий не связано с новостями, сплетнями, всевозможными пересудами. Вот этого нельзя сказать о той улице, которую мы сейчас опишем. Затем мы расскажем об одном радостном событии и о связанной с этим событием трагической гибели безыменного человека.
2
Дома вырисовываются в утреннем тумане. Тускнеет свет фонарей. Не шелохнется ни один лист, ни одно дерево. Все спит глубоким предрассветным сном. Усталые лошади ложатся на теплый навоз и вытягивают шеи. Это признак близкого рассвета. Из дальних болот слышится кваканье лягушек, и от этого таинственное рождение утра делается еще замечательнее. Звезды начинают гаснуть, ибо давно сказано: «С появлением солнца да исчезнут звезды».
Вот с болот подымается теплый пар, он дрожит и тает в вышине. Минута — и начинает свежеть. Уже шумят верхушки тополей, а нижние ветки неподвижны во мраке. Затем освещаются верхушки, дрожат листья, и дрожь медленно ползет вниз. Чудится, что с деревьев падает вуаль мрака, они одеваются в пурпурную рубашку. Улица все еще дремлет. От предрассветной свежести на дежурных милиционеров падает сладкая дремота, и их черные силуэты принимают различные позы. Вот один из них прислонился к телеграфному столбу, став неподвижным, как этот столб. Другой, подобно старому гренадеру, склонился над ружьем, третий устремил свой взор на воду в канаве, которая напевает ему о любви и радости; кто знает, какую Шушан он вспомнил ранним утром. Четвертый застыл посреди улицы, как огромный монумент. Словом, на рассвете улица напоминает аллею с памятниками стяжавшим победу полководцам.
По земле уже струится холодное течение, и земля становится влажной. В конце улицы виднеется бездомная собака; задрав голову, она несется прямо вниз; она ощутила аппетитный запах, доносящийся с Майдана.
Вот вспыхнул свет на деревьях. Их красоту воспел в старину знаменитый поэт, имя которого придало нам смелости описать их более подробно, чем позволяет чувство меры. И наконец другой поэт, лучше которого никто еще не описывал тополей, луны, певучей сказки ручья, в нашем присутствии сказал смуглой девушке, напоминавшей эфиопку:
— Ваши волосы похожи на эти деревья. — Затем он потряс дерево, и тысячи оранжевых листьев посыпались на плечи резвой девушки.
Вот осветились эти деревья, поднялись дворники с метлами, с лопатами, с ведрами и начали подметать улицу. Едва они кончили уборку, как солнце залило золотом вершину Арарата. Вот загудели заводы: один — сильно и весело, другой — хрипло, третий — тягуче, как печальная сэгя.[55] Стало шумно. Люди высыпали из домов, пришли из других частей города, и толпы рабочих заполнили эту улицу.
Одни на дворе застегивают куртки, другие протирают глаза и идут молчаливо и серьезно. Есть пожилые люди, тысячи раз проходившие по этой улице; за долгие годы ноги их выработали размеренный шаг, который без опоздания приводит их к месту работы. Еще пять минут — и улицу наполняют кожевники, плотники, кузнецы, кочегары, всевозможные представители заводского труда. Есть плотники, которые тридцать лет с одним и тем же ящиком в руках, с тем же толстым карандашом за ухом проходят по этой улице. Можно встретить маляров; на их высоких сапогах видны следы всех красок — от извести до олифы. Вот «свинцовая» армия, вот и кожевники, которые с незапамятных времен были собратьями людей искусства.
Эта армия труда равнодушна к достопримечательностям улицы. Если кто-нибудь замечтается на ней, его назовут «авара»;[56] если мастер рассердится на ученика и начнет его упрекать, он обязательно помянет эту улицу: «Тебе бы мерить Астафьевскую улицу…» Торопящиеся на работу люди недолюбливают эту длинную улицу. Возвращаясь с работы, особенно пожилые, жалуются на ее длину: «Нет ей конца…», «Когда от нее избавимся…», «Ах, если бы через нее можно было перелететь». И все это по адресу терпеливо выслушивающей улицы, улицы, которая чище других, у которой прочные тротуары, гладкий, как серебряное блюдце, скат. Вдобавок ко всему этому по ней стучат тяжелые сапоги маляров, а она, можно сказать, глотает свою собственную пыль, чтобы облегчить им путь.
Но вот людской поток рассасывается, и только издали, со стороны кожевенного завода, слышен топот толстых сапог красильщиков. Они еще не пришли к заводу. На улице виднеется дымчатое облако пыли. Снова показываются редкие прохожие. Некоторые из них спешат, другие шагают медленно. Торопящиеся — это запоздавшие рабочие, авангард армии служащих, которые с портфелями, со счетами или с кипой бумаг под мышкой идут в свои учреждения подвести итоги неоконченному балансу, сделать выписки или же просто так посидеть несколько минут на стуле начальника и помечтать кто знает о каких перспективах.
Они — передовой отряд, а сама армия пока пьет чай, посматривая на часы. Еще несколько минут — и улицу наводняют делопроизводители, машинистки, счетоводы, статистики, бухгалтеры, секретари, заведующие подотделами, среди которых, как скворца в стае воробьев, можно заметить директора какого-нибудь учреждения. Эти люди не обладают ни дисциплиной первой армии, ни ее сосредоточенной серьезностью. Только старшие бухгалтеры внушают своей походкой доверие и уважение. А мелкие счетоводы, производящие только четыре арифметических действия, как будто идут в школу. Вот машинистки… Есть такие, которые на улице заканчивают свой туалет; одна под самым носом главного бухгалтера поправляет чулок, показывая ножку (и какую ножку — пронзающий сердце ятаган!). А некоторые, еще не дойдя до дверей учреждения, торопливо справляются обо всех ночных происшествиях; это дает им пищу для сплетен и пересудов. Как раз вот таких и называют «барышнями из Астафьян»; это они заполняют улицу благоухающими ароматами, оставляя за собой своего рода ленту запаха, в то время как их тоненькие пальчики уже играют по клавишам «ундервуда».
В эти утренние часы на улице можно услышать смех различного тембра, от самодовольного ржания старшего бухгалтера до заискивающего хихиканья мелкого счетовода. Но смех этот заглушается гулом разговоров, заполняющих улицу. Вот управделами Наркомснаба встречается с управделами Плодоовощцентра; после взаимного приветствия они начинают пререкаться по поводу неправильного номера отношения, отсутствия сопроводительного бланка, опоздания «нашего ответа» и бог весть еще по какому поводу. В другом месте сцепились Василий Петрович и экспедитор управления «Ассенизация». Василий Петрович угрожает «Бюро жалоб» и еще более высокой инстанцией, если управление «Ассенизация» не внесет им наконец стоимость досок. А экспедитор повторяет: «Как только нам откроют кредит, сейчас же, сейчас же внесу, Василий Петрович, в тот же день…» Вот сотрудник Госархива рассказывает ночной сон, рассказывает и в то же время тащит за рукав товарища прочитать вновь появившееся извещение о смерти. Чтобы не подумали, что в этот час по Астафьевской улице проходят только легкомысленные машинистки или же мелкие счетоводы, мы можем указать и на других лиц: в этой толпе есть высокие государственные умы, головы, способные управлять не только одной кассой, а целой губернией. Мы могли бы рассказать о еще более деловых людях, но пока мы были заняты разговорами, они уже прошли на место своей службы.
Спала и эта человеческая волна, часы показывают десять. Астафьевская улица снова пустеет. Солнце поднялось уже довольно высоко, приближается к холодному облаку, заблудившемуся в высокой синеве. Деревья бросают тень на тротуары, по которым медленно шествуют члены коллегий; они уже рано утром еще дома дали ход большим делам. Быстро бегут курьеры к учреждениям, почте, банкам, разнося телеграммы, пакеты и всякие бумаги. Но вот наступает тот час, когда член коллегии уже выслушал доклады подчиненных, когда пенсионер уселся на скамейке «аллеи вздохов», когда школьники стали рассеянны и заерзали на партах, одним словом — тот час, когда сверкает чистое зеркало улицы и под тенью газетного киоска спит муша,[57] — час, когда самые великолепные женщины города (их не больше восьми-девяти) вместе со своими детьми — а если не имеют таковых, то одни — вышли на солнце показать себя и свои туалеты.
В этот час Астафьевская превращается в горное озеро. И плывут по этому озеру изящные женщины так, что даже солнце смотрит с завистью на эту счастливую улицу. И что за аромат, какой запах мускуса!.. Вот идет та, которая знает, что во всем городе нет более красивых ножек, чем у нее; она идет, переставляя ноги так осторожно, словно боится ступить на землю. Вот другая — с черными длинными ресницами, из-под которых смотрят томные глаза, как звезды, отражающиеся в колодце. Есть и синие глаза, до того ясные, что в них отражается малейшее колебание одежды, как отражается дрожание леса в горном озере. Есть обнаженные руки, шеи и чего-чего только нет!.. Какое разнообразие форм, какое изящество!..
Здесь лучше сделать передышку.
3
Неинтересны остальные часы до трех, четырех. И даже позже часы неинтересны, так как усталая армия людей спешит пообедать, отдохнуть. Люди проходят быстро, не обращая внимания на уличное движение. Они больше не говорят громко о своих служебных и всяких других делах. Если какая-нибудь машинистка и задержится немного у витрины, вяло рассматривая дамские шляпы, ее поза далеко не вызывает восхищения. Некоторые сдержанно ворчат на жару. Но эта воркотня не относится к Астафьевской, так как виновником жары является солнце. Они не замечают, что как раз в этот час деревья начинают шевелить своими ветками, дабы освежить утомленные тела служащих.
Но вот тени удлинились, солнце склоняется на покой. Постепенно улица оживает. Выходят те, которые, насладившись послеобеденным сном, решили немного встряхнуться, и те, которые ждали захода солнца. Начинается то время, когда она перестает быть улицей и превращается в бульвар, в место свиданий, в замок мечтаний, словом — в отчий дом, в котором разгуливают кузены и кузины, дяди и тети, отцы и дети.
Вот со стороны реки Гетар быстро приближается мужественный юноша. Волосы его приглажены, обувь блестит, в руках букет цветов. Он не замечает ни людей, ни движения. Ему кажется, что Астафьевская улица — безлюдный сад, где выросли деревья, чтобы под их тенью можно было бы грезить и вздыхать, — безлюдный сад, где его ждет молоденькая девушка и невинная беседа. Это еще начало: когда вспыхивают огни, вся Астафьевская улица усеивается такими же молодыми парами, не замечающими многолюдных тротуаров, не чувствующими ничего, кроме своей распускающейся, как утро, любви. Они стоят на почтительном расстоянии друг от друга; иногда девушка протягивает свою тонкую руку, чтобы сорвать с дерева листочек, а юноша, прислонившись к стволу дерева, продолжает свое объяснение в любви. Спускается ночь, показываются другие пары. Они поднимаются вверх по улице, к университетским тополям и родникам. В ночные часы в этих местах можно видеть неподвижные, как статуи, пары, сжигаемые любовным огнем. Если бы тополя умели говорить, а камни имели бы язык, то можно было бы услышать поразительные рассказы, более интересные, чем сказки тысячи и одной ночи. А если бы каждая пара, для того чтобы увековечить свое посещение, складывала бы по одному камню, то мы имели бы пирамиду вышиною с Вавилонскую башню, и северо-восточный ветер не засыпал бы пылью наш город.
Поистине удивительная улица Астафьевская…
4
Тем не менее описание этих чудеснейших часов не может пленить наше перо и заставить нас предать забвению одного человека, — пусть он будет безыменным, так как ничего не прибавится, если мы откроем его имя и фамилию, опишем его внешность и расскажем, хотя бы и кратко, о его жизни.
Вот наступил час, когда на улице, не считая запоздалых, спешащих домой прохожих, остались только ее вечные завсегдатаи. Это как раз те влюбленные пары, которые не могут расстаться друг с другом. Затем остаются «книжники», вечные спорщики о бог весть каких неразрешимых вопросах. Наконец, остаются те, которые, гуляя по этому «пространству», радуются, что вверху светят родные звезды, что под их ногами старая земля, что воды текут из глубины страны, рассказывая им о былых днях.
В тот час ночи из глухих улиц города, из азиатского лабиринта, который, как мы уже сказали, составляет город в городе и где кишит множество мелких домовладельцев, выходит один тщедушный человек. Это и есть наш безыменный человек. Он останавливается под тремя тополями и слушает журчание воды. Затем он поднимает воротник легкого пальто и идет по тротуару. В конце улицы он исчезает. Он садится на небольшое возвышение и смотрит оттуда на огни города, на поле и дальние горы.
В темноте вырисовывается белая вершина Арарата. Склон, на котором нет снега, пропадает во мраке, и виднеется только снежная вершина, похожая на огромное облако. Он смотрит на эту белую вершину и город, огни которого, когда на них смотришь издали, образуют волнующееся море пламени. Однако наш безыменный человек увлекается не этими огнями, а только вершиной горы, затем взор его скользит по прямой, как стрела, улице Астафьян, и он закрывает глаза.
Что было его мечтой, во что превратил бы он эту улицу?
Он законопатил бы глиняными стенами все выходы улицы, оставив только одни ворота, в которые могла бы въехать арба… Он сровнял бы с землею все каменные дома и на их месте построил бы глиняные избы с плоскими крышами, на которых можно было бы располагаться в светлые ночи, когда луна бросает свои лучи в деревянные колыбели. Он перерезал бы все провода и заставил бы население зимой зажигать коптилки, а в остальное время года обходиться без них, поднимаясь с солнцем и ложась спать в сумерки. Люди должны вставать с солнцем и работать в своих садах, виноградниках, сажать лук, чеснок, сеять золотистые зерна пшеницы и в своих давильнях давить ногами виноград. Он желал бы видеть скромных девушек в серебряных монистах, с гребнями, длинными-предлинными косами, в концы которых вплетены бусы. Девушки в кувшинах носили бы из погребов вино, мать доставала бы из кладовой белый лаваш, масло и сыр, а сам отец семейства сидел бы на кровле; внизу шумела бы вода, сверху сияла бы глубокая небесная синева. И сверкала бы снежная вершина горы. И чтобы эта улица навеки осталась бы такою, отделенною от внешнего мира, подобно крепости, глубоким рвом, чтобы синий дым вздымался кверху, а сквозь этот дым он смотрел бы на Арарат и восхищался им. Пусть во всем мире царит железо, но здесь должны быть только глина, камень, дерево… Чтобы снаружи не достигал ни один звук, никакой шум и чтобы ничто не возмущало покоя этих мест.
Чтобы девственной осталась провинция…
Это была его мечта.
Потом он вслушивался в звуки, которые с гор доносил ветер. Он ощущал принесенные ветром ароматы и чувствовал, что на горе уже расцвела фиалка, что утки поднялись по течению реки к горным лугам, что колосья наливаются молочным соком. По запаху теплой соломы он определял, что молотят пшеницу и что уже зарумянились яблоки.
Наш безыменный человек, сидя на своем возвышении, думал о каком-то нереальном мире. Перед его глазами открывалось огромное пространство холмов, гор и полей — целая страна. Крепкие белые быки тянут плуг, складками ложится жирный чернозем, хлебопашец поет простые песни; потом приходят девушки; они приносят еду; труженики садятся на черную землю; девушки собирают мяту; быки пасутся на зеленых лугах. Заходит солнце, усталые люди и быки возвращаются домой; из очагов подымается дым; слышится веселый лай собак.
В мире его фантазий существовали только сонные деревни, деревья, тихие песни, воды, орошающие поля и сады, собаки, лающие на луну, старухи, пекущие хлеб, и пряхи, которые зимою, сидя в комнатах, чешут шерсть и до самого утра рассказывают сказки.
Каждую ночь наш безыменный человек бывал в этом мире. Ему грезилось, как он идет поливать сад. Выпал снег, он видит на нем следы зверей. Пошел дождь, и от лошадиных спин идет горячий пар; лошади прижались друг к другу и дремлют. Шумит лес; до самого рассвета в глубине леса горит костер пастухов.
Иногда те, которые после полуночи проходили по этой улице, слышали звуки печального пения и музыки. Некоторые думали, что это слепой музыкант играет на своей свирели; другие — что это поет одинокий возница, гонящий арбу по деревенской дороге. Находились даже такие, которым казалось, что эти глухие звуки нисходят со звезд. Однако нам достоверно известно, что пел человек, обладавший поношенным, старомодным пальто и щуплым телом.
Какой тоской и болью звучала его унылая песня. Но он был доволен, что его слушают — дующий с гор ветер, вода, тополя да снежная вершина, являющаяся как бы границей его нормального мира. Этот щуплый человек спускается на улицу и, очарованный ее спокойствием, рокотом воды и шелестом деревьев, медленно шагает, не замечая прохожих. Он доходит до трех тополей и затем скрывается в лабиринте узких улиц, как будто проваливаясь сквозь землю, точно какой-то дух.
Та армия, что рано утром отправлялась на работу, однажды повернула к этой улице. Случилось событие, которое останется неизгладимым в истории нашего города. Вооруженная лопатами и кирками, армия рабочих приступила к атаке. Разрыли улицу, и на солнце заблестела земля, которая никогда не видела солнца. Загрязненные тротуары, ямы и кучи щебня положили конец фланированию завсегдатаев этой улицы. Она словно превратилась в котел, кипящий рабочими людьми, и те, которых вдохновляла эта трудная работа, жили ее удачами и боролись за ее победу. Твердыми шагами, метр за метром, стальные линии завоевывали улицы города. Холмики и траншеи показывали направление, и, чем дальше они продвигались вверх, к концу города, тем больше росла радость строителей.
Наконец наступил тот день, когда первый вагон трамвая покатился по этой улице… Это вызвало взрыв восторга. Как будто появился броневик, принесший населению города освобождение от многовекового рабства.
Улица стала неузнаваемой. Закатилось заржавленное солнце провинции. И кануло в вечность то единственное и неповторимое, что принято было называть Астафьевской улицей города Еревана.
Как-то ночью наш безыменный человек, последний поклонник прежней улицы, вышел из лабиринта узких уличек, где в каждом доме, в каждом подвальном этаже говорили об этой громадной победе. Он остановился и посмотрел на свои три тополя. Они по-прежнему стояли на месте, и когда промчался залитый светом вагон, безыменный человек инстинктивно прижался к стволу дерева. Затем поспешно поднялся наверх, к своему любимому возвышению.
Оттуда он увидел рельсы; они тянулись по всей длине улицы. Они уходили далеко, сплетались с другими линиями. Затем он прислонился к камню, увидел поле, снежную вершину. Она ничуть не изменилась. Он начал мечтать о глиняных стенах, замуравливающих все входы и выходы, чтобы снаружи ни один звук не достигал его улицы. И перенесся в мир своих фантазий.
Вдруг он заметил внизу, на рельсах, дом, залитый огнем, который двигался с неимоверной быстротой, надвигался с шумом и звоном колоколов, надвигался, чтобы взобраться на гору, отнять у него и эту высоту. Ему показалось, что по рельсам ползет страшный гроб и что от него нет спасения; вот гудят колокола, и он видит открытую крышку гроба…
Его тень исчезла…
Потом случайно нашли пальто, которое повисло на камне, пару ботинок и старомодную шляпу. Все это имело такой вид, будто внутри находился человек: под шапкой — голова, в пальто — туловище, а в ботинках — ноги. Но под платьем была пустота. Как будто человек чудом вылетел из одежды и скрылся. Так из своей шкуры выскальзывает змея.
Но говорят, что какой-то щупленький человек, в совсем другой одежде, по вечерам, когда стихает шум города, в конце улицы Абовяна, которая когда-то была Астафьевской, поджидает трамвайный вагон. Он входит в него, садится и смотрит в окно. Трамвай вывозит его за город. Этот человек проявляет признаки беспокойства, когда показывается белая вершина Арарата. Он просит ускорить ход, дрожит от радости и убежден, что поднимается на вершину той горы и увидит воочию мир своей мечты.
1932
АБДУЛЛА КАХХАР
ПРОЗРЕНИЕ СЛЕПЫХ[58]
Не вы ли Умар-мулла?
Не вас ли ждет стрела кабанья?
Итак, Силача Ахмада ожидала казнь.
Низенький, коренастый палач, одним видом своим предвещавший смерть, рванул Силача Ахмада за плечо. Обессиленный трехдневными мучениями, Ахмад не удержался на ногах и повалился навзничь, на связанные за спиною руки. Боли он почти не чувствовал: уже трое суток руки были туго стянуты веревками, одеревенели. Поднявшись, Силач пошевелил ими и убедился, что нет ни вывиха, ни перелома. Это его утешило, даром что ему вскоре подставлять горло под лезвие клинка.
Посреди двора, на супе — глиняном возвышении, окаймленном цветами, возлежал облокотившись на пуховую подушку, безобразный, одноглазый курбаши — главарь басмачей. Один из его людей растирал ему ноги.
Возле курбаши сидели приближенные: улем[59] и лекарь — индийский табиб. Позади примостился бай — хозяин дома.
Курбаши опять заревел на Силача Ахмада:
— Эй, несчастный, на свете живешь только раз… Укажи нам своих сообщников.
Улем закивал в знак согласия с этим требованием. Трусливые собачонки обычно лают из-за хозяйской спины, бай тоже что-то выкрикивал из-за спины курбаши, поминутно поглядывая на затылок покровителя.
Табиб увещевал Ахмада не спеша, внушительно.
Силача Ахмада решено предать казни. Вина его велика. И он признает ее. Он лишил курбаши его правой руки — убил первого помощника, Исхака-эфенди.[60]
Может быть, эфенди умер бы и сам от потери крови, но Силач добил его. Зарубил простым топором, каким рубят дрова.
Вот как это случилось. В бою под Алкаром Исхака-эфенди ранило пулей. Курбаши подхватил эфенди на свое седло и ускакал. Пока спасались бегством, эфенди потерял много крови. Ночью банда проезжала кишлак, где жил Силач Ахмад, и Исхак-эфенди взмолился, чтобы его оставили здесь у верных людей. Своих людей в кишлаке было наперечет, у них курбаши не рискнул оставить Исхака-эфенди. Раненого надо было спрятать в доме какого-нибудь бедняка, который не вызовет подозрения красноармейцев, по пятам преследующих басмачей.
Таким бедняком был Силач Ахмад. Он не отказался взять к себе Исхака-эфенди, но перед рассветом убил его — зарубил топором.
Вот в чем была вина Силача Ахмада.
Спустя тридцать семь дней после смерти Исхака-эфенди одноглазый курбаши ночью захватил Силача Ахмада в его доме и доставил сюда связанного.
До полудня следующего дня кишлак не знал о похищении Ахмада. А потом сосед Силача, бай Абид Саркар, выслушав взволнованный рассказ своего батрака, промолвил:
— Э-э… гм… Сегодня среда?.. Молчи, дурень. Дом Ахмада заберу я, а когда у тебя деньги появятся, продам тебе.
…И вот курбаши со своими приближенными ждет последнего слова приговоренного к смерти.
Силач глянул в лицо курбаши и заговорил.
— Мой бек, — медленно ронял он слова. — Я зарубил вашего эфенди за то же, за что вы сейчас хотите убить меня. Больше ничего я не могу добавить. Но мне хотелось бы перед смертью совершить одно доброе дело. Не ради вас, а чтобы угодить богу. У меня — два глаза. Если я их лишусь, вы… прозреете. Я думаю, нет более доброго дела, чем это.
Курбаши решил, что Силач издевается над ним. Он обрушился на Ахмада с яростной бранью. Но как ни велика была ярость курбаши, подвергнуть пленника большему наказанию, чем смерть, он не мог.
— Не гневайтесь, мой бек, — прервал Ахмад поток ругани, изрыгаемой курбаши, и, обращаясь к табибу, продолжал: — Может, вы поймете мои слова. Я хочу исцелить курбаши и вернуть свет его незрячему глазу. Если вы истинный, мудрый табиб, вы поймете меня. Но если вы не лекарь и обманом вошли в доверие бека, вы сочтете меня за сумасшедшего.
Табиб растерянно взглянул на курбаши, все еще продолжавшего браниться, что-то сказал ему на своем языке, и бек замолчал. Теперь внимание всех обратилось к новоявленному табибу.
— Хаким,[61] пусть бек закроет здоровый глаз, а вы надавите на его веко своим пальцем, — сказал Силач.
Курбаши расхохотался, потом посидел в раздумье, решительно повернулся к табибу, закрыл здоровый глаз и велел лекарю приложить палец. Тот исполнил приказание.
— Что вы видите? — спросил Ахмад.
— Ничего, — ответил курбаши.
— Сильней надавите, хаким. Мой бек, не закрывайте глаза очень плотно, глядите вниз. Видите теперь внизу огненный шарик?
— Вижу.
Табиб тут же закрыл свой глаз и надавил на веко. Вслед за ним проделал это и улем, и все другие, сидевшие на возвышении.
Раздались голоса:
— И я вижу…
— Я тоже…
— Правильно, вы видите огонек потому, что у вас второй глаз здоровый.
Табиб заволновался. Табиба интересовало не столько излечение курбаши, сколько сама тайна врачевания слепых. Если бы курбаши отказался от лечения, табиб готов был сам ослепнуть, лишь бы заставить Силача показать свое искусство. Он что-то сказал курбаши. Все притихли. Курбаши велел начинать лечение.
Тогда Силач потребовал яйцо, два плода фиников, ползолотника тмина, пять незабудок и ложку меда. У хозяина дома все это нашлось. Когда принесли снадобья, табиб осмотрел их и задумался. Улем смотрел на Силача злобно и растерянно. Ахмад велел сложить принесенное в медную посуду, налить туда одну пиалу воды и вскипятить.
Ему повиновались.
— Дайте свечу, — приказал Ахмад. — Прикрепите ее на дувале против слепого глаза курбаши.
И это тоже было исполнено.
— Ты уже исцелял кого-нибудь от слепоты? — спросил наконец табиб.
— Нет, — ответил Силач, с разрешения курбаши опускаясь на корточки. — Исцелял мой учитель. Однажды только. После этого он ослеп сам и умер через одиннадцать дней. Имя учителя я назову вам после. Ему было восемьдесят три года.
Один из басмачей помешивал ложкой кипевшее варево. Силач издали пристально наблюдал за тем, как готовилось зелье. Потом велел загасить огонь и найти камень, которого не касалась вода. Приказания Силача исполнялись быстрее, чем повеления самого курбаши.
Один из людей курбаши принес в поле халата целую груду камней. Силач осмотрел камень за камнем и заявил, что этих камней вода уже касалась. То же самое он сказал и о второй ноше камней. Принесли новые. Силач выбрал камень весом в семь-восемь фунтов, велел хорошенько его вытереть и обтесать с одной стороны. Когда камень стал похожим на железный сошник, Ахмад сказал, что надо обмазать его приготовленным снадобьем.
Мазал табиб, а Силач указывал ему, как это делать. Но табибу никак не удавалось точно выполнить его указания. У курбаши лопнуло терпение, и он велел развязать пленнику руки. На Ахмада тотчас же со всех сторон уставились дула винтовок, и над головой его навис блестящий клинок палача. Силач сам обмазал камень и положил его возле себя для просушки.
— Теперь мне нужно полпиалы крови человека… — Помолчав, Ахмад поднял голову. — Думаю, что тот, кто согласился отдать зрение, не много теряет, если у него возьмут еще и полпиалы крови. Мой бек, прикажите отрубить у меня палец…
Улем, не выдержав, встал и ушел. Табиб взглянул на бека. Хозяин дома, склонившись к курбаши, толкнул его в бок. Палач приготовил клинок. Силач положил свой мизинец на пенек и закрыл глаза. Палач со свистом опустил клинок, — по земле покатился обрубок мизинца. На лбу Ахмада блеснули капельки пота. Когда из раны натекло полпиалы крови, табиб быстро присыпал обрубленное место порошком и остановил кровь. Спустя какое-то время Ахмад медленно открыл глаза и налил кровь в приготовленное варево. Затем велел зажечь перед беком пук соломы и свечу на дувале. Язычок свечи заколыхался от ветра. Повалил, закружился густой сизый дым. Когда Силач встал, на него опять навели винтовки, а над головой снова навис клинок палача.
— Мой бек, — сказал Силач, с разрешения курбаши приближаясь к супе, — я отдал палец, а теперь собираюсь отдать еще и зрение. Но у меня к вам просьба.
— Ты хочешь, чтобы я сохранил тебе жизнь?
— Нет, мой бек. Бедняк, потерявший зрение, не может желать этого. Напротив, я прошу, чтобы вы не раздумали и не оставили меня в живых. Я боюсь, когда вы прозреете, а я лишусь зрения, вы не станете убивать меня.
— Убью!
— Я боюсь вашей пощады, бек.
— Можешь не бояться.
— А все-таки я сомневаюсь. Я дрожу при мысли, что мое доброе дело перекроет мой дурной поступок. И тогда…
— Ладно. Что ты хочешь?
— Я хочу закрепить ваше решение убить меня, как только вы исцелитесь. Я хочу вашего гнева. Хочу, чтобы вы разгневались так, что, если бы вдобавок к возвращенному зрению я дал бы вам еще сто лет жизни, вы все равно убили бы меня. Поклянитесь, что вы дадите мне десять минут говорить все, что я захочу. Мои слова принесут мне мою смерть.
— Слова? — усмехнулся курбаши. — Хорошо, говори.
Силач медленно повернулся спиной к курбаши и обратился к басмачам, стоявшим с поднятыми винтовками.
— Джигиты, — начал Силач, — не удивляйтесь, что я отдаю врагу своему зрение и палец. Подивитесь лучше на себя, вы отдаете врагу своих отцов и детей, братьев и сестер, разоряете свои же кишлаки. Вы стреляете в самих себя. Если вы считаете мой поступок безумием, тогда мы с вами сумасшедшие. Но я-то знаю, что делаю, а вы не знаете, чего ради поступаете так. Я открою вам глаза на правду, и пусть хоть соскоблят мое мясо с костей, а кости перемелят железными жерновами… Я сейчас умру. Но перед смертью мне хочется знать, ради кого вы с оружием в руках скитаетесь в горах? Ради кого обрекаете на мучения своих братьев? Ради кого вы стали басмачами? Неужели вы навсегда забыли свои плуги, вы — пахари?
Хозяин дома, прятавшийся за спиной курбаши, нетерпеливо заерзал. Улем воздел перед собою руки и что-то сказал курбаши. Тот заорал, но Силач заговорил громче, и каждое его слово было нацелено в сердца джигитам.
— Баи боятся, что, если не станет басмачей, они лишатся богатства… А чего боитесь вы?
Палач ударил Ахмада саблей плашмя и заставил его молчать. А курбаши, поднявшись с места, крест-накрест стегнул Силача плеткой и обрушил на него злобные ругательства.
— Мой бек, вы гневаетесь?.. Это же только слова, — склонился перед ним Ахмад.
— Не надо мне его лекарства, увести его! — рявкнул курбаши.
Но табиб снова настойчиво зашептал что-то на ухо беку, и курбаши начал успокаиваться.
— Приступай к делу! — крикнул он, недобро глядя на Ахмада.
Тогда Силач попросил курбаши наклониться над густо валившим дымом и дал в руки табибу обмазанный снадобьем камень.
— Держите камень острием к глазу бека и, когда я скажу, начинайте его покачивать.
Курбаши наклонился над дымом.
— О повелитель правоверных, как бы он не повредил вашему глазу, — забеспокоился хозяин дома.
— Какой вред можно причинить незрячему глазу? — возразил Силач. — Если опасаетесь за здоровый глаз, завяжите его.
То же посоветовал табиб. Курбаши снял тюбетейку и завязал глаз шелковым поясным платком.
Табиб держал камень острием к слепому глазу курбаши, но не мог понять, как надо его покачивать.
— Не так! — раздраженно говорил Силач.
Курбаши чуть не задохнулся от дыма и крикнул прерывающимся голосом:
— Хаким, передайте камень ему самому!
Вначале все напряженно следили за Силачом, ожидая, когда он станет слепнуть, но мало-помалу их внимание все больше обращалось к свече, горевшей на дувале. Она как будто не участвовала в лечении, однако Силач то и дело оглядывался на свечу и, видно, заботился, — только бы она не погасла.
— Вы, хаким, следите за свечой. Если она погаснет, скажите мне, — предупредил он наконец табиба.
Сам он наклонился к курбаши и в густом чаду принялся раскачивать камень перед глазом бека. От резких движений солома разгорелась, дым повалил вовсю. Едва виднелись в густом чаду головы курбаши и Силача.
От ветерка язычок свечи заколыхался, и люди смотрели напряженно, ожидая от нее чуда.
Вдруг Силач громко крикнул: «Свеча!» И камень отточенным острием до половины вошел в голову курбаши. Десятник, справа от курбаши, тремя выстрелами револьвера уложил Силача. Но в ту же минуту ударом приклада десятнику раскроили череп. Поднялась стрельба. Бой продолжался до вечера. Потом вспыхнул большой пожар, над домом бая встали огромные столбы сизо-багрового дыма.
1934
ИВАН КАТАЕВ
БЕССМЕРТИЕ[62]
Я никогда не видел слесаря Бачурина.
Но я знаю места, где он жил.
Туман ли наполнит емкие долины, сеет ли сплошной мельчайший дождик, оседающий на одежде нарзанными капельками, проясняет ли, — вид грозненских Новых промыслов всегда прекрасен и всегда печален. Печальность, наверное, от незавершенности покорения этих высоких холмов человеческим трудом. Что они? Уже не дикая вольная гряда кавказской Азии, ведомая только ветру, да мощному небу, да всаднику в прямоугольной бурке. Еще не город на горе, не завод, укрывший собою первозданную природу так, что почти и не сквозит она, забывается в проходах меж корпусами, в путанице подъездных путей. Нефтяные промысла надолго повисли в этом пролете между первобытностью и цивилизацией и, как бы ни гремели, как бы ни лязгали сталью о сталь, как бы ни сияли в ночи огнями, пролегая вдали, в высотах, ярким Млечным Путем, — все будто нет последней победы.
Вот кидается зигзагами шоссе, одолевая подъем, и кругом только промышленность — черные, в потеках застывшего парафина, и свежетесовые буровые взбегают по склонам, частым лесом стоят на гребнях, толпами нисходят в глубокие балки; всюду белые тучные резервуары, черепичные кровли мастерских, жилищ, столовых, там градирня газового завода, здесь гудящая крепость электроподстанции. Жизнь, сосредоточенное добывание энергии, в грохоте, в перестуках, в плотных клубах пара, вырывающихся из земли. Но, взлетев на бугор, переломилось книзу шоссе, и — выросла сразу молчаливая извечная страна.
Рядом — крутые валы неосвоенных высот, одетые рыжеватым плюшем кустарников, чуть тронутые снегом на взлобьях, — нехоженые тихие дебри, где, может быть, только единственная пугливая тропинка шныряет в колючем сплетенье мокрого цепкого боярышника. Рыжие, бурые, туманно-малиновые гряды и — за последним малиновым мысом — сизая мгла долины Чечен-аула. Взглянуть направо, там, за Алдами, на горизонте, далеком-далеком, в ветреной недостижимой синеве — лесистые Черные горы в пятнах и полосах снега.
Какой унылый и важный простор.
— А еще просветлеет — встанет над всем, все понизит, уложит под собой главный хребет, великий, белый, в тенях и морщинах, весь — иноязычная песня, варварская легенда, пущенная от моря к морю; и вдруг — просверкнет из облаков Казбек углом страшных льдов своих (сказал бы Гоголь).
На другой день после приезда я шел по первому эксплуатационному участку. Дождь перестал только к утру, было сыро, туманно, неприютно, окрестность проступала слепо, точно сквозь вощеную бумагу. На дорогах гомерическая грозненская грязь хватала за ноги, стягивала сапоги, но и здесь, на травянистых побуревших луговинах, упругая почва была пропитана влагой и грустно чавкала, отпуская подошву. Странное безлюдье на участке поразило меня. Я уже знал по литературе: современная эксплуатация промыслов насосами и газлифтами не требует большого числа рабочих, добыча почти автоматизирована, только общий контроль да ремонт. И все же мне, привыкшему в прежние годы к ребяческой звонкой суете желоночного тартания,[63] удивительно было ощущать вокруг себя это невидимое дело, творящееся силами безголовых механизмов, как будто вовсе покинутых людьми. Вчера я записал в блокноте: за прошлый месяц на первом участке добыто тридцать тысяч тонн нефти. Значит, вся эта масса вытянута из земли, переслана по трубам на заводы почти без прикосновения человеческой руки, в безмолвии.
Тихое белое небо, мокрая трава, трубы, скупые линейные силуэты насосных качалок и газлифтов в тумане — какая-то железная пустыня; и тут происходит титаническая работа, перемещение огромных масс и тяжестей. Скользнуло видение будущего: такие же пустынные заводы автоматически движут станки, вращают конвейеры, а люди ушли куда-нибудь на реку, задумчиво сидят на берегу, под небом.
Тишина на участке была бы ненарушимой, если бы не ритмические скрипы, слабые стоны, доносившиеся с разных сторон из тумана, и еще — мерные шорохи над самой землей, в траве. Откуда шорохи, мне уже было понятно: то и дело приходилось перешагивать через железные тросы, протянутые по всему участку и беспрерывно дергающиеся вперед и назад. Чтобы им не касаться земли, кое-где подложены большие деревянные катушки, и катушки эти, в деревянных желобах, похожих на корытца, тоже ходят: вперед — назад, вперед — назад. Я пошел вдоль одного такого троса, и он привел меня к насосной качалке; я узнал ее по рисунку, простую качалку типа Оклагома, впервые заменившую на промыслах дикарскую желонку в девятьсот двадцать пятом году. Она-то и поскрипывала жалобно, кланяясь, как журавль, опуская и поднимая полированную штангу, идущую к насосному поршню. Несложное движение это придавалось ей как раз тем самым тросом, который ползал в траве на катушках. Я повернул обратно и скоро увидел, что трос тянется к одинокому бетонному зданьицу на пригорке, и оттуда исходят во все стороны, как лучи, десятки таких же тяжей. Там, внутри здания, трансмиссия от мотора неспешно вращала горизонтальный эксцентрик, к краям которого и были прикреплены все тяжи. Здесь, в чистоте выбеленных стен, в белом свете широких окон, точно в родильном покое, беспрерывно возникало это простейшее движение, передающееся к десяткам скважин.
За все время хождения по участку я увидел только двоих людей: часовых, проверивших мой пропуск.
Вечером Василий Михеевич Ботов, давнишний мой приятель и промысловый старожил, поведал мне следующую краткую историю тяжей на деревянных катушках.
— Был у нас на промыслах такой чудак, Бачурин, слесарь. Эту самую систему тяги от эксцентрика к качалкам он и изобрел году в двадцать пятом. Дело как будто нехитрое, а ведь все промысла приняли такую систему, умней не придумаешь. Конечно, премировали Бачурина: полсотней. Был он, между прочим, партийный, однако — наследие царизма — любил незаметно закладывать вот сюда. Наверно, и премию использовал по этому назначению. А в нем издавна сидел туберкулез, и при туберкулезе, конечно, совсем это не годится. Лечили его, ездил он как-то на курорт. Не помогло. Ну, и в прошлом году сбачурился наш Бачурин, схоронили. Только и осталось от него что вот эти катушки. Теперь идешь по эксплуатационным участкам — тихо везде, пусто, качалки кланяются себе, поскрипывают, а катушки повсюду в траве ходят: туда-сюда, туда-сюда. Идешь и думаешь: «А Бачурин-то наш все катается, как катается…»
Ботов усмехнулся, и разговор перешел на другое. Мне о многом нужно было его расспросить, в голове толклись газетные задания, вопросы, порожденные глубоким прорывом в бурении, а с эксплуатацией в это время все обстояло благополучно. Словом, мыслям моим тогда недосуг было заниматься качалками Оклагома и всем, что с ними связано. Мелькнуло только: любопытно все это, надо запомнить, — и на несколько дней бачуринскую историю заслонили другие дела и впечатления.
Только в день отъезда, на обратном пути с дальней буровой, мне снова пришлось проходить первым участком. За это время наступили холода, на промыслах лег прочный снег. Все побелело кругом и будто еще обезлюдело. Еще геометричней и суше зачернели трубы, вышки, механизмы, еще безотрадней стлалась равнинная даль под бело-свинцовым покровом, еще холодней, грозней сверкали над всей страной зубцы и ребристые глыбы главного хребта. Все так же творилась на промыслах невидимая бессонная работа, в морозном чистом воздухе повсюду горько перекликались качалки, и бесконечное снование железных тяжей и деревянных катушек стало грубей и отчетливей на снежной незапятнанной белизне.
«Что ж это за бедное, ничтожное движенье, — подумал я, вспомнив слесаря Бачурина, — вперед — назад, вперед — назад, и ни с места. И это все, во что вошла твоя жизнь, товарищ Бачурин, жизнь долгая и богатая разнообразнейшими движениями… Богатая ли?..»
И тут я понял, что ничего не знаю об этом исчезнувшем человеке, чья овеществленная мысль продолжает участвовать в труде народа, поднимая на поверхность земли новые и новые тонны нефти. Не знаю облика его, строя суждений, говора, повадок, всего того отличительного и единственного, что вкупе полагало о себе: «Я, Бачурин», — и, может быть, особым образом подмигивало приятелю, закусывая рюмочку квашеным помидором, и после мякотью большого пальца разглаживало толстые усы… Да были ли усы-то? Это уж начинается фантазия, литература, а про то, что было действительно, я ничего не могу сказать. Даже имени-отчества не знаю.
Захотелось до страсти, прямо потребовалось — немедленно до всего дознаться, расспросить Ботова, друзей, родню, — осталась ведь, наверное. Посмотреть хотя фотографическую карточку…
Но возле групповой конторы меня уже ожидала попутная машина, надо было в город, время рассчитано до минуты. И пришлось махнуть рукой на Бачурина.
С того разу я не бывал на Новых промыслах. Подумывал, не написать ли Василию Михеевичу, не запросить ли сведения о Бачурине. Да показалось как-то неловко. И что он мне может сообщить кроме того, что уже рассказал? Год и место рождения, партийный стаж?.. Ну, карточку пришлет, — опять ничего не скажет карточка. Так и не написал.
Вспоминаю же я о Бачурине все чаще и чаще.
Ведь было время, — мы жили с ним на одном куске земли: в двадцатом и двадцать первом годах. Может, встречались с ним на собраниях, на субботниках, не зная друг друга. Может быть, даже разговаривали мельком, прикуривали… Тогда еще дымились Новые промысла, подожженные чеченцами, дотлевали безобразные пожарища. Бачурин вместе с другими тушил, расчищал, чинил, восстанавливал. А где он был раньше? Не партизанил ли он, не скитался ли зимою в горах с отрядом Николая Гикало, не дрался ли под Воздвиженской, не стоял ли с отчаянно бьющимся сердцем на склоне холма, всматриваясь в черноту весенней ночи, ожидая, когда вспыхнет на промыслах керосиновый резервуар — сигнальный факел восстания? В ту ночь не вспыхнуло, напрасно ждали гикаловцы: вышла ошибка. И не хватил ли Бачурин кепкой об земь в горькой досаде на такое окаянство?
Это был русский рабочий, перекочевавший сюда с севера, в одиночку, или с земляками, или мальчишкой вместе с папаней поселившийся здесь, в этой ни на что не похожей стране, на краю русского света. Шли десятилетия, непобежденный Кавказ блистал над ним вечными льдами, шумела мутная Сунжа, а он, Бачурин, покашливая, делал свое слесарское дело, которое в соединении с миллионами других человеческих дел когда-то должно изменить все лицо этой страны и очертания горных складок, и, может быть, страшную главу самого Казбека. Тут все было особенное, грозненское, со своими красками, со своим неповторимым запахом событий. Бачурин мог взять жену из соседней станицы, мог женить сына на здешней казачке, на иногородней. То-то лилось на свадьбе кизлярское и полы трещали от подкованных сапог… Тысячи всяких происшествий, о которых мы можем разузнать только самое общее и скучное, случилось здесь, в Грозном и на промыслах, — Бачурин все видел, все переживал, и от этих переживаний ничего не осталось. Можно написать историческое исследование: грозненский пролетариат в 1905 году. Можно сочинить роман о достижениях грозненцев в первой пятилетке, пустив в герои кого-нибудь вроде Бачурина. Пускай все это будет верно, похоже на правду, и все же получатся только общие черты, типичное, подобное, а не действительный слесарь Бачурин, живший на Новых промыслах и скончавшийся от туберкулеза в тысяча девятьсот тридцатом году.
След настоящего, доподлинного Бачурина заключен только в той комбинации тяжей и катушек, идея которой его озарила однажды. Это единственная достоверная память о нем. Не будь катушек, созданных его самостоятельной творческой мыслью, я бы вовсе ничего не знал о человеке с этой фамилией, не подозревал о его существовании.
Может быть, и довольно Бачурину такого бессмертия, — пусть себе поскрипывает и катается туда-сюда?
Но уже в тридцать первом году примитивные качалки Оклагома вытеснялись на промыслах более усовершенствованными насосами Виккерса и «Идеал», работающими от своего мотора. И уже тогда на смену насосам всех систем пришел газлифт, выжимающий нефть из скважины давлением газа с компрессорной станции. Скоро качалки Оклагома вместе с бачуринской системой тяги вовсе исчезнут с промыслов.
Последний след трудов и дум Бачурина сотрется.
А мне все не хочется его забывать.
Когда я читаю в газете, что в Грозном построили новую городскую баню, я думаю: «Эх, уж не попариться Бачурину в этой бане…»
Когда недавно было сообщено, что от Грозного к Новым промыслам пошел трамвай, я опять прикинул на Бачурина: «Не проедется он в трамвае с шиком и звоном, без него, без него ездят…»
Почему-то сдается мне, что это был превосходный человек.
Так пускай же помнят его, крепче помнят — дети, внуки, товарищи, народ!
1934
ЛИДИЯ СЕЙФУЛЛИНА
ТАНЯ[64]
1
Таню обидел отчим. Девочка его любила. Всякая размолвка с ним отягощала ее недетской, сокровенной печалью. Сегодня, как всегда, они вдвоем пили ранний утренний чай. Александр Андреевич сумрачный пришел к столу. Таня этого не заметила, потому что она встала весело. Спеша есть, двигаться, говорить, она сбивчиво рассказывала события вчерашнего дня и свои утренние мысли:
— Ленин — основоположник марксизма.
Александр Андреевич прервал ее:
— Прежде, чем сказать, люди думают. А ты?
Бывали случаи, когда он грубей обрывал Таню, но сегодня она учуяла в его тоне особое, неопровержимое презренье к себе, невыросшей, несамостоятельной. У нее от обиды захватило дух. Заносчиво, но неверным голосом девочка ответила:
— Я всегда говорю вещи, в которые я убеждена.
Александр Андреевич сердито передвинул стакан и, вставая, уронил стул:
— В которых, а не в которые. Нет у тебя убеждений, потому что нет знаний. И говоришь ты черт знает каким языком!
Он ушел, не простившись. В комнате, кроме нее, никого уже не было, но Таня запрокинула голову через спинку стула, чтобы слезы не выкатились из глаз. Как же у нее нет убеждений, когда она пионерка? Если бы ему, партийцу, кто-нибудь такую вещь сказал, он бы небось озверел!
По дороге в школу Таня не отмечала ни улиц, ни людей. Ноги шли, глаза смотрели, тело привычно уклонялось от трамваев, извозчиков, автомобилей, но мысль ее была поглощена обидой. Девочка думала со стесненным сердцем:
«Если взрослые так будут, то в конце концов можно и умереть… Глотнуть чего-нибудь и вообще взять да умереть. Нет, не „взять“, а просто умереть. Если „взять“, то есть самоубийство, то, конечно, скажут, никаких убеждений. Есенинщина, скажут, заела… „Не такой уж горький я пропойца, чтоб, тебя не видя, умереть“», — мысленно пропела Таня.
У нее защипало в горле, и слез проглотить уже не удалось. Они оросили щеки. Таня, всхлипнув, стерла их перчаткой, но они набегали снова и снова.
«Ну, „Письмо к матери“ — вообще упадническое… Не признаю. А все-таки здорово трогательно. Как это? „Мр-а-а-ке часто видится одно и то ж…“ Да, умру, так пожалеют. Вот я умерла нормально, от скарлатины… Папа стоит у гроба… Нет, если нормально, то не все пожалеют. А вот умри я на посту… Вот случилось нападение на Москву…»
Глаза у Тани высохли, щеки разгорелись. Она придумывала и переживала различные возможности доблестной смерти за СССР, за революцию. Перед ней ясно вставали подробности замечательных похорон:
«… даже вожди у моего гроба в почетном карауле. Из нашей школы все будут рассказывать: „У нас она училась, у нас“».
Но когда в представлении встала долговечная урна с ее собственным, Таниным, прахом в час, когда все живые ушли от нее, Тане очень захотелось жить.
«Можно идейно пострадать, но не до смерти. Даже пускай ранят, но не до смерти. Вот, предположим, я в тюрьме, в капиталистической стране. Да, я в Америке, агитирую… Да, побег был исключительно смелый…»
Когда Таня входила в школу, она в воображении прожила не одну прекрасную, героическую жизнь. Все эти жизни были схожи в основном. Каждая из них уходила на победоносное страданье за утверждение Таниного мира. Танин мир был определен. Он в совершенстве четко делился всего на два лагеря: своих и чужих. Свои — те, с кем выросла Таня. Чужие, никогда еще не обнаруженные в личном Танином существовании, но общеизвестные враги «своих» — капиталисты Европы и Америки, вредители в СССР. Для нее, как в старых убедительных трагедиях, «свои» были без единого изъяна, всегда во всем правы, враг жесток в чернейшей, без просвета, неправде. И пережитые девочкой в мечтанье любовь и ненависть были подлинны. Победа любви потрясла ее душу восторгом. Отсветы его легли на существующий повседневный мир. Они сделали его счастливей, добрей. Вот хотя бы Ким. Он вовсе не закоренелый бузотер и грубиян. Он страдал, раскаивался в Таниных мечтах, когда ее мучили в американской тюрьме. Он сознавался с настоящей большевистской самокритикой:
«Недооценивал я, товарищи, Таню Русанову».
Поэтому Таня сегодня подошла к нему сама и заговорила с ним таким пленительным тоненьким голосом, что Ким отверг разговор:
— Ах, не влюбляй меня навеки, покрасивей найдем!
Таня багрово покраснела, но в перебранку не вступила. Она только мстительно подумала:
«Горько тебе будет. Очень горько!»
Весь школьный день девочка была с товарищами уступчива, на уроках прилежна. Но в конце дня с ней снова приключилась неприятность. Собственно, никакой неприятности не было. Все понимают, что Таня ответила правильно, а все-таки… В школе побывала сегодня Надежда Константиновна. Вышло, что у входа она поговорила с Таней, а на прощанье протянула ей руку. Девочка ответила, как надо:
— В нашей организации мы руки не подаем.
Лицо Надежды Константиновны просветлело от хорошего смеха, но в глазах как будто мелькнуло смущенье. Так показалось Тане. Это ее расстроило. Она размышляла:
«Надо было руку пожать. Не из подхалимажа, а из уважения. Нет, не надо. Она понимает, что у нас в организации не зря выдумывают».
Но чем больше Таня убеждала себя, что поступила правильно, тем смутней становилось ее душевное состояние. На обратном пути домой она тягуче говорила Игорю Серебрякову:
— Мне уже двенадцать лет, а я все не решила, кем я буду. Как ты думаешь, кем я буду?
— А я откуда знаю? Вот я буду летчиком или моряком. Море или небо, без никаких!
— А я ни на чем еще не остановилась. В прошлом году я хотела быть киноактрисой. Очень заманчиво! Ну, а потом решила — это занятье несущественное. У них там какие-то кулисы да закулисы, вообще что-то, интриги. А я еще не знаю, есть ли у меня талант. Вообще мне многие занятия не нравятся. Вот, например, зубным врачом — ни за что. Всю жизнь смотреть в чужие, дурно пахнущие рты!
— Да-а, невесело. Когда зубы болят, все воют. Я один раз так взвыл, что зубодерка убежала.
— Конечно, и зубные и другие врачи — очень полезные люди, но об себе тоже надо подумать. Я думаю, Игорь, все-таки я буду горным инженером.
— Горняком? Валяй. Одобряю.
— А все-таки я еще сомневаюсь.
— А ты собиралась еще композитором.
— Ну его, нет! У меня мама — композитор…
— Ну что ж, у нее, кажется, позиция правильная.
— А что с того? Она свой человек, хоть и беспартийщина. Но все невеселая да невеселая. Со своими никогда не смеется. Нет, я маму люблю, но жить с ней — спасибо, не надо. Она хорошо придумала, что за третьего замуж вышла.
— Уж за третьего?
— А как же? Первый муж — мой отец. Ну, мама его чего-то отшила, записала меня на себя, я его не знаю. Второй — Александр Андреевич, мой теперешний отец. Ты знаешь, он очень доволен, что я его сама выбрала. Когда мама уходила, я кричала, плакала, что не уйду. Он и Соня меня усыновили, оттого я Русанова, а мамина же фамилия — Балк. Только у нас бывают с ним разногласия.
Таня глубоко вздохнула и неожиданно для себя рассказала Игорю утреннюю сцену. Рассказав, рассердилась на себя за это, покраснела и нахмурилась. Игорь оживленно подхватил:
— Удивительно наши предки любят придираться к словам. Впопыхах что-нибудь неясно скажешь, пойдут разутюживать. На меня отец взъелся, когда мы из лагеря вернулись. Я прекрасно вел работу в деревне. Ну, докладываю отцу, матери: «Я три колхоза организовал». Он говорит: «Ты организовал?» И начал меня унижать.
— Игорь, ты «Отцы и дети» читал?
— Чье сочиненье? А, да, этого, как его… Нет еще.
— Я тоже еще нет. Соня с чего-то советует проработать…
— Наверно, сама недавно прочитала. Им как что понравится, сейчас и мы прорабатывай.
— Там как будто дело в том, что Базаров — марксист, а родители его — наоборот. А после плачут на могилке.
— Расстраиваться они умеют и без могилки. Особенно матеря. Слушай-ка, ты вот что, — прочитай «Войну и мир». Художественное сочинение. Я летом читал. Только несколько длинно. И охота узнать, что дальше, и прямо устаешь. Замучился, но прочитал. Интересно.
— Игорь, а я иногда страницы пропускаю.
Игорь поправил на голове шапку, отвел глаза в сторону:
— Я тоже кое-что несущественное промахнул, а вообще — нет, — не следует. Я не пропускаю. Ну, пока.
— А ты мне обещал по математике объяснить.
— Я к тебе вечерком загляну. Вообще не расстраивайся.
Игорь свернул в боковую улицу. Зажигались огни. Они возникали четко, будто являлись на дозор, следить, куда уходит отслуживший день. Воздух — во власти ни света, ни темноты, а странного их соединенья — казался зыбким. Громкое дыханье машин, везущих людей или многообразную для них кладь, истеричное, всегда неожиданное взваниванье трамваев, отдаленное зычное оханье паровозов, заводские гудки, неизмеримо слабый в сравнении с ними, но повсеместный, непрерывный человеческий голос — весь этот слитый шум большого города стлался далеко и гулко окрест, как запуганный рев сильного чудовища. В утробе города в эти сумеречные часы самодовлеюще жили только маленькие дети и необрачившиеся влюбленные. Люди другой поры, подвластной воспоминаньям, испытывали тоскливое чувство разобщенности с миром. Отчетливо ложились перед ними грани своей, отдельной человеческой судьбы. И Таня показалась себе самой всеми забытой, утомленной. Девочка плелась, пришаркивая на ходу подошвами. На крышах лежал некрасивый снег. Встречные тоже не правились Тане.
2
Дверь Тане открыл Александр Андреевич. У него было измученное лицо. Тане он улыбнулся устало. Но все же улыбнулся. Значит, забыл и «основоположника», и все другие ошибки. Милый отец! Таня подпрыгнула и крепко обняла его за шею.
— Ну-ну, хорошо! Что ты так поздно?
— У нас была Надежда Константиновна… По нашему советскому обычаю, пошли сниматься.
В дверях столовой показалась Соня:
— Иди, иди! Есть хочу, обедаем.
— Все вместе сегодня? Вот роскошное житье!
Семья собиралась за столом не часто. У каждого был свой труд, свои заседания, друзья и встречи. Соня уходила на работу раньше всех. Бывали дни, когда Таня совсем не видела ее. Может быть, поэтому девочка жила с молоденькой мачехой в большом согласье. Но чувство любви к ней было совсем иным, чем к отчиму. Если б тоненькая Соня, с ее милым лицом, простой, неяркой шутливостью, с ее неуменьем долго страдать или сердиться, вдруг исчезла из Таниной жизни, девочка горевала бы сильно. Утрату Сони она перенесла бы трудней, чем исчезновенье из совместной жизни родной матери. И все же горе не было бы столь глубоко, не образовало бы такой, всю жизнь ощутимой недостачи, как при утрате Александра Андреевича. Сама Таня об этом никогда не думала. Александр Андреевич вдруг понял это сейчас, встретив доверчивый, сияющий взгляд дочери.
— Папа, что такое «грех»?
Он машинально переспросил:
— Грех? Разве ты не знаешь?
И вдруг осознал всю значительность этого незнанья. Таня выросла без религии, как и без родителей по плоти. Она совсем новый человек в новой стране.
— Разве в книжках ты не читала?
— Я как-то не замечала в них такого слова. А сегодня Нинка говорит: грех тебе будет.
Подыскивая выраженья, Александр Андреевич не очень ясно объяснил:
— Грех — понятие религиозное. По установкам нашей морали, грех — это преступленье перед революцией, перед классом.
— Эта Нинка — просто злая дрянь! Тварь я буду, если мне когда-нибудь можно будет сказать: грех тебе.
Соня сморщила маленький чистый лоб.
— Таня, выбирай выраженья…
Александр Андреевич перестал слышать их разговор. Он думал:
«Мы совершили не только физическую и экономическую революцию. Мы совершили уже психологическую. Этих детей трудно возвратить в мир капиталистических понятий». Он подумал и о том, что в его привязанности к девочке была доля самопохвалы, высокая оценка способности любить чужого ребенка, как своего собственного. Вот именно этого понятья «собственный» для девочки не существовало никогда. Она не знала не только собственных домов, она не знала даже долголетних квартир. Она не знала времени, когда семья, свой род служил противопоставленьем чужому. Она не знала, что такое кровные узы. Она многого не знала, что считалось естественным или неестественным еще так недавно. Но чувствует она совершенно естественно и цельно. Этот человек охранял мое детство, воспитывает, учит, живет со мной, я его люблю, — он мой отец. Тем труднее будет ей объяснить, что если он и ошибся, то не враг он ей. Большая область старого бытия, отложившего на нем свой пленительный и злой груз, ей непонятна. Как всякий совершенно новый человек, она мыслит прямолинейно. И вообще, черт знает как трудно теперь с детьми! Присущий всему молодому эгоцентризм, конечно, действителен и для них, как был присущ самому Александру Андреевичу в отрочестве и юности. Но они его как-то сочетают с непререкаемым авторитетом родителей и учителей. Да, если эти родители и учителя — их единомышленники. Таня в некоторых отношениях — ребячливая двенадцатилетняя девочка прошлого. Но именно во внутренних своих установках она устойчива не по-детски. Чувство ответственности перед коллективом у них велико. Пресловутое чувство локтя! Раньше дети были другими несомненно. Ему тяжело оскорбить ее любовь к нему не только потому, что привык он к этой любви. Ему тяжело оскорбить в ней именно этого нового человека. Александр Андреевич отодвинул тарелку и закурил. Соня укоризненно потянула его за рукав.
— Что это ты? Почему не ешь?
— Не хочу, дайте чаю. Голова болит.
Жена просительно улыбнулась:
— Если можно, вызови машину, прокатимся на часок за город. Тебе надо освежиться.
Александр Андреевич нахмурился, скулы его чуть порозовели. Он подумал со страшным злорадством:
«Вот завтра вам покажут машину!»
Но вслух он сдержанно сказал:
— Не могу. Я буду работать. А Сычева не пускайте ко мне, если придет.
Таня покачала головой!
— Да, его не пустишь! Он упрямый, как наш Кимка Шмидт. Папа, ведь Второй съезд РСДРП состоялся в Лондоне, в тысяча девятьсот третьем году! А Кимка засыпался, в тысяча девятьсот втором, из самолюбья так на своем и стоит.
— А ты вот из самолюбья хвастаешься шпаргалочными сведеньями. Ведь истории прошлого совсем не знаешь. Ну-ка, скажи, про крепостное право ты что-нибудь знаешь?
— Знаю. Это когда Петр Великий…
Александр Андреевич усмехнулся:
— Из всего прошлого ты, кажется, про Петра Великого только слышала.
Таня покачала головой:
— Как не так!.. А еще Николай, которого мы свергли. Еще какие-то были… крестьянам волю без земли. Нет, вообще, папа, я неплохо учусь. Но, конечно, про всех про Николаев да Людовиков устанешь читать. Нам нужно партитурное чтенье. Так нам сказал…
Соня засмеялась. Александр Андреевич ласково смазал Таню рукой по лицу:
— Глупа ты еще, девица! Партитурное.
И, как будто в Таниных смутных знаниях по истории таилось для него какое-то облегченье, он взглянул на девочку светлей. Он встал, чтобы уйти, но невольно задержался. Сегодня он боялся одиночества. Домашняя работница, Елена Михеевна, принесла чай. Соня услужливо освободила конец стола. Она всегда немного робела перед этой сухощавой светло-русой женщиной с темными, горячими глазами. А Таня ее не любила. Она переносила присутствие Елены Михеевны, как неизбежную непогоду. Поворчит да скроется. И Елена Михеевна враждовала с Таней. Она никак не могла сердцем принять, что «чужеродное дитя» занимает столь большое место в семье. Но недружелюбье свое начала проявлять открыто недавно, после одного горячего спора с девочкой о боге. Тогда Александр Андреевич недовольно посоветовал дочери:
— Ну ты, воинствующая безбожница, учись подходить к людям…
В их быту и еда, и чистота, и целость одежды зависели от большой старательной работы Елены Михеевны. Александр Андреевич говорил, что, если она их покинет, им останется одно: переселиться в асфальтовый котел, на иждивение к беспризорникам. И Елена Михеевна ценила его бережное отношение к себе. Она увидела, что сегодня он чем-то огорчен, устал, чувствует себя больным. Подавая ему стакан крепкого горячего чая, как он любил, Елена Михеевна ласково сообщила:
— Сычев приходил, я в комнаты не допустила. Вам отдохнуть надо. Я сказала: «Хозяев нет, и не пущу».
Таня враждебно, хотя стараясь выговаривать не особенно внятно, проговорила:
— «Не допустила», «хозяев». Скоро у нас будет, как в «Крокодиле» напечатано: «Барин на ячейку ушли».
Щеки у Елены Михеевны вспыхнули:
— Меня, Танечка, переучивать поздно. Я старый человек. И довольно некрасиво с вашей стороны.
Таня постаралась смолчать, но, встретив сухой взгляд нелюбимых глаз, не смогла:
— И старой вы себя не считаете. Как собираетесь куда, так сколько времени перед зеркалом… Потом и старее люди есть, а бога им не надо.
Соня с упреком спросила:
— Таня, это что такое?
Александр Андреевич крикнул сердито:
— Замолчи сейчас же!
Елена Михеевна шумно собирала со стола грязные тарелки. В глазах у нее выступили слезы, голос пресекался:
— Они еще жизни не знают. Попрекают меня, что не могу от веры в бога отказаться. Ну, не могу и не могу! Их еще на свете не было, когда мне, кроме бога, некому было пожаловаться. Я за советскую власть хоть на смерть пойду, а вот бога не могу отрицать… Они думают, что, если я кухарка…
— Да разве я про это говорю? Я про вашего бога. Про кухарку Ленин сказал…
— Ленин всякого трудящегося человека уважал, а вы на готовенькое пришли, а домашних работниц считаете все равно что грязь…
— Неправда! Неправда же!
— Таня!
Александр Андреевич выговорил устало:
— Елена Михеевна, успокойтесь. Все это пустяки.
— Для меня не пустяки. Хоть и бог для меня — не пустяки, но и советская власть не пустяки! Я при этой власти вторую ступень на курсах кончаю, а прежде…
— А я про что говорю? Вы теперь больше меня, может быть, прошли, а все богу молитесь…
— Я не знаю, что вы в школе прошли, а дома трудящихся презираете. Я вас просила на пол карандаши не очинять и бумажки не раскидывать…
— Да я подберу, сама подмету! Я сама себе все должна… Елена Михеевна! Ну, если я за ней побегу, она еще больше запсихует.
Александр Андреевич удержал ее за плечо:
— Ладно, сиди. Откуда, действительно, у тебя такой тон? А?
Соня неожиданно улыбнулась.
— Уж очень ты ее зеркалом обидела. И, главное, зря. Она не кокетка. Недавно представлялся случай выйти замуж, никак не хочет. Терпеть не может мужчин!
Таня упрямо покачала головой:
— Лучше бы она бога не терпела, а завела себе пятерых мужьев. От мужьев только ей забота, а от бога кругом — предрассудки.
Соня уже не сдержала звонкого смеха:
— Пятерых! Таня!
Сумрачно усмехнулся и Александр Андреевич, но девочка, глотая слезы, поперхнулась. Подняв на отчима блестящий от слез, но твердый взгляд, она сказала:
— У меня, может быть, грипп. Что-то глаза слезятся. И вообще весь день неудачный.
Таня быстро выбежала из комнаты. Соня пошла за ней. Александр Андреевич забарабанил пальцами по столу. Какие неудачные дни еще ждут бедную девочку! Он вспомнил первую встречу с ребенком. Тане шел от роду третий год. С ее матерью, Натальей Сергеевной, тогда его женой, он в первый раз пришел к шш на квартиру. Электричество было испорчено. Комнату освещал слабый свет оплывшей свечи, воткнутой в бутылку. Нянька готовила в кухне чай. Девочка сидела в большом кресле одна. Большими безбоязненными глазами она следила за темными тенями в глубине комнаты. Ее часто оставляли одну, и она привыкла не бояться ни темноты, ни тишины. Мать взяла ее на руки, осыпала горячими виноватыми поцелуями и поднесла к Александру Андреевичу:
— Вот твой отец.
Девочка покачала непричесанной головкой и заявила степенно:
— У меня отца нет.
Наталья Сергеевна засмеялась и всхлипнула, снова принялась ее целовать:
— Не было! А теперь есть! Мы будем жить втроем, жить очень, очень хорошо!
В дверь постучали. Пришел монтер. Мать опустила девочку на пол и заговорила с ним. Вдруг Таня дернула ее за платье. Наталья Сергеевна наклонилась к ней:
— Что, детка, что?
Ребенок спросил спокойно и громко, указывая на монтера:
— Мама, это тоже отец?
Очевидно, ей казалось естественным, что из необычной сегодняшней темноты должны являться неведомые отцы. Александр Андреевич посадил ее к себе на колени. Она долго внимательно смотрела ему в рот, когда он говорил с ней. Потом девочка потрогала своим пальчиком его губы и спросила:
— А где ты был, когда тебя не было?
При этом воспоминании сердце Александра Андреевича сжалось от нежности и тоски. Он сам не понял, что сказал в ответ вошедшей Соне.
3
Прошла неделя. Пионеры писали письмо Максиму Горькому. Как во всех ответственных письменных выступлениях организации, руководил Игорь Серебряков. Широко расставив руки, он почти лежал на столе. Правая щека у него была запачкана чернилами. Левой рукой он разглаживал наморщенный потный лоб. Долго стоял спор о том, как обращаться к Алексею Максимовичу: на «ты» или на «вы». Игорь убеждал:
— Он для нас все равно партиец. А потом даже у буржуазного поэта пустое «вы», а сердечное «ты».
Из-за спины Игоря тоненьким, рассудительным голоском Леонтина Кочергина поправила его:
— Так это же романс, он еще обидится.
Игорь с сердцем отодвинул ее локтем:
— Не дыши в ухо, романс! Зачем вчера кудри завила?
Темноволосая девушка, из-за стройности казавшаяся выше своего среднего роста, строго придержала его за локоть:
— Что за грубости в пионерской среде, Игорь?
— Ничего не грубости, а дайте же посоветоваться! Если на «вы», то как же выйдет: «Мы вас любим, потому что верим…» Гораздо тверже выходит: «Мы тебя любим, потому что верим тебе целиком и полностью».
Таня громко крикнула:
— Нет, нет! Слишком интеллигентски: любим, верим. Может, лучше выйдет: «Мы прислушиваемся к каждому твоему слову…»
Игорь сердито пробормотал:
— Что тут прислушиваться, уж зря не скажет!
Ким ядовито спросил:
— А ты разве его не любишь?
Таня, зардевшись сердитым румянцем, встала со своего места и подошла к мальчикам. Она не любит самого большого пролетарского писателя, своего писателя!
— Как ты смеешь меня оскорблять?
Ким не был по натуре злым, но ему доставляло удовольствие дразнить Таню. Она, во всем искренняя, сердилась горячо. Сейчас он и не подумал о том, какую боль он причинит девочке.
Он потянул ее за платье и сказал насмешливо и громко:
— Ничего удивительного! У тебя с папочкой, кажется, другие вкусы.
Чувствуя, что над ней сбывается какое-то несчастье, Таня испугалась этого внезапного напоминанья о «папочке». Пожалуй, в первый раз за свою сознательную жизнь она не решилась потребовать объяснения. Она стояла около Игоря, постепенно бледнея и не зная, что ей делать. Та же высоконькая, темноволосая девушка Лиза, что запретила Игорю грубить Леонтине, подошла к Тане. Она стала перед ней почти вплотную, как бы желая закрыть ее от глаз детей.
— Товарищи, Таня Русанова — наш ничем не опороченный товарищ. Она сама сделает нужные выводы. Она сама сообщит нам о деле своего отца. Ким, травить отцом не только преждевременно, а вообще…
Таня переспросила почти беззвучно:
— Травить моим отцом?
Девушка повернула ее за плечи, сердито шепча:
— Ты не читала сегодня «Правды»?
Хрупкая, оттого сладчайшая, надежда на короткое время облегчила сердце Тани: «Ребята берут меня на пушку, что б я ежедневно газеты читала». Проходя около Кима, она даже сказала ему неуверенно задорным голоском:
— А ты знаешь, отчасти ты дурак.
— То есть как же это?
— Вообще.
Вспомнив об этом, теперь она еще ниже опустила голову. Игорь хмуро подал ей «Правду». Они заперлись в маленькой комнате, где обычно работала редакция школьной газеты. Их было пятеро. Пионервожатый Лиза, Игорь, Таня и братья Крицкие, очень похожие друг на друга близнецы, оба активисты. Игорь увидел, что Таня от волнения плохо разбирает строки. Он почему-то пониженным голосом рассказал ей содержание:
— В ущерб государственным интересам он стремился сохранить свое хозяйство. Ну, понятно, не свое личное! Совхозы своего треста. Вообще, я полагаю, трестовиков надо почаще проверять. Работа такая… хозяйственная. Ну, понятно, не растратчик он! Личная корыстная заинтересованность не отмечается в постановлении. Но, видишь, он оставил в совхозах скрытый хлеб. На прокорм для своего трестовского совхозного скота. А государство? Понимаешь, тут всякие могут быть мотивы! Вообще, понимаешь, явный оппортунист.
Внешне Таня казалась спокойной. Руки ее сразу перестали дрожать. Серые глаза смотрели в лица товарищей сурово и прямо. Только сквозь тонкую кожу лица не видно стало ни кровинки, побелели и губы. Но ей казалось, что она дрожит, так беспокойно приливала к сердцу кровь. Все волновавшие девочку разнообразные чувства в мыслях выливались в одно: «Уцелеет или не уцелеет?»
И ни на одно мгновение, ни в каком темном инстинкте ни разу не сказалась эта мысль как боязнь за служебное положение отца или страх грозящей материальной необеспеченности. Таня естественным считала, что ее, невзрослую, кормят и одевают. Она была убеждена, что всегда накормят и оденут. Начальнические и неначальнические ранги для нее были равны. Александр Андреевич с малолетства не позволял ей пользоваться его общественными преимуществами. Он доходил в этом до мелочности. Девочку, как и жену его, никогда и никуда не возили на его трестовской машине. Лишь иногда, когда он слишком уставал и на какой-нибудь час ездил сам за город, он брал их с собой. Однажды Таня попросила у него для школы из треста фанеры. Отец сильно рассердился:
— Не разыгрывай из себя ответственной дочери! Таким путем твоя школа от меня никогда ничего не получит.
В этом сказывалась и показная строгость к себе как к начальнику. Но для Тани такие правила были благотворны. Она знала, что не все живут хорошо в бытовом отношении. Но, не испытав нужды, не думала о ней и не боялась даже ее. Свое «уцелеет» на относила лишь к одному: «Оставят ли отца членом партии», большее число часов своей жизни девочка проводила в коллективе. И семья их не была замкнутой в тесном мире личного сообщества. Беспартийный представлялся ей каким-то хилым единоличником в общественной жизни. Как же отец, папа, станет таким? Не может быть, не бывает! Нет, нет, не будет так! Разве то можно? Вообще все происходило, как во сне. И дома, и улицы, и дверь в квартиру, такая знакомая, показались ей нереальными. Молодое, свежее сердце отказывалось верить тоске. Впустив Таню, Елена Михеевна укоризненно сказала ей:
— Что это у вас чулки спустились, как у тетки? Подтяните.
Ворчливое замечание Елены Михеевны, столь привычное в ее обращении с девочкой, вызвало у Тани впервые в жизни тоску о прошедшем. Даже малоприятное показалось ей милым в нем. Пускай бы только все осталось, как было! Вечно женственным движением она туго натянула чулки, держась очень прямо, вола в комнату; Александр Андреевич, серый лицом, с беспокойными глазами, зачем-то встал ей навстречу, потом торопливо и ненужно сел на другой стул. Соня плакала у окна. Обычно слезы ней высыхали быстро, а теперь нос распух. Давно плачет. По комнате, легко нося длинное тело, ходила Танина мама, Наталья Сергеевна. Как-то всегда случалось так, что приходила она к Русановым во дни неприятностей или с собой приносила печаль. Она не чувствовала себя удовлетворенной ни личной жизнью, ни искусством. Оттого часто страдала искренне и тяжело для окружающих. От нее и пахло всегда печальными духами и вином, как от увядающих в стакане цветов. На ходу она поцеловала дочь. Ощутив этот знакомый запах, Таня совсем сникла. Бледненькая и очень усталая, она прижалась к дверному косяку. Александр Андреевич спросил ее несколько хрипло:
— Ну?
Таня, потупившись, молчала. Простым, добрым сердцем Соня поняла, какое большое крушение доверия, надежд и понятий проводит сейчас в душе девочки. Эти внезапно бледнеющие, потускневшие детские лица, что может быть горше! Она быстро подошла, хотела обнять и увести девочку, но Таня еще судорожнее уцепилась за косяк. Александр Андреевич неловко закурил и заговорил неохотно, нервно:
— Будет разыгрывать из себя малютку. Если ты хочешь что-нибудь сказать или спросить, так спрашивай.
Наталья Сергеевна рассердилась:
— Да что вы, действительно? О чем с ней разговаривать? Она же, конечно, еще малютка. Иди, Таня, умойся и полежи. Не твое дело — судить отца.
Таня резко повернулась к матери:
— Как не мое? Я ему никогда не говорила неправды! И все ребята наши знают, что я немедленно засыплюсь, если солгу. А ты зачем же мне все неправду говорил?
Сердито откашлявшись, Александр Андреевич постарался говорить возможно ровней и суше:
— Я учил тебя всегда говорить правду, я! И тебе я не лгал, и вообще не лживый человек. Но ты меня поймешь только тогда, когда к тебе придут свои сложности.
Долго сдерживаемые слезы вдруг прорвались у Тани. Они сразу обильными струями потекли по лицу. Она торопливо вытерла их о плечо и обеими руками.
— А… у меня разве их нет? Лиза Борщенкова… от пионеров вызвала отца на соревнование. Он слесарь и плохо работал. А он взял да изругался, нехорошо ругался, и лист не подписал, а изорвал. И даже ударил ее. Она и говорит: «Товарищи, как же я с ним буду жить?» А если б… ты лучше меня ударил, а ты сам всадился… в оппортунисты.
Наталья Сергеевна всплеснула руками:
— Это чудовищно! Взрослые отвечают за вас, а не вы за них. Как ты смеешь?
Громко всхлипнув, Таня отозвалась уже спокойнее и строже:
— Мы все друг за друга отвечаем. Мы не капиталисты, чтобы вразброд…
4
Эти два месяца были тяжелыми для Тани. Отца не лишили партийного билета. Ему дали безвыездный и неизвестно на какой срок отпуск. На собраниях, в учреждениях и в профсоюзах обсуждали его поведение. В газетах почти ежедневно было укоризненное упоминание о Русанове. Александр Андреевич похудел. В волосах его выступила явная седина. Но, узнав, что из партии его не исключают, он значительно успокоился. Чтоб как-нибудь убить тяжкий досуг, он усиленно занимался английским языком, математикой и много читал даже из беллетристики. Многое он и передумывал за это время. Особенно после разговора с Таней, когда он старался ей объяснить известное его возрасту положение, что не ошибаются только равнодушные. Девочка его не поняла. Он размышлял, почему не поняла. И, будучи честным, увидел, что корни его ошибки глубже, чем в словесных объяснениях. Таня чует это. Она чувствует, что все же он считает себя, по существу, правым. А ее закон — прям. Если ты уличен в неправоте и все-таки считаешь себя правым, — значит, ты враг. В чем же его неправота? Он искал и находил в себе многое, уже ненужное и даже вредное этому новому, Таниному миру. Оно таилось иногда в мелочах: в еле уловимых оттенках славянофильства; в любви к дико тоскливым проголосным русским песням, нагнетающим вялую скорбь, в том, что ему нравился мужик типа толстовского Платона Каратаева, иногда становилось жалко прежней, невозделанной русской шири, оттого, что иногда взгляд его становился радостным при виде кривой, маломощной, ветряной мельницы на опушке заросшего леса. Все эти обвинения, выраженные в словах, звучали тупо. Казалось, даже снижали красочность мира и жизни. Тем не менее он понял, что пионерам совершенно нового бытия являются врагами иногда и простой мирный пейзаж, и высокое в своей первооснове чувство любви ко всем людям. С Таней об этом не говорил. Сложность всех этих переживаний была, конечно, еще недоступна ей. Отношенья у них установились ровные, но как будто между ними встала прозрачная, а все же перегородка. Отчетливо это сказывалось в том, что Таня теперь скупо рассказывала ему о делах своей пионерской организации, а раньше надоедала ими. И вообще она сделалась как-то сразу взрослее. Мир уже вставал перед ней не четко разграниченным, а в сложном переплете света и теней. Случай с отцом научил ее видеть многое, чего девочка раньше просто не замечала.
Наконец, через два месяца, Александр Андреевич получил направление на новую работу. Его послали за границу на торговую работу. Соню не отпустил Московский комитет партии, и Александр Андреевич уезжал один. В день отъезда пришла провожать и Наталья Сергеевна. Она размахивала каким-то листком:
— Знаешь, твое назначение очень удачно. Там пойдет моя опера. И ты мне поможешь. Я — советский композитор. Придется выступать и с речами.
Таня замахала руками:
— Ой, мама, не надо! Брякнешь еще что-нибудь мелкобуржуазное. Ты лучше здесь поговоришь, мы поправим.
Все засмеялись, а Александр Андреевич сказал:
— Ну, вот и приезжай ее там поправлять. Приедешь, а? Ты ведь меня не забудешь?
Таня подняла на него свои искренние глаза и сказала совсем тихо:
— Я бы тебя и тогда не забыла, папа. Только моя жизнь тогда стала бы несчастливая.
Он понял, что она хотела сказать этим «тогда» и как оно еще страшит ее в воспоминаниях. Он крепко поцеловал ее, с влажно блеснувшими глазами. Когда девочка зачем-то вышла из комнаты, он попросил старших женщин:
— Берегите девчонку. А ты особенно, Наталья Сергеевна, иногда уж очень к ней неумело подходишь. Ты не права, они имеют право судить нас, им жить по нашим установкам. Для них мы возводим леса…
Увидев возвратившуюся Таню, он весело закончил:
— Вот и вознаграждают нас они то красным галстуком почетного пионера, то рогожным знаменем.
Летом Таня поехала к отцу за границу. Накануне вечером они гуляли с Игорем по Москве. Игорь наставительно говорил:
— Без дела не вылезай, там пионеры в жестких тисках. Но все-таки не забывай и об организации. А то ведь вы, женщины, там шляпки, тряпки, ах, крепдешин дешевый.
Таня укоризненно покачала головой:
— Ну, что ты, Игорь, разве я такая?
Игорь взглянул искоса на чистую, ровную линию лба и носа, увидел сразу и легкую походку, и яркий серый глаз. Сердце у него учащенно забилось. Девочка остановилась. Они пришли к ее дому. Игорь крепким пожатием взял ее руку и сказал взволнованно и хмурясь:
— Нет, ты не такая. Ты хорошая. И вообще для меня — самая хорошая из женщин. И всегда будешь самая лучшая…
Таня покраснела и осторожно потянула свою руку. Игорь круто повернулся и пошел. Не оглядываясь, он крикнул:
— Так завтра, на вокзале! С дороги обязательно напиши мне!
Он скрылся за углом. Девочка постояла, посмотрела ему вслед и ушла. Только что скрылась она в дверях подъезда, из-за угла снова вышел Игорь. Он посмотрел на опустевшую панель с ощущением сладостной боли, с тем чувством, которое осознается лишь в зрелости, а в первоначальной своей чистоте никогда не повторится.
Игорь получил письмо от Тани с дороги. Множество кривых, написанных карандашом строк лепилось на небольшом листе. Содержание его тоже было беспорядочно. Между прочим, она писала:
«Игорь, обязательно учи языки, хорошенько учись, всех ребят заставляй! У меня какой нехороший случай вышел. Дипкурьер, с которым я еду, не захотел завтракать. Я пошла с билетиком в ресторан одна. Села, понимаешь, а ихний подавальщик в форме не подает мне есть, а все чего-то говорит, говорит. Я сижу, а все на меня смотрят, хоть провалиться. Сижу, краснею, краснею и не знаю, что делать. Потом какой-то заграничный дядька, немножечко знающий по-русски, объяснил мне, что у меня билетик на второй завтрак. А то сижу, сердце ноет, мучительно вспоминаю: дер офен, дас фенстер, ди диле, а у самой даже спину ломит. Пожалуйста, учитесь! Зачем давать мировой буржуазии возможность смеяться над нами?!»
Совсем сбоку мелкими буковками было приписано: «Ты для меня тоже очень хороший».
1934

Лидия Сейфуллина. «Таня»
Художник И. Пчелко.
АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ
ФРО[65]
Он уехал далеко и надолго, почти безвозвратно. Паровоз курьерского поезда, удалившись, запел в открытом пространстве на расставание; провожающие ушли с пассажирской платформы обратно к оседлой жизни, появился носильщик со шваброй и начал убирать перрон, как палубу корабля, оставшегося на мели.
— Посторонитесь, гражданка! — сказал носильщик двум одиноким полным ногам.
Женщина отошла к стене, к почтовому ящику, и прочитала на нем сроки выемки корреспонденции: вынимали часто, можно писать письма каждый день. Она потрогала пальцем железо ящика, оно было прочное, ничья душа в письме не пропадет отсюда.
За вокзалом находился новый железнодорожный город: по белым стенам домов шевелились тени древесных листьев, вечернее летнее солнце освещало природу и жилища ясно и грустно, точно сквозь прозрачную пустоту, где не было воздуха для дыхания.
Накануне ночи в мире все было слишком отчетливо видно, ослепительно и призрачно, — он казался поэтому несуществующим.
Молодая женщина остановилась от удивления среди столь странного света; за двадцать лет прожитой жизни она не помнила такого опустевшего, сияющего, безмолвного пространства, она чувствовала, что в ней самой слабеет сердце от легкости воздуха, от надежды, что любимый человек приедет обратно. Она увидела свое отражение в окне парикмахерской: наружность пошлая, волосы взбиты и положены волнами (такую прическу носили когда-то в девятнадцатом веке), серые, глубокие глаза глядят с напряженной, словно деланной нежностью, — она привыкла любить уехавшего, она хотела быть любимой им постоянно, непрерывно, чтобы внутри ее тела, среди обыкновенной скучной души, томилась и произрастала вторая милая жизнь. Но сама она не могла любить, как хотела, — сильно и постоянно; она иногда уставала и тогда плакала от огорчения, что сердце ее не может быть неутомимым.
Она жила в новой трехкомнатной квартире; в одной комнате жил ее вдовый отец — паровозный машинист, в двух других помещалась она с мужем, который теперь уехал на Дальний Восток настраивать и пускать в работу таинственные электрические приборы. Он всегда занимался тайнами машин, надеясь посредством механизмов преобразовать весь мир для блага и наслаждения человечества или еще для чего-то, жена его точно не знала.
По старости лет отец ездил редко. Он числился резервным механиком, заменял заболевших людей, работая на обкатке паровозов, вышедших из ремонта, или водя легковесные составы ближнего сообщения. Год тому назад его попробовали перевести на пенсию. Старик, не зная, что это такое, согласился, но, прожив четыре дня на свободе, на пятый день вышел за семафор, сел на бугор в полосе отчуждения и просидел там до темной ночи, следя плачущими глазами за паровозами, тяжко бегущими во главе поездов. С тех пор он начал ходить на тот бугор ежедневно, чтобы смотреть на машины, жить сочувствием и воображением, а к вечеру являться домой усталым, будто вернувшись с тягового рейса. На квартире он мыл руки, вздыхал, говорил, что на девятитысячном уклоне у одного вагона отвалилась тормозная колодка или еще случилось что-нибудь такое, затем робко просил у дочери вазелина, чтобы смазать левую ладонь, якобы натруженную о тугой регулятор, ужинал, бормотал и вскоре спал в блаженстве. Наутро отставной механик снова шел в полосу отчуждения и проводил очередной день в наблюдении, в слезах, в фантазии, в сочувствии, в неистовстве одинокого энтузиазма. Если, с его точки зрения, на идущем паровозе была неполадка или машинист вел машину не по форме, он кричал ему со своего высокого пункта осуждение и указание: «Воды перекачал! Открой кран, стервец! Продуй!», «Песок береги: станешь на подъеме! Чего ты сыплешь его сдуру?», «Подтяни фланцы, не теряй пара: что у тебя — машина или баня?» При неправильном составе поезда, когда легкие пустые платформы находились в голове и в середине поезда и могли быть задавлены при экстренном торможении, свободный механик грозил кулаком с бугра хвостовому кондуктору. А когда шла машина самого отставного машиниста и ее вел его бывший помощник Вениамин, старик всегда находил наглядную неисправность в паровозе — при нем так не было — и советовал машинисту принять меры против его небрежного помощника: «Веньяминчик, Веньяминчик, брызни ему в морду!» — кричал старый механик с бугра своего отчуждения.
В пасмурную погоду он брал с собой зонт, а обед ему приносила на бугор его единственная дочь, потому что ей было жалко отца, когда он возвращался вечером худой, голодный и бешеный от неудовлетворенного рабочего вожделения. Но недавно, когда устаревший механик, по обычаю, орал и ругался со своей возвышенности, к нему подошел парторг депо товарищ Пискунов; парторг взял старика за руку и отвел в депо. Конторщик депо снова записал старика на паровозную службу. Механик влез в будку одной холодной машины, сел у котла и задремал, истощенный собственным счастьем, обнимая одной рукою паровозный котел, как живот всего трудящегося человечества, к которому он снова приобщился.
— Фрося! — сказал отец дочери, когда она вернулась со станции, проводив мужа в дальний путь. — Фрося, дай мне из печки чего-нибудь пожевать, а то как бы меня ночью не вызвали ехать…
Он ежеминутно ожидал, что его вызовут в поездку, но его вызывали редко — раз в три-четыре дня, когда подбирался сборный, легковесный маршрут либо случалась другая нетрудная нужда. Все-таки отец боялся выйти на работу несытым, неподготовленным, угрюмым, поэтому постоянно заботился о своем здоровье, бодрости и правильном пищеварении, расценивая сам себя как ведущий железный кадр.
— Гражданин механик! — с достоинством и членораздельно говорил иногда старик, обращаясь лично к себе, и многозначительно молчал в ответ, как бы слушая далекую овацию.
Фрося вынула горшок из духового шкафа и дала отцу есть. Вечернее солнце просвечивало квартиру насквозь, свет проникал до самого тела Фроси, в котором грелось ее сердце и непрерывно срабатывало текущую кровь и жизненное чувство. Она ушла в свою комнату. На столе у нее была детская фотография ее мужа: позже детства он ни разу не снимался, потому что не интересовался собой и не верил в значение своего лица. На пожелтевшей карточке стоял мальчик с большой, младенческой головой, в бедной рубашке, в дешевых штанах и босой; позади него росли волшебные деревья и в отдалении находились фонтан и дворец. Мальчик глядел внимательно в еще малознакомый мир, не замечая позади себя прекрасной жизни на холсте фотографа. Прекрасная жизнь была в самом этом мальчике с широким, воодушевленным и робким лицом, который держал в руках ветку травы, вместо игрушки, и касался земли доверчивыми голыми ногами.
Уже ночь наступила. Поселковый пастух пригнал на ночлег молочных коров из степи. Коровы мычали, просясь на покой к хозяевам; женщины, домашние хозяйки, уводили их ко двору, — долгий день остывал в ночь; Фрося сидела в сумраке, в блаженстве любви и памяти к уехавшему человеку. За окном, начав прямой путь в небесное счастливое пространство, росли сосны, слабые голоса каких-то ничтожных птиц напевали последние, дремлющие песни, сторожа тьмы, кузнечики, издавали свои короткие мирные звуки — о том, что все благополучно и они не спят и видят.
Отец спросил у Фроси, не пойдет ли она в клуб: там сегодня новая постановка, бой цветов и выступление затейников из кондукторского резерва.
— Нет, — сказала Фрося, — я не пойду. Я по мужу буду скучать.
— По Федьке? — произнес механик. — Он явится: пройдет один год, и он тут будет… Скучай себе, а то что ж! Я, бывало, на сутки, на двое уеду, твоя покойница мать и то скучала: мещанка была!
— А я вот не мещанка, а скучаю все равно! — с удивлением проговорила Фрося. — Нет, наверно, я тоже мещанка…
Отец успокоил ее:
— Ну, какая ты мещанка!.. Теперь их нет, они умерли давно. Тебе до мещанки еще долго жить и учиться нужно: те хорошие женщины были…
— Папа, ступай в свою комнату, — сказала Фрося. — Я тебе скоро ужинать дам, я сейчас хочу быть одна…
— Ужинать сейчас пора! — согласился отец. — А то кабы из депо вызывальщик не пришел: может, заболел кто, либо запьянствовал, или в семействе драма-шутка, мало ли что. Я тогда должен враз явиться: движение остановиться никогда не может!.. Эх, Федька твой на курьерском сейчас мчится, зеленые сигналы ему горят, на сорок километров вперед ему дорогу освобождают, механик далеко глядит, машину ему электричество освещает, — все как полагается!..
Старик мешкал уходить, топтался и бормотал свои слова дальше: он любил быть с дочерью или с другим человеком, когда паровоз не занимал его сердца и ума.
— Папа, ступай ужинать! — велела ему дочь; она хотела слушать кузнечиков, видеть ночные сосны за окном и думать про мужа.
— Ну, на дерьмо сошла! — тихо сказал отец и удалился прочь.
Накормив отца, Фрося ушла из дому. В клубе шло ликование. Там играла музыка, потом слышно было, как пел хор затейников из кондукторского резерва: «Ах ель, что за ель! Ну что за шишечки на ней!», «Ту-ту-ту-ту: паровоз, ру-ру-ру-ру: самолет, пыр-пыр-пыр-пыр: ледокол… Вместе с нами нагибайся, вместе с нами подымайся, говори ту-ту, ру-ру, шевелися каждый горб, больше пластики, культуры, производство наша цель!..»
Публика в клубе шевелилась, робко бормотала и мучилась, ради радости, вслед за затейниками.
Фрося прошла мимо; дальше уже было пусто, начинались защитные посадки по сторонам главного пути. Издали, с востока, шел скорый поезд, паровоз работал на большой отсечке, машина с битвой брала пространство и светила со своего фронта вперед сияющим прожектором. Этот поезд встретил где-то курьерский состав, бегущий на Дальний Восток, эти вагоны видели его позже, чем рассталась Фрося со своим любимым человеком, и она теперь с прилежным вниманием разглядывала скорый поезд, который был рядом с ее мужем после нее. Она пошла обратно к станции, но пока она шла, поезд постоял и уехал; хвостовой вагон исчез во тьму, забывая про всех встречных и минувших людей. На перроне и внутри вокзала Фрося не увидела ни одного незнакомого, нового человека — никто из пассажиров не сошел со скорого поезда, не у кого было спросить что-нибудь про встречный курьерский поезд и про мужа. Может быть, кто-нибудь видел его и знает что!
Но в вокзале сидели лишь две старушки, ожидавшие полуночного поезда местного сообщения, и дневной мужик опять мел ей сор под ноги. Они всегда метут, когда хочется стоять и думать, — им никто не нравится.
Фрося отошла немного от метущего мужика, но он опять подбирался к ней.
— Вы не знаете, — спросила она его, — что, курьерский поезд номер второй, он благополучно едет? Он днем уехал от нас. Что, на станцию ничего не сообщали о нем?
— На перрон полагается выходить, когда поезд подойдет, — сказал уборщик. — Сейчас поездов не ожидается, идите в вокзал, гражданка… Постоянно тут публичность разная находится. Лежали бы дома на койках и читали газету. Нет, они не могут — надо посорить пойти…
Фрося отправилась по путям, по стрелкам — в другую сторону от вокзала. Там было круглое депо товарных паровозов, углеподача, шлаковые ямы и паровозный круг. Высокие фонари ярко освещали местность, над которой бродили тучи пара и дыма: некоторые машины мощно сифонили, подымая пар для поездки, другие спускали пар, остужаясь под промывку.
Мимо Фроси прошли четыре женщины с железными совковыми лопатами, позади них шел мужчина — нарядчик или бригадир.
— Кого потеряла здесь, красавица? — спросил он у Фроси. — Потеряла — не найдешь, кто уехал — не вернется… Идем с нами транспорту помогать!
Фрося задумалась.
— Давай лопату! — сказала она.
— На тебе мою, — ответил бригадир и подал женщине инструмент. — Бабы! — сказал он прочим женщинам. — Ступайте становиться на третью яму, я буду на первой…
Он отвел Фросю на шлаковую яму, куда паровозы очищали свои топки, и велел работать, а сам ушел. В яме уже работали две женщины, выкидывая наружу горячий шлак. Фрося тоже спустилась к ним и начала трудиться, довольная, что с ней рядом находятся неизвестные подруги. От гари и газа дышать было тяжело, кидать шлак наверх оказалось нудно и несподручно, потому что яма была узкая и жаркая. Но зато в душе Фроси стало лучше: она здесь развлекалась, жила с людьми — подругами и видела большую, свободную ночь, освещенную звездами и электричеством. Любовь мирно спала в ее сердце; курьерский поезд далеко удалился, на верхней полке жесткого вагона спал, окруженный Сибирью, ее милый человек. Пусть он спит и не думает ничего! Пусть машинист глядит далеко вперед и не допустит крушения.
Вскоре Фрося и еще одна женщина вылезли из ямы. Теперь нужно было выкинутый шлак нагрузить на платформу. Швыряя гарь за борт платформы, женщины поглядывали друг на друга и время от времени говорили, чтоб отдыхать и дышать воздухом.
Подруге Фроси было лет тридцать. Она зябла чего-то и поправляла или жалела на себе бедную одежду. Ее сегодня выпустили из ареста, она просидела там четыре дня по навету злого человека. Ее муж служит сторожем, он бродит с берданкой вокруг кооператива всю ночь, получает шестьдесят рублей в месяц. Когда она сидела, сторож плакал по ней и ходил к начальству просить, чтоб ее выпустили, а она жила до ареста с одним полюбовником, который рассказал ей нечаянно, под сердце (должно быть, от истомы или от страха), про свое мошенничество, а потом, видно, испугался и хотел погубить ее, чтоб не было ему свидетеля. Но теперь он сам попался, пускай уж помучается, а она будет жить с мужем на воле: работа есть, хлеб теперь продают, а одежду они вдвоем как-нибудь наживут.
Фрося сказала ей, что у нее тоже горе: муж уехал далеко.
— Уехал — не умер, назад возвернется! — утешительно сообщила Фросе ее рабочая подруга. — А я там, в аресте, заскучала, загорюнилась. Раньше не сидела, не привыкла, если б сидела, тогда и горя мало. А я уж всегда невинная такая была, что власть меня не трогала… Вышла я оттуда, пришла домой, муж мой обрадовался, заплакал, а обнимать меня боится: думает, я преступница, важный человек. А я такая же, я доступная… А вечером ему на дежурство надо уходить, таково печально нам стало. Он берет берданку: «Пойдем, говорит, я тебя фруктовой водой угощу». А у меня тоска идет, не проходит. Я ему велела сходить в буфет одному — пускай уж сладкой воды он один выпьет, а когда соберутся у нас деньги и отляжет от меня тюремная тоска, тогда мы сходим в буфет вдвоем. Сказала я ему, а сама пошла на пути, сюда работать. Может, думаю, балласт где подбивают, рельсы меняют, либо еще что. Хоть и ночное время, а работа всегда случается. Думаю, вот с людьми там побуду, сердцем отойду, опять спокойная стану. И правда, поговорила сейчас с тобой — как сестру двоюродную встретила… Ну давай платформу кончать — в конторе денег дадут, утром пойду хлеба куплю… Фрося! — крикнула она в шлаковую яму: там работала тезка верхней Фроси. — Много там осталось?
— Не, — ответила тамошняя Фрося, — тут малость, поскребыши одни…
— Лезай сюда, — велела ей жена берданочного сторожа. — Кончим скорей, вместе расчет пойдем получать.
Вокруг них с шумом набирались сил паровозы — для дальнего пути, или наоборот — остывали на отдых, испуская в воздух свое дыхание.
Пришел нарядчик.
— Ну как, бабы? Кончили яму?.. Ага! Ну, валите в контору, я сейчас приду. А там — деньги получите, — там видно будет: кто в клуб танцевать, кто домой — детей починать! Вам делов много!
В конторе женщины расписались. Ефросинья Евстафьева, Наталья Букова и три буквы, похожие на слово «Ева», с серпом и молотом на конце, вместо еще одной Ефросиньи, у которой был рецидив неграмотности. Они получили по три рубля двадцать копеек и пошли по своим дворам. Фрося Евстафьева и жена сторожа Наталья шли вместе. Фрося зазвала к себе домой новую подругу, чтобы умыться и почиститься.
Отец спал в кухне, на сундуке, вполне одетый, даже в толстом, зимнем пиджаке и в шапке со значком паровоза: он ожидал внезапного вызова либо какой-то всеобщей технической аварии, когда он должен мгновенно появиться в середине бедствия.
Женщины тихо справились со своими делами, немного попудрились, улыбнулись и ушли. Сейчас уже поздно было, в клубе, наверно, начались танцы и бой цветов. Пока муж Фроси спит в жестком вагоне вдалеке и его сердце все равно ничего не чувствует, не помнит, не любит ее, она точно одна на всем свете, свободная от счастья и тоски, и ей хотелось сейчас немного потанцевать, послушать музыку, подержаться за руки с другими людьми. А утром, когда он проснется там один и сразу вспомнит ее, она, может быть, заплачет.
Две женщины бегом добежали до клуба. Прошел местный поезд: полночь, еще не очень поздно. В клубе играл самодеятельный джаз-оркестр. Фросю Евстафьеву сразу пригласил на тур вальса «Рио-Рита» помощник машиниста.
Фрося пошла в танце с блаженным лицом: она любила музыку, ей казалось, что в музыке печаль и счастье соединены неразлучно, как в истинной жизни, как в ее собственной душе. В танце она слабо помнила сама себя, она находилась в легком сне, в удивлении, и тело ее, не напрягаясь, само находило нужное движение, потому что кровь Фроси согревалась от мелодии.
— А бой цветов уже был? — тихо, часто дыша, спросила она у кавалера.
— Только недавно кончился. Почему вы опоздали? — многозначительно произнес помощник машиниста, точно он любил Фросю вечно и томился по ней постоянно.
— Ах, как жалко! — сказала Фрося.
— Вам здесь правится? — спросил кавалер.
— Ну, конечно, да! — отвечала Фрося. — Здесь так прекрасно!
Наташа Букова танцевать не умела, она стояла в зале у стены и держала в руках шляпу своей ночной подруги.
В перерыве, когда отдыхал оркестр, Фрося и Наташа пили ситро и выпили две бутылки. Наташа только один раз была в этом клубе, и то давно. Она разглядывала чистое, украшенное помещение с кроткой радостью.
— Фрось, а Фрось! — прошептала она. — Что ж, при социализме-то все комнаты такие будут, ай нет?
— А какие же? Конечно, такие! — сказала Фрося. — Ну, может, немножко только лучше.
— Это бы ничего! — согласилась Наталья Букова.
После перерыва Фрося танцевала опять. Ее пригласил теперь маневровый диспетчер. Музыка играла фокстрот «Мой бэби», диспетчер держал крепко свою партнершу, стараясь прижаться своею щекою к прическе Фроси, но Фросю не волновала эта скрытая ласка, она любила далекого человека, сжато и глухо было ее бедное тело.
— Ну, как же вас зовут? — говорил кавалер среди танца ей на ухо. — Мне знакомо ваше лицо, я только забыл, кто ваш отец.
— Фро! — ответила Фрося.
— Фро?.. Вы не русская?
— Ну, конечно, нет!
Диспетчер размышлял.
— Почему же нет? Ведь отец ваш русский: Евстафьев!
— Неважно, — прошептала Фрося. — Меня зовут Фро!
Они танцевали молча. Публика стояла у стен и наблюдала танцующих. Танцевало всего три пары людей, остальные стеснялись или не умели. Фрося ближе склонила голову к груди диспетчера, он видел под своими глазами ее пышные волосы в старинной прическе, и эта ослабевшая доверчивость была ему мила и приятна. Он гордился перед народом. Он даже хотел ухитриться осторожно погладить ее голову, но побоялся публичной огласки. Кроме того, в публике находилась его сговоренная невеста, которая могла ему сделать потом увечье за близость с этой Фро. Диспетчер поэтому слегка отпрянул от женщины ради приличия, но Фро опять прилегла к его груди, к его галстуку, и галстук сдвинулся под тяжестью ее головы в сторону, а в сорочке образовалась ширинка с голым телом. В страхе и неудобстве диспетчер продолжал танец, ожидая, когда музыка кончит играть. Но музыка играла все более взволнованно и энергично, и женщина не отставала от своего обнимающего ее друга. Он почувствовал, что по его груди, оголившейся под галстуком, пробираются щекочущие капли влаги — там, где растут у него мужественные волосы.
— Вы плачете? — испугался диспетчер.
— Немножко, — прошептала Фро. — Отведите меня к двери. Я больше не буду танцевать.
Кавалер, не сокращая танца, подвел Фросю к выходу, и она сразу вышла в коридор, где мало людей.
Наташа вынесла шляпу подруге. Фрося пошла домой, а Наташа направилась к складу кооператива, который сторожил ее муж. Рядом с тем складом был двор строительных материалов, а его караулила одна миловидная женщина, и Наташа хотела проверить, нет ли у ее мужа с той сторожихой тайной любви и симпатии.
На другой день утром Фрося получила телеграмму с сибирской станции, из-за Урала. Ей писал муж: «Дорогая Фро, я люблю тебя и вижу во сне».
Отца не было дома. Он ушел в депо — посидеть и поговорить в красном уголке, почитать «Гудок», узнать, как прошла ночь на тяговом участке, а потом зайти в буфет, чтобы выпить с попутным приятелем пивца и побеседовать кратко о душевных интересах.
Фрося не стала чистить зубы; она умылась еле-еле, поплескав немного водою в лицо, и больше не позаботилась о красоте своей наружности. Ей не хотелось тратить время на что-нибудь, кроме чувства любви, и в ней не было теперь женского прилежания к своему телу. Над потолком комнаты Фроси, на третьем этаже, все время раздавались короткие звуки губной гармоники, потом музыка утихла, но вскоре играла опять. Фрося просыпалась сегодня еще темным утром, потом она опять уснула, и тогда она тоже слышала над собой эту скромную мелодию, похожую на песню серой рабочей птички в поле, у которой для песни не остается дыхания, потому что сила ее тратится в труде. Там, наверху, жил маленький мальчик, сын токаря из депо. Отец, наверно, ушел на работу, мать стирает белье, — скучно, скучно ему. Не поев пищи, Фрося ушла на занятия — на курсы железнодорожной связи и сигнализации.
Ефросинья Евстафьева не была на курсах четыре дня, и по ней уже соскучились, наверно, подруги, а она шла к ним сейчас без желания. Фросе многое прощали на курсах за ее способность к ученью, за ее глубокое понимание предмета технической науки; но она сама не знала ясно, как это у нее получается, — во многом она жила подражанием своему мужу, человеку, окончившему два технических института, который чувствовал машинные механизмы с точностью собственной плоти.
Вначале Фрося училась плохо. Ее сердце не привлекали катушки Пупина, релейные упряжки или расчет сопротивления железной проволоки. Но уста ее мужа однажды произнесли эти слова, и больше того — он с искренностью воображения, воплощающегося даже в темные, неинтересные машины, представил ей оживленную работу загадочных, мертвых для нее предметов и тайное качество их чуткого расчета, благодаря которому машины живут. Муж Фроси имел свойство чувствовать величину напряжения электрического тока, как личную страсть. Он одушевлял все, чего касались его руки или мысль, и поэтому приобретал истинное представление о течении сил в любом механическом устройстве и непосредственно ощущал страдальческое, терпеливое сопротивление машинного телесного металла.
С тех пор катушки, мостики Уитсона, контакторы, единицы светосилы стали для Фроси священными вещами, словно они сами были одухотворенными частями ее любимого человека; она начала понимать их и беречь в уме, как в душе. В трудных случаях Фрося, приходя домой, уныло говорила: «Федор, там — микрофарада и еще блуждающие токи, мне скучно». Не обнимая жену после дневной разлуки, Федор сам превращался на время в микрофараду и в блуждающий ток. Фрося почти видела глазами то, что раньше лишь хотела и не могла понять. Это были такие же простые природные и влекущие предметы, как разноцветная трава в поле. По ночам Фрося часто тосковала, что она только женщина и не может чувствовать себя микрофарадой, паровозом, электричеством, а Федор может, — и она осторожно водила пальцем по его горячей спине; он спал и не просыпался. Он всегда был почему-то весь горячий, странный, любил тратить деньги на пустяки, мог спать при шуме, ел одинаково всякую пищу — хорошую и невкусную, никогда не болел, собирался поехать в Южный советский Китай и стать там солдатом…
На курсах Евстафьева сидела теперь со слабой, рассеянной мыслью, ничего не усваивая из очередных лекций. Она с унынием рисовала с доски в тетрадь векторную диаграмму резонанса токов и с печалью слушала речь преподавателя о влиянии насыщения железа на появление высших гармоник. Федора не было; сейчас ее не прельщала связь и сигнализация, и электричество стало чуждым. Катушки Пупина, микрофарады, уитстоновские мостики, железные сердечники засохли в ее сердце, а высших гармоник тока она не понимала нисколько: в ее памяти звучала все время однообразная песенка детской губной гармонии: «Мать стирает белье, отец на работе, не скоро придет, скучно, скучно одному».
Фрося отстала вниманием от лекции и писала себе в тетрадь свои мысли: «Я глупа, я жалкая девчонка, Федя, приезжай скорей, я выучу связь и сигнализацию, а то умру, похоронишь меня и уедешь в Китай».
Дома отец сидел обутый, одетый и в шапке. Сегодня его вызовут в поездку обязательно, он так предполагал.
— Пришла? — спросил он у дочери; он рад был, когда кто-нибудь приходил в квартиру; он слушал все шаги по лестнице, точно постоянно ожидал необыкновенного гостя, несущего ему счастье, вшитое в шапку. — Тебе каши с маслом не подогреть? — спрашивал отец. — Я живо.
Дочь отказалась.
— Ну колбаски поджарю!
— Нет! — сказала Фрося.
Отец ненадолго умолкал, потом опять спрашивал, но более робко:
— Может, чайку с сушками выпьешь? Я ведь враз согрею…
Дочь молчала.
— А макароны вчерашние!.. Они целы, я их тебе оставил…
— Да отстань ты, наконец! — говорила Фрося. — Хоть бы тебя на Дальний Восток командировали…
— Просился — не берут, говорят — стар, зрение неважное, — объяснял отец.
Он боялся, что Фрося сейчас уйдет в свою комнату, а ему хотелось, чтобы она побыла с ним и поговорила, и старый человек искал повода задержать около себя Фросю.
— Что ж ты сегодня себе губки во рту не помазала? — спросил он. — Иль помада вся вышла? Так я сейчас куплю, сбегаю в аптеку…
У Фроси показались слезы в ее серых глазах, и она ушла к себе в комнату. Отец остался один; он начал прибирать кухню и возиться по хозяйству, потом сел на корточки, открыл дверку духового шкапа, спрятал туда голову и там заплакал над сковородкой с макаронами.
В дверь постучали. Фрося не вышла открывать. Старик вынул голову из духовки, все тряпки висели грязные, он вытер лицо о веник и пошел отворять дверь.
Пришел вызывальщик из депо.
— Расписывайся, Нефед Степанович: сегодня тебе в восемь часов явиться — поедешь сопровождать холодный паровоз в капитальный ремонт. Прицепят к триста десятому сборному, харчей возьми и одежду, ране недели не обернешься…
Нефед Степанович расписался в книге, вызывальщик ушел. Старик открыл свой железный сундучок; там уже лежал еще вчерашний хлеб, лук и кусок сахару. Механик добавил туда осьмушку пшена, два яблока, подумал и запер дорожный сундучок на громадный висячий замок.
Затем он осторожно постучал в дверь комнаты Фроси.
— Дочка!.. Закрой за мной, я в рейс поехал — педели на две. Дали паровоз серии «Ща»: он холодный, но ничего.
Фрося вышла не сразу, когда отец уже ушел, и закрыла дверь квартиры.
«Играй! Отчего ты не играешь?» — шептала Фрося вверх, где жил мальчик с губной гармоникой. Но он отправился, наверно, гулять — стояло лето, шел долгий день, ветер успокаивался на вечер среди сонных, блаженных сосен. Музыкант был еще мал, он еще не выбрал изо всего мира что-нибудь единственное для вечной любви, его сердце билось пустым и свободным, ничего не похищая для одного себя из добра жизни.
Фрося открыла окно, легла на большую постель и задремала. Слышно было, как слабо поскрипывали стволы сосен от верхнего течения воздуха и трещал один дальний кузнечик, не дождавшись времени тьмы.
Фрося пробудилась; еще светло на свете, надо было вставать жить. Она засмотрелась на небо, полное греющего тепла, покрытое живыми следами исчезающего солнца, словно там находилось счастье, которое было сделано природой изо всех своих чистых сил, чтобы счастье от нее снаружи проникло внутрь человека.
Меж двух подушек Фрося нашла короткий волос; он мог принадлежать только Федору. Она рассмотрела волос на свет, он был седой: Федору шел уже двадцать девятый год, и у него росли седые волосы, штук двадцать. Отец тоже седой, но он никогда даже близко не подходил к их постели. Фрося принюхалась к подушке, на которой спал Федор, — она еще пахла его телом, его головой, наволочку не мыли с тех пор, как в последний раз поднялась с нее голова мужа. Фрося уткнулась лицом в подушку Федора и затихла.
Наверху, на третьем этаже, вернулся мальчик и заиграл на губной гармонике — ту же музыку, которую он играл сегодня темным утром. Фрося встала и спрятала волос мужа в пустую коробочку на своем столе. Мальчик перестал играть: ему пора спать — он ведь рано встает — или он занялся с отцом, пришедшим с работы, и сидит у него на коленях. Мать его колет сахар щипцами и говорит, что надо прикупить белья, старое износилось и рвется, когда его моешь. Отец молчит, он думает: обойдемся так.
Весь вечер Фрося ходила по путям станции, ближним рощам и по полям, заросшим рожью. Она побывала около шлаковой ямы, где вчера работала, — шлаку опять было почти полно, но никто не работал. Наташа Букова жила неизвестно где — ее вчера Фрося не спросила; к подругам и знакомым она идти не хотела, ей было чего-то стыдно перед всеми людьми, — говорить с другими о своей любви она не могла, а прочая жизнь стала для нее неинтересна и мертва. Она прошла мимо кооперативного склада, где одинокий муж Наташи ходил с берданкой. Фрося хотела ему дать несколько рублей, чтобы он выпил завтра с женою фруктовой воды, но постеснялась.
— Проходите, гражданка! Здесь нельзя находиться: здесь склад — казенное место, — сказал ей сторож, когда Фрося остановилась и нащупывала деньги где-то в скважинах своей куртки.
Далее складов лежали запустелые, порожние земли, там росла какая-то небольшая, жесткая, злостная трава. Фрося пришла в то место и постояла в томлении среди мелкого мира худой травы, откуда, казалось, до звезд было километра два.
— Ах, Фро, Фро, хоть бы обнял тебя кто-нибудь! — сказала она себе.
Возвратившись домой, Фрося сразу легла спать, потому что мальчик, игравший на губной гармонике, уже спал давно, и кузнечики тоже перестали трещать. Но ей что-то мешало уснуть. Фрося огляделась в сумраке и принюхалась: ее беспокоила подушка, на которой рядом с ней спал когда-то Федор. От подушки все еще исходил тлеющий земляной запах теплого, знакомого тела, и от этого запаха в сердце Фроси начиналась тоска. Она завернула подушку Федора в простыню и спрятала ее в шкаф, а потом уснула одна, по-сиротски.
На курсы связи и сигнализации Фрося больше не пошла, — все равно ей наука теперь стала непонятна. Она жила дома и ожидала письма или телеграммы от Федора, боясь, что почтальон унесет письмо обратно, если не застанет никого дома. Однако минуло уже четыре дня, потом шесть, а Федор не присылал никакой вести, кроме первой телеграммы.
Отец вернулся из рейса, отведя холодный паровоз; он был счастливый, что поездил и потрудился, что видел много людей, дальние станции и различные происшествия; теперь ему надолго хватит что вспомнить, подумать и рассказать. Но Фрося его не спросила ни о чем; тогда отец начал рассказывать ей сам — как шел холодный паровоз и приходилось не спать по ночам, чтобы слесари попутных станций не сняли с машины деталей; где продают дешевые ягоды, а где их весною морозом побило. Фрося ему ничего не отвечала, и даже когда Нефед Степанович говорил ей про маркизет и про искусственный шелк в Свердловске, дочь не поинтересовалась его словами. «Фашистка она, что ль? — подумал про нее отец. — Как же я ее зачал от жены? Не помню!»
Не дождавшись ни письма, ни телеграммы от Федора, Фрося поступила работать в почтовое отделение письмоносцем. Она думала, что письма, наверно, пропадают, и поэтому сама хотела носить их всем адресатам в целости. А письма Федора она хотела получать скорее, чем принесет их к ней посторонний, чужой письмоносец, и в ее руках они не пропадут. Она приходила в почтовую экспедицию раньше других письмоносцев — еще не играл мальчик на губной гармонике на верхнем этаже — и добровольно принимала участие в разборке и распределении корреспонденции. Она прочитывала адреса всех конвертов, приходивших в поселок, — Федор ничего ей не писал. Все конверты назначались другим людям, и внутри конвертов лежали какие-то неинтересные письма. Все-таки Фрося аккуратно, два раза в день, разносила письма по домам, надеясь, что в них лежит утешение для местных жителей. На утренней заре она быстро шла по улице поселка с тяжелой сумкой на животе, как беременная, стучала в двери и подавала письма и бандероли людям в подштанниках, оголенным женщинам и небольшим детям, проснувшимся прежде взрослых. Еще темно-синее небо стояло над окрестной землей, а Фрося уже работала, спеша утомить ноги, чтобы устало ее тревожное сердце. Многие адресаты интересовались ею по существу жизни и при получении корреспонденции задавали бытовые вопросы: «За девяносто два рубля в месяц работаете?» — «Да, — говорила Фрося. — Это с вычетами». Один получатель журнала «Красная новь» предложил Фросе выйти за него замуж — в виде опыта: что получится, может быть, счастье будет, а оно полезно. «Как вы на это реагируете?» — спросил подписчик. «Подумаю», — ответила Фрося. «А вы не думайте! — советовал адресат. — Вы приходите ко мне в гости, почувствуйте сначала меня: я человек нежный, читающий, культурный — вы же видите, на что я подписываюсь! Это журнал, он выходит под редакцией редколлегии, там люди умные, вы видите, и там не один человек, и мы будем двое! Это же все солидно, и у вас, как у замужней женщины, авторитета будет больше!.. А девушка — это что, одиночка, антиобщественница какая-то!»
Много людей узнала Фрося, стоя с письмом или пакетом у чужих дверей. Ее пытались угощать вином и закуской, и ей жаловались на свою частную, текущую судьбу. Жизнь нигде не имела пустоты и спокойствия.
Уезжая, Федор обещал Фросе сразу же сообщить адрес своей работы: он сам не знал точно, где он будет находиться. Но вот уже прошло четырнадцать дней со времени его отъезда, а от него нет никакой корреспонденции, и ему некуда писать. Фрося терпела эту разлуку, она все более скоро разносила почту, все более часто дышала, чтобы занять сердце посторонней работой и утомить его отчаяние. Но однажды она нечаянно закричала среди улицы — во время второй почты. Фрося не заметила, как в ее груди внезапно сжалось дыхание, закатилось сердце, и она протяжно закричала высоким, поющим голосом. Ее видели прохожие люди. Опомнясь, Фрося тогда убежала в поле вместе с почтовой сумкой, потому что ей трудно стало терпеть свое пропадающее, пустое дыхание; там она упала на землю и стала кричать, пока сердце ее не прошло.
Фрося села, оправила на себе платье и улыбнулась, ей было теперь опять хорошо, больше кричать не надо.
После разноски почты Фрося зашла в отделение телеграфа, там ей передали телеграмму от Федора с адресом и поцелуем. Дома она сразу, не приняв пищи, стала писать письмо мужу. Она не видела, как кончился день за окном, не слышала мальчика, который играл перед сном на своей губной гармонии. Отец, постучавшись, принес дочери стакан чаю, булку с маслом и зажег электрический свет, чтобы Фрося не портила глаза в сумраке.
Ночью Нефед Степанович задремал в кухне на сундуке. Его уже шесть дней не вызывали в депо — он полагал, что в сегодняшнюю ночь ему не миновать поездки, и ожидал шагов вызывальщика на лестнице.
В час ночи в кухню вошла Фрося со сложенным листом бумаги в руке.
— Папа!
— Ты что, дочка? — Старик спал слабо и чутко.
— Отнеси телеграмму на почту, а то я устала.
— А вдруг я уйду, а вызывальщик придет? — испугался отец.
— Обождет, — сказала Фрося. — Ты ведь недолго будешь ходить. Только ты сам не читай телеграммы, а отдай ее там в окошко.
— Не буду, — обещал старик. — А ты же письмо писала, давай заодно отнесу.
— Тебя не касается, что я писала… У тебя деньги есть?
У отца деньги были, он взял телеграмму и отправился. В почтово-телеграфной конторе старик прочитал телеграмму. «Мало ли что, — решил он, — может, дочка заблуждение пишет, надо поглядеть».
Телеграмма назначалась Федору на Дальний Восток: «Выезжай первым поездом твоя жена дочь Фрося умирает при смерти осложнение дыхательных путей отец Нефед Евстафьев».
«Их дело молодое!» — подумал Нефед Степанович и отдал телеграмму в приемное окно.
— А я ведь видела сегодня Фросю! — сказала телеграфная служащая. — Неужели она заболела?
— Стало быть, так, — объяснил машинист.
Утром Фрося велела отцу опять идти на почту — отнести ее заявление, что она добровольно увольняется с работы вследствие болезненного состояния здоровья. Старик пошел опять, ему все равно в депо хотелось идти.
Фрося принялась чинить белье, штопать носки, мыть полы и убирать квартиру и никуда не ходила из дому.
Через двое суток пришел ответ «молнией»: «Выезжаю беспокоюсь мучаюсь не хороните без меня Федор».
Фрося точно сосчитала время приезда мужа, и на седьмой день после получения телеграммы она ходила по перрону вокзала, дрожащая и веселая. С востока без опоздания прибывал транссибирский экспресс. Отец Фроси находился тут же, на перроне, но держался в отдалении от дочери, чтобы не мешать ее настроению.
Механик экспресса подвел поезд к станции с роскошной скоростью и мягко, нежно посадил состав на тормоза. Нефед Степанович, наблюдая эту вещь, немного прослезился, позабыв даже, зачем он сюда пришел.
Из поезда на этой станции вышел только один пассажир. Он был в шляпе, в длинном синем плаще, запавшие глаза его блестели от внимания. К нему подбежала женщина.
— Фро! — сказал пассажир и бросил чемодан на перрон.
Отец потом поднял этот чемодан и понес его следом за дочерью и зятем.
На полдороге дочь обернулась к отцу.
— Папа, ступай в депо, попроси, чтобы тебе поездку дали, — тебе ведь скучно все время дома сидеть…
— Скучно, — согласился старик. — Сейчас пойду. Возьми у меня чемодан.
Зять глядел на старого машиниста.
— Здравствуйте, Нефед Степанович!
— Здравствуй, Федя! С приездом!
— Спасибо, Нефед Степанович…
Молодой человек хотел еще что-то сказать, но старик передал чемодан Фросе и ушел в сторону, в депо.
— Милый, я всю квартиру прибрала, — говорила Фрося. — Я не умирала.
— Я догадался в поезде, что ты не умирала, — отвечал муж. — Я верил твоей телеграмме недолго…
— А почему же ты тогда приехал? — удивилась Фрося.
— Я люблю тебя, я соскучился, — грустно сказал Федор.
Фрося опечалилась.
— Я боюсь, что ты меня разлюбишь когда-нибудь, и тогда я вправду умру…
Федор поцеловал ее сбоку в лицо.
— Если умрешь, ты тогда всех забудешь, и меня, — сказал он.
Фрося оправилась от горя.
— Нет, умирать неинтересно. Это пассивность.
— Конечно, пассивность, — улыбнулся Федор: он любил ее высокие, ученые слова.
Раньше Фро даже специально просила, чтобы он научил ее умным фразам, и он писал ей целую тетрадь умных и пустых слов: «Кто сказал „а“, должен говорить „б“, „Камень, положенный во главу угла“, „Если это так, а это именно так“» — и тому подобное. Но Фро догадалась про обман. Она спросила его: «А зачем после буквы „а“ обязательно говорить „б“? А если не надо и я не хочу?»
Дома они сразу легли отдыхать и уснули. Часа через три постучал отец. Фрося открыла ему и подождала, пока старик наложил в железный сундучок харчей и снова ушел. Его, наверное, назначили в рейс. Фрося закрыла дверь и опять легла спать. Проснулись они уже ночью. Они поговорили немного, потом Федор обнял Фро, и они умолкли до утра.
На следующий день Фрося быстро приготовила обед, накормила мужа и сама поела. Она делала сейчас все кое-как, нечисто, невкусно, но им обоим было все равно, что есть и что пить, лишь бы не терять на материальную, постороннюю нужду время своей любви.
Фрося рассказывала Федору о том, что она теперь начнет хорошо и прилежно учиться, будет много знать, будет трудиться, чтобы в стране жилось всем людям еще лучше.
Федор слушал Фро, затем подробно объяснял ей свои мысли и проекты — о передаче силовой энергии без проводов, посредством ионизированного воздуха, об увеличении прочности всех металлов через обработку их ультразвуковыми волнами, о стратосфере на высоте в сто километров, где есть особые световые, тепловые и электрические условия, способные обеспечить вечную жизнь человеку, — поэтому мечта древнего мира о небе теперь может быть исполнена, и многое другое обещал обдумать и сделать Федор ради Фроси и заодно ради всех остальных людей.
Фрося слушала мужа в блаженстве, приоткрыв уже усталый рот. Наговорившись, они обнимались — они хотели быть счастливыми немедленно, теперь же, раньше, чем их будущий усердный труд даст результаты для личного и всеобщего счастья. Ни одно сердце не терпит отлагательства, оно болит, оно точно ничему не верит. Заспав утомление от мысли, беседы и наслаждения, они просыпались снова свежими, готовые к повторению жизни. Фрося хотела, чтобы у нее народились дети, она их будет воспитывать, они вырастут и доделают дело своего отца — дело коммунизма и науки. Федор в страсти воображения шептал Фросе слова о таинственных силах природы, которые дадут богатство человечеству, о коренном изменении жалкой души человека… Затем они целовались, ласкали друг друга, и благородная мечта их превращалась в наслаждение, точно сразу же осуществляясь.
По вечерам Фрося выходила из дому ненадолго и закупала продовольствие для себя и мужа — у них обоих все время увеличивался теперь аппетит. Они прожили не разлучаясь уже четверо суток. Отец до сих пор еще не возвратился из поездки: наверно, опять повел далеко холодный паровоз.
Еще через два дня Фрося сказала Федору, что вот они еще побудут так вместе немножко, а потом надо за дело и за жизнь приниматься.
— Завтра же или послезавтра мы начнем с тобою жить по-настоящему! — говорил Федор и обнимал Фро.
— Послезавтра! — шепотом соглашалась Фро.
На восьмой день Федор проснулся печальным.
— Фро! Пойдем трудиться, пойдем жить, как нужно… Тебе надо опять на курсы связи поступить.
— Завтра! — прошептала Фро и взяла голову мужа в свои руки.
Он улыбнулся ей и смирился.
— Когда же, Фро? — спрашивал Федор на следующий день.
— Скоро, скоро, — отвечала дремлющая, кроткая Фро; руки ее держали его руку, он поцеловал ее в лоб.
Однажды Фрося проснулась поздно, день давно разгорелся на дворе. Она была одна в комнате, шел, наверно, десятый или двенадцатый день ее неразлучного свидания с мужем. Фрося сразу поднялась с постели, отворила настежь окно и услышала губную гармонику, которую она совсем забыла. Гармония играла не наверху. Фрося поглядела в окно. Около сарая лежало бревно, на нем сидел босой мальчик с большой, детской головой и играл на губной музыке.
Во всей квартире было тихо и странно. Федор куда-то отлучился. Фрося вышла на кухню. Там сидел отец на табуретке и дремал, положив голову в шапке на кухонный стол. Фрося разбудила его.
— Ты когда приехал?
— А? — воскликнул старик. — Сегодня, рано утром.
— А кто тебе дверь отворил? Федор?
— Никто, — сказал отец, — она была открыта. Меня Федор на вокзале нашел, я там спал на лавке.
— А почему ты спал на вокзале? Что у тебя — места нету? — рассердилась Фрося.
— А что! Я там привык, — говорил отец. — Я думал, мешать вам буду…
— Ну, уж ладно, ханжа! А где Федор? Когда он явится?
Отец затруднился.
— Он не явится, — сказал старик. — Он уехал…
Фро молчала перед отцом. Старик внимательно глядел на кухонную ветошку и продолжал:
— Утром курьерский был, он сел и уехал на Дальний Восток. «Может, говорит, потом в Китай проберусь, неизвестно».
— А еще что он говорил? — спросила Фрося.
— Ничего, — ответил отец. — Велел мне идти к тебе домой и беречь тебя. Как, говорит, поделает все дела, так либо сюда вернется, либо тебя к себе выпишет.
— Какие дела? — узнавала Фрося.
— Не знаю, — произнес старик. — Он сказал, ты все знаешь: коммунизм, что ль, или еще что-нибудь!
Фро оставила отца. Она ушла к себе в комнату, легла животом на подоконник и стала глядеть на мальчика, как он играет на губной гармонии.
— Мальчик! — позвала она. — Иди ко мне в гости!
— Сейчас, — ответил гармонист.
Он встал с бревна, вытер свою музыку о подол рубашки и направился в дом, в гости.
Фро стояла среди большой комнаты, в ночной рубашке. Она улыбалась в ожидании гостя.
— Прощай, Федор!
Может быть, она глупа, может быть, ее жизнь стоит две копейки и не нужно ее любить и беречь, но зато она одна знает, как две копейки превратить в два рубля.
— Прощай, Федор! Ты вернешься ко мне, и я тебя дождусь!
В наружную дверь робко постучал маленький гость. Фрося впустила его, села перед ним на пол, взяла руки ребенка в свои руки и стала любоваться музыкантом: этот человек, наверно, и был тем человечеством, о котором Федор говорил ей милые слова.
1936
МИХАИЛ ЗОЩЕНКО
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ[66]
Откровенно говоря, я предпочитаю хворать дома.
Конечно, слов нет, в больнице, может быть, светлей и культурней. И калорийность пищи, может быть, у них более предусмотрена. Но, как говорится, дома и солома едома.
А в больницу меня привезли с брюшным тифом. Домашние думали этим облегчить мои неимоверные страдания.
Но только этим они не достигли цели, поскольку мне попалась какая-то особенная больница, где мне не все понравилось.
Все-таки только больного привезли, записывают его в книгу, и вдруг он читает на стене плакат: «Выдача трупов от 3-х до 4-х».
Не знаю, как другие больные, но я прямо закачался на ногах, когда прочел это воззвание. Главное, у меня высокая температура, и вообще жизнь, может быть, еле теплится в моем организме, может быть, она на волоске висит — и вдруг приходится читать такие слова.
Я сказал мужчине, который меня записывал:
— Что вы, — говорю, — товарищ фельдшер, такие пошлые надписи вывешиваете? Все-таки, — говорю, — больным не доставляет интереса это читать.
Фельдшер, или как там его, — лекпом, — удивился, что я ему так сказал, и говорит:
— Глядите: больной, и еле он ходит, и чуть у него пар изо рту не идет от жара, а тоже, — говорит, — наводит на все самокритику. Если, — говорит, — вы поправитесь, что вряд ли, тогда и критикуйте, а не то мы действительно от трех до четырех выдадим вас в виде того, что тут написано, вот тогда будете знать.
Хотел я с этим лекпомом схлестнуться, но поскольку у мене была высокая температура, 39 и 8, то я с ним спорить не стал. Я только ему сказал:
— Вот погоди, медицинская трубка, я поправлюсь, так ты мне ответишь за свое нахальство. Разве, — говорю, — можно больным такие речи слушать? Это, — говорю, — морально подкашивает их силы.
Фельдшер удивился, что тяжелобольной так свободно с ним объясняется, и сразу замял разговор. И тут сестричка подскочила.
— Пойдемте, — говорит, — больной, на обмывочный пункт.
Но от этих слов меня тоже передернуло.
— Лучше бы, — говорю, — называли не обмывочный пункт, а ванна. Это, — говорю, — красивей и возвышает больного. И я, — говорю, — не лошадь, чтоб меня обмывать.
Медсестра говорит:
— Даром что больной, а тоже, — говорит, — замечает всякие тонкости. Наверно, — говорит, — вы не выздоровеете, что во все нос суете.
Тут она привела меня в ванну и велела раздеваться.
И вот я стал раздеваться и вдруг вижу, что в ванне над водой уже торчит какая-то голова. И вдруг вижу, что это как будто старуха в ванне сидит, наверно, из больных.
Я говорю сестре:
— Куда же вы меня, собаки, привели — в дамскую ванну? Тут, — говорю, — уже кто-то купается.
Сестра говорит:
— Да это тут одна больная старуха сидит. Вы на нее не обращайте внимания. У нее высокая температура, и она ни на что не реагирует. Так что вы раздевайтесь без смущения. А тем временем мы старуху из ванны вынем и набуровим вам свежей воды.
Я говорю:
— Старуха не реагирует, но я, может быть, еще реагирую. И мне, — говорю, — определенно неприятно видеть то, что там у вас плавает в ванне.
Вдруг снова приходит лекпом.
— Я, — говорит, — первый раз вижу такого привередливого больного. И то ему, нахалу, не нравится, и это ему нехорошо. Умирающая старуха купается, и то он претензию выражает. А у нее, может быть, около сорока температуры, и она ничего в расчет не принимает и все видит как сквозь сито. И, уж во всяком случае, ваш вид не задержит ее в этом мире лишних пять минут. Нет, — говорит, — я больше люблю, когда к нам больные поступают в бессознательном состоянии. По крайней мере, тогда им все по вкусу, всем они довольны и не вступают с нами в научные пререкания.
Тут купающаяся старуха подает голос:
— Вынимайте, — говорит, — меня из воды, или, — говорит, — я сама сейчас выйду и всех тут вас распатроню.
Тут они занялись старухой и мне велели раздеваться.
И пока я раздевался, они моментально напустили горячей воды и велели мне туда сесть.
И, зная мой характер, они уже не стали спорить со мной и старались во всем поддакивать. Только после купанья они дали мне огромное, не по моему росту, белье. Я думал, что они нарочно от злобы подбросили мне такой комплект не по мерке, но потом я увидел, что у них это — нормальное явление. У них маленькие больные, как правило, были в больших рубахах, а большие — в маленьких.
И даже мой комплект оказался лучше, чем другие. На моей рубахе больничное клеймо стояло на рукаве и не портило общего вида, а на других больных клейма стояли у кого на спине, а у кого на груди, и это морально унижало человеческое достоинство.
Но поскольку у меня температура все больше повышалась, то я и не стал об этих предметах спорить.
А положили меня в небольшую палату, где лежало около тридцати разного сорта больных. И некоторые, видать, были тяжелобольные. А некоторые, наоборот, поправлялись. Некоторые свистели. Другие играли в пешки. Третьи шлялись по палатам и по складам читали, чего написано над изголовьем.
Я говорю сестрице:
— Может быть, я попал в больницу для душевнобольных, так вы так и скажите. Я, — говорю, — каждый год в больницах лежу и никогда ничего подобного не видел. Всюду тишина и порядок, а у вас что базар.
Та говорит:
— Может быть, вас прикажете положить в отдельную палату и приставить к вам часового, чтобы он от вас мух и блох отгонял?
Я поднял крик, чтоб пришел главный врач, но вместо него вдруг пришел этот самый фельдшер. А я был в ослабленном состоянии. И при виде его я окончательно потерял свое сознание.
Только очнулся я, наверно, так думаю, дня через три.
Сестричка говорит мне:
— Ну, — говорит, — у вас прямо двужильный организм. Вы, — говорит, — сквозь все испытания прошли. И даже мы вас случайно положили около открытого окна, и то вы неожиданно стали поправляться. И теперь, — говорит, — если вы не заразитесь от своих соседних больных, то, — говорит, — вас можно будет чистосердечно поздравить с выздоровлением.
Однако организм мой не поддался больше болезням, и только я единственно перед самым выходом захворал детским заболеванием — коклюшем.
Сестричка говорит:
— Наверно, вы подхватили заразу из соседнего флигеля. Там у нас детское отделение. И вы, наверно, неосторожно покушали из прибора, на котором ел коклюшный ребенок. Вот через это вы и прихворнули.
В общем, вскоре организм взял свое, и я снова стал поправляться. Но когда дело дошло до выписки, то я и тут, как говорится, настрадался и снова захворал, на этот раз нервным заболеванием. У меня на нервной почве на коже пошли мелкие прыщики вроде сыпи. И врач сказал: «Перестаньте нервничать, и это у вас со временем пройдет».
А я нервничал просто потому, что они меня не выписывали. То они забывали, то у них чего-то не было, то кто-то не пришел и нельзя было отметить. То, наконец, у них началось движение жен больных, и весь персонал с ног сбился. Фельдшер говорит:
— А у нас такое переполнение, что мы прямо не поспеваем больных выписывать. Вдобавок у вас только восемь дней перебор, и то вы поднимаете тарарам. А у нас тут некоторые выздоровевшие по три недели не выписываются, и то они терпят.
Но вскоре они меня выписали, и я вернулся домой.
Супруга говорит:
— Знаешь, Петя, неделю назад мы думали, что ты отправился в загробный мир, поскольку из больницы пришло извещение, в котором говорится: «По получении сего срочно явитесь за телом вашего мужа».
Оказывается, моя супруга побежала в больницу, но там извинились за ошибку, которая у них произошла в бухгалтерии. Это у них скончался кто-то другой, а они почему-то подумали на меня. Хотя я к тому времени был здоров, и только меня на нервной почве закидало прыщами. В общем, мне почему-то стало неприятно от этого происшествия, и я хотел побежать в больницу, чтоб с кем-нибудь там побраниться, но как вспомнил, что у них там бывает, так, знаете, и не пошел.
И теперь хвораю дома.
1936
ИСААК БАБЕЛЬ
ДИ ГРАССО[67]
Мне было четырнадцать лет. Я принадлежал к неустрашимому корпусу театральных барышников. Мой хозяин был жулик с всегда прищуренным глазом и шелковыми громадными усами. Звали его Коля Шварц. Я угодил к нему в тот несчастный год, когда в Одессе прогорела итальянская опера. Послушавшись рецензентов из газеты, импресарио не выписал на гастроли Ансельми и Тито Руффо и решил ограничиться хорошим ансамблем. Он был наказан за это, он прогорел, а с ним и мы. Для поправки дел нам пообещали Шаляпина, но Шаляпин запросил три тысячи за выход. Вместо него приехал сицилианский трагик ди Грассо с труппой. Их привезли в гостиницу на телегах, набитых детьми, кошками, клетками, в которых прыгали итальянские птицы. Осмотрев этот табор, Коля Шварц сказал:
— Дети, это не товар…
Трагик после приезда отправился с кошелкой на базар. Вечером — с другой кошелкой — он явился в театр. На первый спектакль собралось едва ли пятьдесят человек. Мы уступали билеты за полцены, охотников не находилось.
Играли в тот вечер сицилианскую народную драму, историю обыкновенную, как смена дня и ночи. Дочь богатого крестьянина обручилась с пастухом. Она была верна ему до тех пор, пока из города не приехал барчук в бархатном жилете. Разговаривая с приезжим, девушка невпопад хихикала и невпопад замолкала. Слушая их, пастух ворочал головой, как потревоженная птица. Весь первый акт он прижимался к стенам, куда-то уходил в развевающихся штанах и, возвращаясь, озирался.
— Мертвое дело, — сказал в антракте Коля Шварц, — это товар для Кременчута…
Антракт был сделан для того, чтобы дать девушке время созреть для измены. Мы не узнали ее во втором действии — она была нетерпима, рассеянна и, торопясь, отдала пастуху обручальное кольцо. Тогда он подвел ее к нищей и раскрашенной статуе святой девы и на сицилианском своем наречии сказал:
— Синьора, — сказал он низким своим голосом и отвернулся — святая дева хочет, чтобы вы выслушали меня… Джованни, приехавшему из города, святая дева даст столько женщин, сколько он захочет; мне же никто не нужен, кроме вас, синьора… Дева Мария, непорочная наша покровительница, скажет вам то же самое, если вы спросите ее, синьора…
Девушка стояла спиной к раскрашенной деревянной статуе. Слушая пастуха, она нетерпеливо топала ногой. На этой земле — о, горе нам! — нет женщины, которая не была бы безумна в те мгновения, когда решается ее судьба… Она остается одна в эти мгновения, одна, без девы Марии, и ни о чем не спрашивает у нее…
В третьем действии приехавший из города Джованни встретился со своей судьбой. Он брился у деревенского цирюльника, разбросав на авансцене сильные мужские ноги; под солнцем Сицилии сияли складки его жилета. Сцена представляла из себя ярмарку в деревне. В дальнем углу стоял пастух. Он стоял молча, среди беспечной толпы. Голова его была опущена, потом он поднял ее, и под тяжестью загоревшегося, внимательного его взгляда Джованни задвигался, стал ерзать в кресле и, оттолкнув цирюльника, вскочил. Срывающимся голосом он потребовал от полицейского, чтобы тот удалил с площади сумрачных подозрительных людей. Пастух — играл его ди Грассо — стоял задумавшись, потом он улыбнулся, поднялся в воздух, перелетел сцену городского театра, опустился на плечи Джованни и, перекусив ему горло, ворча и косясь, стал высасывать из раны кровь. Джованни рухнул, и занавес, — грозно, бесшумно сдвигаясь, — скрыл от нас убитого и убийцу. Ничего больше не ожидая, мы бросились в Театральный переулок к кассе, которая должна была открыться на следующий день. Впереди всех несся Коля Шварц. На рассвете «Одесские новости» сообщили тем немногим, кто был в театре, что они видели самого удивительного актера столетия.
Ди Грассо в этот свой приезд сыграл у нас «Короля Лира», «Отелло», «Гражданскую смерть», тургеневского «Нахлебника», каждым словом и движением своим утверждая, что в исступлении благородной страсти больше справедливости и надежды, чем в безрадостных правилах мира.
На эти спектакли билеты шли в пять раз выше своей стоимости. Охотясь за барышниками, покупатели находили их в трактире — горланящих, багровых, извергающих безвредное кощунство.
Струя пыльного розового зноя была впущена в Театральный переулок. Лавочники в войлочных шлепанцах вынесли на улицу зеленые бутыли вина и бочонки с маслинами. В чанах, перед лавками, кипели в пенистой воде макароны, и пар от них таял в далеких небесах. Старухи в мужских штиблетах продавали ракушки и сувениры и с громким криком догоняли колеблющихся покупателей. Богатые евреи с раздвоенными, расчесанными бородами подъезжали к Северной гостинице и тихонько стучались в комнаты черноволосых толстух с усиками — актрис из труппы ди Грассо. Все были счастливы в Театральном переулке, кроме одного человека, и этот человек был я. Ко мне в эти дни приближалась гибель. С минуты на минуту отец мог хватиться часов, взятых у него без позволения и заложенных у Коли Шварца. Успев привыкнуть к золотым часам и будучи человеком, пившим по утрам вместо чая бессарабское вино, Коля, получив обратно свои деньги, не мог, однако, решиться вернуть мне часы. Таков был его характер. От него ничем не отличался характер моего отца. Стиснутый этими людьми, я смотрел, как проносятся мимо меня обручи чужого счастья. Мне не оставалось ничего другого, как бежать в Константинополь. Все уже было сговорено со вторым механиком парохода «Duke of Kent»,[68] но, перед тем как выйти в море, я решил проститься с ди Грассо. Он в последний раз играл пастуха, которого отделяет от земли непонятная сила. В театр пришли итальянская колония во главе с лысым и стройным консулом, поеживающиеся греки, бородатые экстерны, фанатически уставившиеся в никому не видимую точку, и длиннорукий Уточкин. И даже Коля Шварц привел с собой жену в фиолетовой шали с бахромой, женщину, годную в гренадеры и длинную, как степь, с мятым, сонливым личиком на краю. Оно было омочено слезами, когда опустился занавес.
— Босяк, — выходя из театра, сказала она Коле, — теперь ты видишь, что такое любовь…
Тяжело ступая, мадам Шварц шла по Ланжероновской улице; из рыбьих глаз ее текли слезы, на толстых плечах содрогалась шаль с бахромой. Шаркая мужскими ступнями, тряся головой, она оглушительно, на всю улицу, высчитывала женщин, которые хорошо живут со своими мужьями.
— Циленька — называют эти мужья своих жен, — золотко, деточка…
Присмиревший Коля шел рядом с женой и тихонько раздувал шелковые усы. По привычке я шел за ними и всхлипывал. Затихнув на мгновенье, мадам Шварц услышала мой плач и обернулась.
— Босяк, — вытаращив рыбьи глаза, сказала она мужу, — пусть я не доживу до хорошего часа, если ты не отдашь мальчику часы…
Коля застыл, раскрыл рот, потом опомнился и, больно ущипнув меня, боком сунул часы.
— Что я имею от него, — безутешно причитал, удаляясь, грубый плачущий голос мадам Шварц, — сегодня животные штуки, завтра животные штуки… Я тебя спрашиваю, босяк, сколько может ждать женщина?..
Они дошли до угла и повернули на Пушкинскую. Сжимая часы, я остался один и вдруг с такой ясностью, какой никогда не испытывал до тех пор, увидел уходившие ввысь колонны Думы, освещенную листву на бульваре, бронзовую голову Пушкина с неярким отблеском луны на ней, увидел в первый раз окружавшее меня таким, каким оно было на самом деле, — затихшим и невыразимо прекрасным.
1937

Исаак Бабель. «Ди Грассо».
Художник Г. Филипповский.
ПАВЕЛ НИЛИН
ЗНАМЕНИТЫЙ ПАВЛЮК
У всех людей бывают какие-нибудь родственники, ну хотя бы дальние. А у Павлюка никого не было. Жил один он в каменном подвале на Маложайке.
Я учился у него.
Учиться мне, откровенно говоря, не хотелось. Дело это — жестяночное — мне никогда не нравилось. Но надо человеку учиться чему-нибудь. И я учился.
Мне было восемь лет.
В подвале было темно и душно. Походил этот подвал на пещеру, вроде той, что открыли случайно на каменоломнях у Белого ключа. Но в пещере не было ни окон, ни дверей, ни чистых половиков, сплетенных из разноцветных тряпок. А здесь, в подвале, все это было. И на стенах, всегда потных, висели большие картины Страшного суда.
Запомнилась мне особенно одна, на которой томился грешник, совершенно голый, худой и взлохмаченный, с глазами черными и печальными. Он сидел на широкой сковороде, укрепленной на серых камнях, и малиновые черти с веревочными хвостами сосредоточенно раскладывали под ним огонь.
Удивляло меня постоянно хладнокровие грешника. Заметно было, что худо ему. Огонь раскалял сковороду, поднимался даже выше сковороды, хватал грешника за ноги, за спину, за коричневую, вяленую кожу, добирался до головы. А он сидел, этот грешник, как ни в чем не бывало — прямой, неподвижный и как будто сконфуженный немножко: вот смотрите, мол, добрые люди, как раздели меня донага и жарят заживо, а я ничего поделать не могу…
Удивлял и печалил меня этот грешник невыразимо. Видно было, что сидит он не привязанный. Ни веревок, ни цепей не было вокруг него. Но все-таки убежать он, должно быть, и не пытался. Не пытался даже спрыгнуть со сковороды. И это больше всего удивляло меня. Однако удивления своего я никогда не выказывал.
Павлюк был мрачный, молчаливый.
Приходил я к нему обыкновенно утром, в половине седьмого. В это время он, умытый уже, сидел на кухне против самовара, пил чай, и щеки его, впалые, покрытые тончайшей сеткой красных жилок, медленно сгорали в синеватом румянце.
Мне было восемь лет, но я знал все на свете. Я знал, как сеют хлеб и как его зарабатывают, как родятся дети и что надо делать, чтобы они не родились.
Знал я также, почему сгорают щеки у Павлюка.
Впрочем, это знала вся улица наша.
У Павлюка была чахотка, и все уверены были, что он скоро умрет.
Доктор Федоров, Аркадий Сергеевич, сказал об этом в разговоре хозяину дома, где жил мой учитель. И хозяин, ласковый, круглый и пушистый старичок, любивший в летнее время ходить по двору в одних кальсонах, стал требовать квартирную плату с жестянщика на два месяца вперед, а однажды потребовал даже за три.
— Взойди ты, ради бога, в мое положение, Андрей Петрович, — говорил при этом хозяин. — Клозеты я обязан чистить? Обязан. Мусор мне полиция велит вывозить? Велит. А где же я денег наберусь на такое в пожилые, преклонные мои года?
Домохозяин говорил слезливо. Можно было подумать, что ему действительно до зарезу нужны деньги. Но никто так не думал. Все знали, почему он выколачивает деньги именно из Павлюка.
А Павлюк как будто и не догадывался.
Высокий, сухой, похожий на птицу без крыльев, он стоял перед хозяином, чуть согнувшись вперед, доверчиво вытянув небольшую голову на длинной, тонкой шее, и, посапывая, молчал.
Хозяин говорил раздраженно:
— У меня ведь, кажется, не какой-нибудь странноприютный дом. Желающих на твое помещение, слава богу, сколько угодно. Я хоть сейчас могу его сдать. Все время ходят разные лица, спрашивают…
И на этот раз хозяин говорил чистую правду.
Желающих въехать в подвал было действительно много. Главное, что помещался он у самого базара. Целый день народ шумел и толпился против окон его.
Площадь базарная считалась центром города.
А город наш, хотя и небольшой, но суетливый, деятельный, издавна славился базаром, на котором можно продать и купить что угодно, вплоть до птичьего молока.
Продавцы и покупатели приезжали на этот базар со всей губернии. И любой мастеровой со смекалкой мог здесь делать большие дела.
В подвал Павлюка с удовольствием въехал бы и портной, и сапожник, и жестянщик, и даже лавочник.
Правда, раньше, года три назад, на подвал этот, говорят, было мало охотников. Весь он был завален бурым камнем, битым стеклом, гнилыми балками и дохлятиной. В зимнее время народ с базара запросто забегал в этот заброшенный подвал за нуждой, как будто так и надо.
Потом появился Павлюк. Хозяин с радостью сдал ему подвал по дешевке. И Павлюк два месяца только тем и занимался, что вытаскивал из подвала мусор и гнилье, камни и разную гадость.
Вскоре он привел откуда-то старичка плотника, и тот за недорогую плату настелил полы, прорубил два больших окна и навесил новую, тяжелую дверь с секретным запором, который изобрел Павлюк.
Года три жестянщик потратил на всякое обзаведение, вкладывая почти весь заработок в инструмент. Покупал по сходной цене тиски, молотки, зубила, дрели и другие разные вещи, до крайности необходимые мастеровому человеку. Приценивался, рядился, голодал, кряхтел, таская листы железные, и проволоку, и чугунные чушки в нору свою темную. Украшал эту нору, белил и красил огненной краской — охрой.
Устраивался на годы.
И вот теперь, когда устроился он по-настоящему, когда одной белой жести, очень ценной, наготовлено листов, наверно, двести да проволоки всяческой пудов, может быть, двадцать, ему надо было умирать непременно. Непременно надо было умирать.
Все думали, что умрет он через месяц, ну в крайнем случае через два. Уж больно высох он, выгорел. Передвигался осторожно, тяжело дыша. Не проживет он больше двух месяцев ни за что.
А хозяин требовал деньги вперед за три месяца и говорил огорченно:
— Я же не неволю тебя. Как хочешь. Не правится? Можешь съехать. Хотя мне будет жалко. Мужик ты добродушный, не злой. Я таких, откровенно сказать, люблю.
Во дворе росла трава. По двору ходили куры. И хозяин, разговаривая, отгонял их ногой, будто не желая, чтобы они слушали его разговор с жестянщиком. Но вдруг большой красноголовый петух, взъерошив перья, кинулся к хозяину.
— Ах, какой герой! Ах, какой военный! — ударил его туфлей хозяин. — А что, ежели я завтрашний день скушаю тебя, дурака, за твою смелость, а? Что ты мне скажешь тогда?
Павлюк стоял, переминаясь с ноги на ногу, и долго молчал. Я смотрел на него из окна. И мне слышно было, как он сказал наконец:
— Ну ладно, отдам. Воля ваша.
— Вот и спасибо тебе, пожалел ты меня, старика! — опять слезливо и обрадованно сказал хозяин и быстро пошел к себе в квартиру, странно семеня короткими ножками и почему-то пугливо оглядываясь по сторонам, будто кто-то собирался и его ударить, как он ударил петуха.
А когда исчез он из виду, перед жестянщиком появился, точно вырос из земли, извозчик Хохлов.
— Это что ж такое? — спросил он Павлюка. — Опять с тебя деньги взыскивает? — И мотнул головой, обросшей курчавой овчиной, в сторону квартиры хозяина. — Вот совесть какая у людей. Отдай ему, значит, деньги за три месяца вперед, а человеку, может, через неделю помирать придется. Как тут рассуждать?
Павлюк молчал.
Извозчик, выразив ему свое сочувствие и отсоветовав платить деньги вперед, постоял еще минутку перед ним, раскуривая трубку. Потом сказал:
— Мне говорили, вроде ты самовар продаешь. Правда, что ли?
— С чего это взяли? — спросил Павлюк.
— Да так говорят. Знаешь, как болтают?
Павлюк ничего не ответил, пошел в подвал.
Хохлов посмотрел ему вслед и молвил обиженно:
— Гордый ты, ей-богу. Гляжу я на тебя…
Но Павлюк ничего не ответил и на этот раз. Ушел в подвал.
Из подвала он выходил теперь все реже и реже.
А когда он долго не выходил на улицу и не слышно было шума жести, перетаскиваемой с верстака на верстак, душераздирающего скрипа ее и молоточного стука, люди почасту останавливались у подвала, прислушивались или просто наклонялись над низкими окнами и заглядывали в мутное стекло: уж не помер ли Павлюк?
Нельзя сказать, чтобы люди желали его смерти, нетерпеливо ждали ее прихода. Нет. Большинство людей нашей улицы любили Павлюка. Многие уважали его за кротость характера, за доброту и за мастерство, несравненное в своем роде. Многие сердечно жалели его, говорили:
— Ведь какой, посмотрите, мужик двужильный! Непонятно, в чем душа держится, а все работает, стремится. Жалко смотреть даже.
Но всякому человеку, собравшемуся жить бесконечно, было обидно уступить соседу законную свою часть имущества на неизбежном дележе после смерти одинокого жестянщика. И всякий хотел знать поэтому: когда же умрет Павлюк?
Это необходимо было знать, чтобы раньше всех поспеть к дележу.
Впрочем, может быть, дележ и не состоится. Жадная полиция растащит все сама, потому что ей полагается хоронить безродных и быть единственной наследницей их имущества. Очень просто может случиться, что все достанется полиции. А жаль…
Яшка Новосильцев, известный всей нашей улице как гармонист и алкоголик, прямо так и сказал Павлюку:
— Все равно ведь в могилу не потащишь тиски американские. А я бы тебя поминал. Вот даю слово. Продай…
Павлюк сказал ему:
— Слушай, Яша. Иди ты… знаешь куда?
Яшка ушел. Но через день наведался снова. И Павлюк снова обругал его.
Павлюк велел мне теперь запирать двери даже днем на секретный засов, чтобы лишних посетителей не было. Осточертели они бог знает как. Все один и тот же разговор: продай, уступи… И каждый надеется, что жестянщик скупиться не будет, уступит по дешевке любую вещь — на что ему теперь вещи?
Павлюк приказал мне:
— Никого не пускай.
Но разве можно не пускать? Другой идет как заказчик.
Например, парикмахер Хинчук принес машинку для стрижки волос, просил починить, а потом, как будто нечаянно, потрогал пальцами пальто на вешалке и попросил, точно в магазине:
— Дай примерю…
— Да вы что, сдурели, что ли, на самом-то деле? — спросил Павлюк. И схватил с верстака деревянный молоток, называемый киянкой. — Я ж не помер еще, слава тебе господи…
Парикмахер попятился к дверям. Но в дверях он все-таки остановился и еще раз пальцем показал на вешалку.
— Это ж зимнее пальто. Неужели ж ты и зимой будешь существовать?
Павлюк приказал мне:
— Открой ему дверь, ради создателя. Или я приму на свою душу тяжкий грех.
И Павлюк, я думаю, наверняка принял бы этот грех на свою душу, если б парикмахер не успел выпрыгнуть за дверь.
У Павлюка тряслись руки.
Я впервые видел его в таком состоянии.
Подойдя к верстаку, он долго не мог развинтить тиски, ворчал что-то, кряхтел. Потом развинтил тиски, немного успокоился и спросил:
— Видал идиота? А? — Вздохнул. Вытер пот со лба. — Машинку он принес мне починить. Да что я им, машинист, что ли? Я жестянщик, сучьи души…
И замолчал.
Я тоже помалкивал, потому что ясно было — ко мне этот разговор не имеет никакого отношения.
Павлюк часто разговаривал сам с собой. Со мной он говорил только о работе и всегда коротко — два-три слова. По имени он меня никогда не называл, а говорил просто «мальчик»:
— Мальчик, согрей паяльник.
Но смотрел при этом не на меня, а куда-то в сторону.
Объясняя мне что-нибудь, — например, как надо загибать уголки, — он тоже никогда не смотрел на меня и говорил таким голосом, точно в подвале, помимо нас двоих, присутствуют еще человек двадцать, которым тоже необходимо знать, как загибают уголки.
Рассердившись на то, что я, посланный за чайной колбасой, долго пробыл в лавочке, он выговор делал не мне, а кому-то третьему говорил:
— Ходить надо веселее.
И спрашивал:
— Слышишь?
Я молчал, потому что ясно был — не меня он спрашивает.
Меня, должно быть, он просто не замечал. Но мне это не казалось обидным. Напротив, эта невнимательность, пожалуй, даже возвышала учителя в моих глазах.
Мне всегда казалось, что он занят важными мыслями, что он носит в себе какой-то страшный секрет и думает постоянно об этом секрете.
В мыслях своих он, может быть, спорил с кем-то. И иногда говорил вслух:
— Ка-акая глупость!
Или:
— А ты как считаешь?
Можно было подумать, что он спрашивает кота, который по утрам всегда сидел на подоконнике и мучился бессонницей — то медленно закрывал глаза, то вдруг, вздрогнув по-человечески, открывал их и удивленно смотрел на Павлюка.
Павлюк, улыбнувшись невесело, спрашивал его:
— Не узнаешь?
И, ласково потрепав кота по морде, продолжал работать.
А кот снова закрывал глаза. Днем ему полагалось спать, потому что ночью он ловил мышей, которых в подвале было великое множество.
Один раз он поймал даже крысу. Она сильно искусала ему морду, но он все-таки задавил ее.
Павлюк наутро мазал ему морду вазелином и говорил, веселясь:
— Ай, Антон, ай, Антон! Молодец, красавец…
Похоже было, что он гордится котом так же, как и своей работой.
Однажды я слышал, как старушка Захаровна просила Павлюка:
— Нельзя ли вашего кота к нам на побывку? На ночку хотя бы. Пусть бы наших мышей попугал. Ужас что делается!
Павлюк сказал:
— Нельзя. У него своей работы дома хватает.
И к коту он действительно относился, как к работнику.
Как человеку, он говорил коту:
— Скучаешь, Антоша? А? Женить бы тебя хорошо.
Антон сидел на подоконнике и, точно смущаясь, щурился.
А Павлюк улыбался грустно. Потом говорил:
— Иди промнись. Чего же сидишь, как сыч?
И открывал ему дверь.
Антон выходил на крыльцо, вытягивал свое длинное, резиновое тело и скреб лапками каменную ступеньку — точил когти. А когти у него были длинные. И весь он был, от морды до хвоста, большой и сильный, породистый сибирский кот.
— Благородный, — говорила про него Захаровна. — Ишь какую морду наел! Чисто околоточный надзиратель Мельников Василий Васильевич.
В последнее время она часто стала прикармливать его. И всегда выносила ему в жестяной банке из-под консервов деликатный продукт — молоко, разбавленное отварной водой, щи мясные или ошурки от сала.
Молоко Антон пил с особенным удовольствием, ласково ворчал, медленно шевеля хвостом, но на руки к старушке не шел.
А когда Захаровна однажды пыталась переломить его непокорный мужской характер и употребила силу, чтобы привлечь его барственную морду к своей груди, кот жестоко оцарапал ей руку и, спрыгивая на землю, ударил ее хвостом по носу.
— У, июда! — гневливо сказала Захаровна. — Это как же ты о себе думаешь? А? Это куда же ты пойдешь, ежли хозяин твой помрет? Ко мне ведь и пойдешь, бессовестный. Я тебе буду тогда — желаешь, не желаешь — полная хозяйка…
Захаровна в гневе и злорадстве своем даже ростом становилась выше.
Но Павлюк, должно быть, и не собирался помирать.
Как всегда, по утрам он кроил на верстаке длинные листы белой жести или кровельного железа, и мы делали из них чайники, судки и ведра, самоварные трубы, умывальники и железные печки.
Железные печки он делал почему-то с особенной охотой, даже с удовольствием. Иногда пел при этом тихим, дребезжащим голосом, и щеки его пылали с пугающей яркостью.
А песня у него была одна и та же — про каторжника Лонцова.
Было это давно. Очень давно. Я объехал после того десятки городов, видел разных людей, слышал разные песни. Но и сейчас, если закрою глаза, я снова услышу песню, которую дребезжащим голосом пел Павлюк.
И мотив услышу и слова:
Гремит звонок насчет поверки.
Лонцов задумал убежать.
Не стал он ночи дожидаться,
Проворно начал печь ломать…
…Казак на серенькой лошадке
С докладом к князю поскакал.
— Я к вашей светлости с докладом —
Лонцов из замку убежал.
Павлюк, казалось, радовался побегу этого неустрашимого, неуловимого Лонцова и, вспоминая храброго человека в песне, песней этой будто угрожал кому-то и жил веселее.
Песня возбуждала его. А может быть, работа возбуждала. И из работы возникала песня, украшавшая жизнь.
Передвигался он от верстака к верстаку так же осторожно, как всегда, точно боясь расплескать в себе что-то сосчитанное до последней капли — дорогое, драгоценное.
Но когда он пел, движения его становились более быстрыми, как бы отчаянными. И в это время мне всегда казалось, что вот сейчас, сию минуту, он ударит еще раз молотком по железной кромке, вздрогнет, упадет и умрет моментально.
Пот выступал у него на лбу крупными, блестящими каплями. Все лицо становилось влажным и красным, будто он только что вышел из бани, из парного отделения. На шее, около кадыка, набухала большая синяя жила.
А он все пел и работал, выпрямляя железный лоскут, скручивая его и изгибая всячески до тех пор, покуда холодное железо, согретое только прикосновением горячих человеческих рук, не принимало наконец нужную форму — затейливый профиль ножки, трубы или печной дверцы.
Железные печки он делал лучше всех жестянщиков города. Лучше Кости Уклюжникова и, пожалуй, лучше даже Павла Дементьевича Линева.
Печки у него получались на редкость красивые, легкие и высокие, на фигурно изогнутых ножках.
У них были не только специальные поддувала, но и полки, небольшие, на которых можно было сушить мелкую рыбу, грибы и хлебные куски, чтоб они не залеживались.
В спинках печек пробивались отверстия для кастрюль и сковород. И к ним сделаны были крышки, круглые, с выдвижными ручками в виде бантиков.
В летнее время, когда невыгодно топить плиту или русскую печь, небогатые семьи готовили свой обед на железных печках, вынесенных во двор. И спрос на эти печки был всегда велик.
Павлюка заваливали заказами. Даже из деревень, из тайги приезжали к Павлюку.
И на дверцах каждой печки, в том месте, где положено быть дырочкам, он выбивал семь некрупных букв: «Павлюкъ».
Я спросил однажды:
— Это зачем же буквы, Андрей Петрович?
Павлюк взглянул на меня удивленно.
— Это ж фирма, чудак! Павлюк — мое фамилие…
И так постоянно он выбивал эти буквы.
Жить ему оставалось, может быть, очень немного. Говорили, что он не доживет и до зимы.
А начиналась осень, шли дожди. В подвале становилось уже совсем пасмурно.
Было трудно работать в этаких постоянных сумерках. И поэтому даже днем мы зажигали лампу.
Лампа вечно чадила. Сквозь зеленое закопченное ее стекло пробивался тусклый свет. Огонек мигал, и в мигании его, мне казалось, начинает наконец шевелиться до невозможности измученный грешник на картине «Страшный суд». Пламя лижет его, хватает за выпуклые ребра, за голову косматую, и лицо искажается в смертной муке. Худо ему, грешнику, на сковороде. И, наверно, так же худо, думал я, будет учителю моему, когда умрет он и его призовут на Страшное судилище.
О себе же, о смерти своей, я тогда не думал. Я думал о Павлюке. «Как же так? — думал я. — Человек знает, что скоро помрет, перед глазами у него ужасные картины, а он не тужит и не вздыхает даже…»
И Павлюк действительно не часто вздыхал при мне.
Был он ровен в поведении своем и весной, и летом, и осенью. По-прежнему принимал заказы, работал. И во всем придерживался как и раньше, строгих правил, ни разу не изменив им и их не изменив.
На стене у него висели большие, в деревянной раме, часы фирмы «Павел Буре», со звоном. Заводил он их по гудку со спичечной фабрики «Олень». И утром, когда спичечники шли мимо окон его на работу, он, уже разбуженный гудком и попивший чаю, начинал резать жесть.
Делал он это почти торжественно, неторопливо и шевелил при этом губами, будто читал молитву.
Голову его украшала затейливая прическа «бабочка». Волосы, седые и влажные, чуть топорщились и поблескивали. И временами казалось, что на голове у него не прическа, а шапочка из белой жести, плотно пригнанная к черепу.
Брезентовый пиджачок и штаны, тоже брезентовые, были всегда аккуратно проглажены и такие чистые, точно он каждое утро ждал, что кто-нибудь придет проверить, в каком виде он работает.
Но никто, кроме заказчиков и соседей, раздражавших его, не приходил.
Впрочем, в последнее время и соседи стали заглядывать редко.
В подвале было пасмурно и тихо.
Павлюк, нарезав жесть, слегка плевал на пальцы и брал киянку. С этого момента работа у него шла быстрее. И я, подкрашивая готовые ведра, тоже невольно начинал торопиться.
В половине двенадцатого на спичечной фабрике ревел гудок.
Павлюк неохотно прекращал работу, смотрел на часы. Иногда становился на табуретку и подводил их, если они отставали. Потом смотрел на себя в зеркало, висевшее тут же, около дверей, поправлял жиденькие, нитяные усы и говорил, беседуя с самим собой:
— Ну что ж… Имеем право пообедать.
На кухне стоял узенький столик, покрытый рыжей клеенкой. Павлюк каждый раз перед обедом поливал ее водой из чайника и протирал тряпкой. Потом ставил на нее проволочный кружок и вынимал из печки чугунок со щами.
Большую русскую печь он топил и летом, потому что ему и летом было холодно. Один раз он сказал, так же как всегда, ни к кому не обращаясь:
— У воробья и то, пожалуй, крови-то побольше, чем во мне. Потому и зябну.
Щи и кашу он варил с вечера. Простоявшие в печке всю ночь и полдня, они аппетитно пахли. Гречневая каша становилась малиновой и рассыпчатой.
После обеда я доставал из узелка, принесенного с собой, пучок моркови и съедал ее за один присест.
Бабушка моя говорила:
— Морковь кровь наливает, черемша заразу прогоняет, а чеснок от заразы бережет и к тому же идет для аппетита.
Мне чеснок для аппетита не требовался. Черемша мне не нравилась. А морковь я любил и верил, что она наливает кровь.
Глядя на Павлюка, я мог видеть, как плохо человеку, когда в нем мало крови. И я каждый день наблюдал, как кровь все усыхает и усыхает в этом человеке.
— Вот бы вам, Андрей Петрович, морковь есть. Она ведь сильно помогает, — осмелился сказать я однажды.
Павлюк посмотрел на меня почти весело и сказал, будто пожалев меня:
— Эх, мальчик!.. Никакая морковь меня уже теперь не спасет. Нет, не спасет…
И, склонившись над столом, помотал головой.
Больше мы на эту тему не разговаривали.
А он не только не ел морковь, но и щи и кашу ел в последнее время неохотно, словно по обязанности.
Иногда, правда, на него вдруг нападал аппетит. Он съедал все торопливо и жадно. Наевшись, собирал в ладонь со стола крошки и проглатывал их тоже, широко раскрыв рот и закинув голову.
Но чаще аппетита не было у него. Он сидел за столом, скучный и вялый, и видно было, что он ждет, когда я наемся, чтобы прибрать посуду.
После обеда меня всегда клонило ко сну. «И Павлюку, — думал я, — наверно, тоже хочется спать». На улице дождь, тоска. Хорошо уснуть в такую погоду, на полчасика хотя бы забыться.
Но Павлюк, пообедав, шел к верстакам — работать. И я шел за ним.
Железные печки он делал, как раньше, с видимым удовольствием. Но петь при этом уже не мог. Внутри у него хрипело что-то и посвистывало. Петь, должно быть, он никогда уж не смог бы.
Даже с котом он разговаривал теперь не часто. А когда говорил, как обычно, с самим собой, понять не всегда было можно, о чем он говорит.
Иногда я все-таки улавливал отдельные слова. Но смысл этих слов был туманным.
Непонятно было, о чем думает этот человек, на что надеется.
А ведь, похоже, надеется на что-то…
В углу на тумбочке стоял граммофон с огромной изогнутой трубой. Павлюк купил его на барахолке по частям. Сам собрал эти части, изготовил трубу. И теперь граммофон пел в тоскливые осенние дни про любовь: «Бе-е-ело-ой ака-ации гроздья душистые-е вновь а-аро-ма-а-том, арома-а-том полны».
Пластинок было только две — «Белая акация» и «Шумел, горел пожар московский».
Однажды Павлюк поставил эту вторую пластинку, хотя она ему нравилась меньше, чем первая.
На дворе, как обычно во все дни эти, шел некрупный, нудный дождь.
Дождевая пыль вместе с грязью залепляла наши окна. На стене у нас горела лампа в фонаре «летучая мышь».
А Наполеон, виденный мной у бабушки на комоде, печально и певуче-дребезжащим, как у Павлюка, голосом спрашивал из граммофона:
За-че-е-ем я шел к тебе, Росси-и-йя,
Евро-о-опу-у всю держа в руках?
И мне в эту минуту было жалко французского императора, как себя. В такую слякотную погоду погнал его черт неведомо куда и бог знает зачем…
Вдруг кто-то постучал в окно.
Павлюк остановил граммофон, убавил фитиль в лампе, подошел к окну. Со двора, прижавшись к мокрому стеклу, смотрела на него рыжеусая, багровая морда лавочника Баркова. И лавочник кричал:
— Продаешь граммофон-то? А?
Павлюк хотел не то плюнуть, не то сказать что-то, но ничего у него не получилось. Он только качнул головой, как деревянный паяц на веревочке. И кашлянул в стекло.
Поглядев на него, я встревожился: до какой же, значит, степени ослабел он, обессилел и устал навсегда…
Подойдя потом к верстаку, он взял киянку, погладил ее зачем-то и сказал, должно быть, коту, сидевшему на верстаке:
— До чего дешевые люди бывают на свете! Обидно подумать даже…
И больше ничего не сказал. Стал собирать инструмент.
Инструмент после работы он всегда сам вытирал прокеросиненной тряпкой и развешивал на стене, в кожаных петельках, прибитых гвоздями. Потом приносил из сеней широкую корзину и складывал в нее железные обрезки. А я подметал пол.
Павлюк говорил:
— Чистота возвышает человека. Это имей в виду…
Но чаще он молчал. И молча делал все, что надо. Он даже кашлять старался негромко.
В подвале становилось все тише и тише.
И в тишине, будто царапая по сердцу, визжала жесть, когда ее резали, да гремел по жести деревянный молоток.
Павлюк передвигался все осторожнее, все боязливее. Щеки его теперь не пылали, они потемнели, стали землистыми, серыми. Глаза запали глубоко-глубоко. При свете лампы они горели в глубине как дорогие камни.
А дождь все лил, лил.
У Павлюка, как в начале нашего знакомства, пошла кровь горлом. Он бережно сплевывал ее в стеклянную баночку и туго завинчивал жестяную крышку, чтобы не распространять заразу, как объяснил он мне.
Обедал я теперь один, а учитель мой только сидел за столом, делая вид, что обедает. Есть он, должно быть, уже не мог. Но все равно в положенный час, услышав обеденный гудок со спичечной фабрики, прекращал работу и вынимал из печки щи и кашу.
И вот однажды, когда он ставил на стол чугунок со щами, в дверь постучались, и вошли двое — Костя Уклюжников, известный в нашем городе жестянщик, и с ним еще неизвестный паренек.
Павлюк очень удивился этому визиту. Костя Уклюжников к нему раньше никогда не ходил. Встречались только на базаре, в скобяном ряду, где продают изделия и железный материал. И вдруг Костя пришел на квартиру, да еще с товарищем. А зачем?
— Просто так, — сказал Костя. — Шли мы мимо. Дай, думаю, зайдем к знакомому, наведаем его. Говорят, прихварываешь ты, Андрей Петрович?
— Какое там прихварываю! — улыбнулся Павлюк. — Отхворался уж…
— Поправляешься, что ли? — спросил Уклюжников.
— И не поправляюсь и не хвораю, — сказал Павлюк. — Одним словом, отхворался вчистую…
— Непонятный ты мне человек, Андрей Петрович, — признался Костя. — Очень скрытный у тебя характер. А я как раз подумал: может, помощь какая тебе нужна, может, в чем-нибудь я тебе пособить могу. Мы ведь все-таки знакомые давно и тем более — одного ремесла…
— Одного — это правильно, одного ремесла, — согласился Павлюк. И как будто обрадовался даже, уцепившись за эти слова. — Но помогать мне теперь уже ни к чему. Ни к чему мне помогать. Я скорей тебе помогу. Вот у меня жесть остается, сколько жести хорошей. Если хочешь, возьми, уж раз пришел…
Костя так обиделся, что даже встал со стула.
— Да разве я к тебе за этим шел? Как тебе не совестно, старый ты человек! Я с добрым словом к тебе шел, а ты мне такое… Что я, барышник разве какой?
Павлюк растерялся. Он не знал, должно быть, что сказать, и долго молчал. А когда Костя и его товарищ пошли к двери, Павлюк загородил им дорогу.
— Ты пойми меня, — попросил он Костю. — Я тоже ведь к тебе с добрым сердцем. Ты мастеровой, хороший человек, я это знаю. И ты правильно сказал, мы люди одного ремесла. А у меня жесть остается. К чему мне она? Не гроб же мне ею обивать…
— Да при чем тут разговор о гробах! — будто возмутился Костя. — Тебя, дьявола, еще палкой не убьешь. Ты еще и мне глаза закроешь в случае чего, несмотря, что я моложе тебя…
И Костя засмеялся вдруг, как в театре, очень громко.
— Нет уж, Костя, нет, — сказал Павлюк. — Это как по закону — не взойти солнцу с западу, не бывать дважды молоду. Я сам чувствую, не тот уж я. Не такой. Благодарствую тебе на добром слове, что ты меня еще сильным считаешь. А жесть возьми. Не обнимайся. Мне приятно будет, ежели ею мастер воспользуется. Мне приятно будет. Я тебе это твердо говорю. И еще чего хочешь возьми. Я сейчас тут как в магазине живу. Продажа, однако, без денег…
Но Костя Уклюжников ничего не взял, даже не притронулся ни к чему. Посидел еще часок, потолковал о всяких мелких делах и ушел, пообещав зайти на днях.
А вечером в тот же день пришел Павел Дементьевич Линев, тоже жестянщик.
Про Линева моя бабушка говорила шепотом, что он социал-демократ. Я тогда еще не знал, что это значит. Но видел, как все, что Павел Дементьевич ходит очень чисто, носит даже галстук бантиком под названием «собачья радость» и в воскресенье прогуливается по берегу в котелке и с тросточкой.
Я однажды встретил его на берегу, поздоровался вежливо и, когда он поднял котелок, чтобы поздороваться со мной, спросил, правду ли говорят, будто он социал-демократ.
Я, конечно, не ожидал, что он вдруг весь вспыхнет. Но он действительно вспыхнул и сказал мне немного погодя с печальной улыбкой:
— Очень жаль, что отец твой рано помер. Крайне жаль. Некому тебя пороть как следует. А то бы ты не задавал таких вопросов…
Я так и не узнал в точности, был ли Павел Дементьевич социал-демократом. Но в памяти моей он сохранился хорошим человеком, особенно после того, как вечером он пришел к Павлюку. Пришел с другого конца города, в проливной дождь.
Павлюк задержал меня в этот вечер на работе, чтобы пересчитать и переписать все заказы, уже сданные, и все, какие надо было сдать. И вот когда мы выяснили, что заказов невыполненных почти нет, а есть только не выданные заказчикам две печки, шесть ведер и кожух для кипятильника, и когда я уже собрался уходить, пришел Павел Дементьевич Линев, весь мокрый от дождя, хотя и с зонтиком.
Поздоровавшись, он начал кашлять, сказал, что простудился от сырости, и сообщил, что на примете у него есть хороший доктор, который берет недорого, и очень было бы неплохо, если б этот врач посмотрел Павлюка.
— Поздно уж меня смотреть, — улыбнулся невесело Павлюк. — Поздно, Павел Дементьевич. И ни к чему. Нету смысла…
— Ну, не скажите, Андрей Петрович, — возразил Линев. — Сейчас есть очень хорошие лекарства. И если вы согласны, я вместе с вами могу сходить к врачу. Это тут недалеко, на Извозчичьей горе. Кукшин, доктор. По всем внутренним болезням…
— Поздно, — опять сказал Павлюк.
Но говорил он это так, что можно было подумать, будто он только упрямится, а на самом деле еще совсем не поздно.
После прихода Кости Уклюжникова и особенно после разговора с Павлом Дементьевичем Линевым Павлюк как будто посвежел, как будто приободрился.
— Хороший у нас народ, — почти весело сказал он, проводив Линева. — Хороший, совестливый, чувствительный. Среди хорошего народа живем…
Говорил он это, как всегда, самому себе, по-прежнему не замечая меня. Но я все-таки вмешался в этот его разговор с самим собой и сказал:
— Ну да, очень хороший! Все только приглядываются, прицениваются: отдай, уступи, продай по дешевке…
— Эх ты, голубь! — вдруг засмеялся Павлюк и потрогал меня за плечо. В первый раз потрогал по-свойски. — Это ты про кого говоришь? Про Варкова? Про Хинчука? Это, брат, еще не народ. Эти только живут около народа. Народ — это мастеровые, у кого ремесло в руках и кто необходимое дело делает. Вот это называется народ…
Помолчав, походив с довольным видом по подвалу, он, как здоровый, улыбнулся весело и сказал:
— Хорошего народу больше на свете, чем плохого. А если б было наоборот, ничего бы не было. Ни паровозов, ни пароходов. И даже каменных домов трехэтажных не построили бы…
Никогда еще Павлюк не был таким веселым, как в этот вечер. И утром еще на другой день он был веселый.
А к вечеру следующего дня вдруг опять увял, нахмурился, стал зябко втягивать голову в плечи.
После работы он, как обычно, собрал инструмент, перетер его прокеросиненной тряпкой, велел мне подмести пол и, когда я подмел, сказал:
— Завтра не приходи.
Я спросил:
— Почему?
— Потому, — сказал он угрюмо. — Я помру завтра.
Я не очень удивился, но немного растерялся все-таки. И сказал растерянно:
— Ну, покамест до свиданьица, Андрей Петрович.
Позднее я много раз вспоминал эту глупую фразу.
Мне казалось позднее, что я мог бы сказать на прощание какие-нибудь более значительные, более умные, душевные слова. Я любил и уважал моего учителя, несмотря на мрачность и молчаливость его.
Я, конечно, смог бы придумать на прощание что-нибудь хорошее.
Я позднее и в самом деле придумал неплохие, торжественные слова.
А тогда я, к сожалению, ничего больше не сказал. Неловко поклонился, не глядя на учителя, и пошел торопливо на лестницу, под дождь. Но Павлюк остановил меня:
— Выбирай какой хочешь инструмент. Бери на счастье. Будешь жестянщиком.
Я помотал головой, сконфузился, сказал:
— Спасибо.
И опять пошел на лестницу. Но Павлюк остановил меня опять:
— Выбирай чего хочешь из вещей. Граммофон бери.
Но тут вдруг непонятный страх обуял меня. Я ничего не взял, даже «спасибо» не сказал в третий раз, как надо бы сказать, и ушел поспешно, не оглядываясь.
После я очень горевал, что не взял ничего. Надо было бы мне унести домой хоть кота Антона. Дома у нас мышей было много. Пусть бы он их половил. И на память бы у нас остался. Мы жалели бы его.
А то достался кот старушке Захаровне. Она, конечно, сейчас же прибрала его к рукам. Два раза, как я слышал потом, отстегала его солдатским ремнем за непокорность. Но он все равно жить у нее не стал, несмотря на молоко, убежал куда-то.
Все имущество Павлюка забрала, как полагается, полиция. Говорят, он завещал отдать его вещи в детский приют, где и сам воспитывался когда-то как «казенный мальчик». Но отдали их или нет — этого я не знаю.
Я не знаю больше ничего из истории учителя моего, замечательного жестянщика Андрея Петровича Павлюка.
На похороны его я не ходил. Да и похорон настоящих не было.
Просто и тихо, ранним утром, часов, может быть, в семь или в половине восьмого, тело его, говорят, положили на телегу, в желтый полицейский короб, и увезли прямо в мертвецкую, где лежали, наверно, десятки таких же безродных, никому не интересных мертвых людей.
В детстве я часто вспоминал Павлюка. Судьба и смерть его мне представлялись обидными. Я ни за что не умер бы так просто. Я сделал бы что-нибудь особенное, сказал бы хоть что-нибудь громкое, необыкновенное перед смертью. Какие-нибудь хватающие за душу слова.
Но так казалось мне в детстве, в раннем детстве, лет до десяти.
Потом началась гражданская война.
Нас, мальчишек, война эта быстро сделала взрослыми. Она открыла перед нами сразу такие житейские глубины, на познание которых в другое время пришлось бы истратить, может быть, не один десяток лет. Может быть, два десятка, может быть, три.
Я встречал еще много людей не хуже Павлюка. И я любил и уважал их не меньше. Я видел, как жили они. И видел, как умирали.
Умирали они удивительно просто, не домечтав и не доделав многих дел своих, не истратив всей заложенной в них энергии и, казалось, даже не успев пожалеть об этом.
Я помню огромные могилы у Зрелой горы. Их рыли в полдень, в дикий мороз, через час после боя.
Земля дымилась, извергая пахучее тепло из глубин своих. И в тепло это, в темную талую жижу, торопливо укладывали без гробов, друг на друга, сотни мертвых людей, еще час назад носивших оружие, веселившихся, грустивших, мечтавших.
А отряды, похоронившие мертвецов, шли все дальше и дальше. И движение их было бесконечно, как жизнь.
Павлюк угасал в моей памяти.
В ряду больших и признанных героев, увиденных мной, он, казалось, не мог найти себе места. Ведь он ни о чем не мечтал и ничего как будто не добивался. Он так бы и остался жестянщиком.
Величественные дела заслоняли его. И каждый день был полон новыми событиями.
Я жил очень быстро. И очень быстро сменялись мои увлечения.
Мне хотелось быть то знаменитым полководцем, то художником, тоже знаменитым, то писателем, равного которому еще не было на земле, то хирургом.
По-мальчишески мне хотелось выбрать дело самое большое, самое интересное. А лет мне было шестнадцать. И весь мир был доступен мне.
В необъятном мире я мог выбрать любое дело, необъятное.
Но вдруг случилось несчастье.
В Оловянной пади, что лежит в семидесяти километрах от нашего города, в бою с бандитами мне прострелили правый бок. Я упал в снег.
«Вот и вся твоя мелкая жизнь, суслик, — думал я о себе, лежа в снегу. — Вот и вся твоя жизнь».
Потом меня подняли и унесли в лесную сторожку.
Около меня суетился мой товарищ. Он перевязывал меня и говорил:
— Погоди минутку, я сейчас сбегаю за дровами. — И еще раз сказал, уходя: — Погоди.
Будто просил не умирать до его прихода.
Но мне было очень плохо. На сторожку надвигалась ночь.
Я лежал и думал о смерти.
Где-то слышал я, что бывает заражение крови, от которого неизбежно умирают. Мне казалось, что оно уже начинается у меня. «Я умираю», — думал я. И мне было, попросту говоря, страшно.
Хотелось с кем-нибудь поговорить, сказать что-то важное. Да, мне хотелось сказать перед смертью что-нибудь необыкновенно важное. Но товарищ собирал хворост.
Наконец он собрал его, растопил печку.
За окнами была ночь, зима, начинался ветер, и деревья скрипели под ветром.
Хворост в печке сопел, повизгивал.
И вдруг вспыхнул большой огонь, осветив сторожку, осветив и самую печку, на дверце которой было выбито большое слово: «Павлюкъ».
Москва, зима 1937 г.
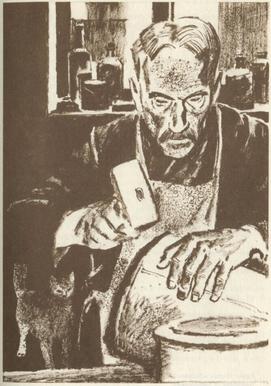
Павел Нилин. «Знаменитый Павлюк».
Художник П. Пинкисевич.
НИКОЛАЙ АТАРОВ
КАЛЕНДАРЬ РУССКОЙ ПРИРОДЫ
1
Зимой 1919 года на всех фронтах гражданской войны наши армии выходили к морям. Распалось кольцо интервенции. В Глубоких снегах войска неудержимо стремились вперед.
Рабочие делегации, ехавшие с подарками для красноармейцев, случалось, по две недели не могли нагнать передовые линии.
Взрывая блокгаузы и мосты, в панике отходили англо-американские интервенты, деникинские, колчаковские, миллеровские дивизии; одни — на Северный Кавказ, другие — в Забайкалье или к архангельским пристаням. В Одесском порту декабрьская буря леденила суда интервентов: торпедные катера, десантные боты и миноносцы и семь греческих пароходов, готовых принять на борт бегущих. А в Петрограде в это время стояла оттепель, в конце декабря установился колесный путь; жены рабочих, выходившие за Московские казармы присмотреть участки под огороды, видели в ясные дни блестевшие на полях проталины.
Ночью под Новый год пришло сообщение о взятии Екатеринослава. Коммунисты с утра были мобилизованы на митинг, и потому, что редакция газеты имела собственную коляску, редактору Ланговому поручили один из загородных заводов. На улицах темнели и оседали сугробы; сквозь дымку тумана над грязно-серым льдом Невы низкое солнце просвечивало совсем по-мартовски, и, может быть, потому всю дорогу Ланговой не мог отвязаться от непривычного ощущения, волновавшего сердце, что с войной кончено и скоро надо будет переводить газету на мирную тему труда и восстановления.
Редактор щурился на солнце, оглядывая черные, обдутые ветром прогалинки, а въехав в сосновый лес, глубже упрятал небритый подбородок в воротник шинели. Корректор Рачков, заменявший в поездках кучера, подхлестывал отощавшую лошадь. На корнях коляску потряхивало. В тени сосен держался снег и было студено по-зимнему.
— Легче, легче, Рачков! Плохой из тебя ямщик.
— Гляди — недобитый… — сказал Рачков, показывая в глубь леса.
Высокий старик в городском пальто и мягкой пуховой шапочке стоял в нехоженом лесу и смотрел в бинокль на рябины, теснившиеся по опушке.
Расстегнув на ходу кобуру нагана и выпрыгнув из коляски, Ланговой приблизился к подозрительно нелепой и неуместной фигуре горожанина, но тот даже не оглянулся — видимо, увлеченный своими странными наблюдениями.
— Эй, гражданин, давай-ка сюда! — сказал Ланговой.
— А что вам угодно? — отозвался старик, давая почувствовать, что он отлично слышал приближение человека.
— Ты в какую зону забрел, ты знаешь?
— Я в зоне зимних пастбищ дроздов-рябинников, — ответил старик. Стоя лицом к Ланговому, он аккуратно подвинтил бинокль и вложил его в футляр, подвешенный на груди. — Я наблюдаю за птицами. Я — фенолог, натуралист. Что еще? Моя фамилия — Карагодов. Прикажете мандат?
Видно было, что к нему не раз приставали с расспросами. Распахнув ботанизирку, висевшую на боку, старик ловким движением руки достал мандат, точно будто патрон из ружья. Но его лицо, когда он протянул бумагу, вдруг погасло, исчезла ласковая усмешка; остались озябшие уши, усталость в глазах, красные ниточки стариковского румянца. И это соединение охотничьей сноровки с устало-беспомощным выражением лица почему-то убедило редактора в том, что старик говорит правду. Он только мельком взглянул на мандат, выданный Лесным институтом.
Да, это был Карагодов Дмитрий Николаевич, ученый-фенолог, бессменный обозреватель погоды в петербургских газетах, составитель бюллетеней весны, дневников природы, — тот всем известный Карагодов, одно имя которого вызывало в трех поколениях петербуржцев привычный газетный образ весны. Война вытеснила все это со страниц газет, а вот спустя пять лет оказывается — старик жив.
— Удивительно, — сказал Ланговой, подавая руку Карагодову. — Я редактор газеты Петроградского совдепа. Мы там о вас позабыли…
Он сказал «позабыли», смутно имея в виду и соловьев, и анютины глазки, и вишню в цвету — все это милое и далекое.
— Да, уж тут не до нас, — проворчал фенолог и махнул мандатом в сторону рябин. — Вон прошли войска, пообрывали, пообломали. Нет ни черта.
— А что, гуще должно быть? — невольно полюбопытствовал Ланговой.
— Ярус под ярусом, стоит зипун с гарусом, — важно произнес старик.
И Ланговой улыбнулся: таким наивным и удивительным показался ему этот разговор в лесу после газетной ночной сумятицы, грохота ротационных машин и митинговых речей в тускло освещенных цехах.
Корректор подошел по следам Лангового.
— Это профессор Карагодов. Помнишь, в старых газетах писал про весну, про всякие цветики?
— Помню, как же, править корректуру случалось, — подтвердил Рачков. — Как это: «В ночь на сегодня при умеренном северо-восточном ветре…» Так, что ли? «Градусник стал подниматься, прилетели разные птахи…»
Карагодов смеялся: выходит, не забыли. Вдруг он насупился и, показав рукой на рябины, сказал:
— Природа каникул не знает, господа товарищи.
— Снег да иней, — небрежно возразил Рачков.
— Нет уж, не снег да иней, а, если хотите знать, скоро весна. Выройте ямку. Там, в земле, весна. Копошатся… — Карагодов тыкал пальцем, показывая на снег, усыпанный хвойными иглами.
— А здесь, наверху? — решил испытать корректор.
— Здесь зима, — согласился Карагодов. Он вытащил бинокль и снова оглядел рябины. — Еще бы полбеды, кабы одна пехота была. Нет, за ней конница. Видите, и наверху нет ничего. Каждый норовит веточку в гриву. А ведь это пастбище у нас в окрестностях — единственное в своем роде. Поверите, в старые времена дроздов в январе — ну, тьма! За версту слышно. Щебечут, точно санный обоз в морозное утро! А теперь нет ничего.
Карагодов выбрался на дорогу и побрел.
Ланговой и Рачков переглянулись, и, вдруг отчаянно махнув рукой, корректор запрыгал по глубокому снегу через ложбину в сторону рябин. Он делал большие скачки, боком, боком, пока не добрался до деревьев.
А Ланговой вышел вслед за фенологом на дорогу.
— Вы загляните-ка завтра в редакцию, — по-деловому сказал Ланговой. — Отдел к весне восстановим.
Карагодов смутился:
— А что, правда, войне конец?
— Екатеринослав взяли. Вот на митинг едем.
Быстро смеркалось. Рачков отпустил вожжи — коляску потряхивало на корнях. Фенолог отстал. Ланговой озяб, сунул пальцы в рукава шинели, зажмурился, размышляя о скором конце войны.
— Говорит, под землей весна, — вспомнил он, когда показался впереди Охтенский завод.
— Врет, — отозвался Рачков, надкусывая ягодку рябины.
— Нет, верно, правду говорит, — подумав, возразил Ланговой.
2
Военные сводки поступали в редакцию по ночам, но в ту неделю все смешалось. Когда Ланговой и Рачков вернулись с митинга, они застали всю редакцию на ногах: днем из Москвы сообщили по телефону о том, что, развивая успех наступления, красные полки заняли Синельниково; конный корпус с боем захватил станцию Лихая; в Донецком бассейне поднимаются шахтеры.
Всю ночь в редакции хлопали дверями; стужа и сквозняки врывались в зал — на улице бушевала метель. Заметенные снегом самокатчики с Нарвского района, с гавани то и дело подкатывали на мотоциклетках к подъезду. Звонили телефоны, и Лангового несколько раз вызывал Смольный.
Под Бирзулой, на Юго-Западном фронте, шел бой — решалась судьба Одессы.
Пешком с далеких окраин приходили в ту ночь рабочие-корреспонденты. Они теснились у телефонов, передавая на фабрики и заводы последние фронтовые новости; махорочный дым тянулся длинными полосами. Кто-то в солдатской шинели, в сером башлыке вслух читал в кабинете редактора телефонограммы, а моряк в бушлате записывал прямо с голоса. За ночь белые оставили Новочеркасск, Мариуполь, Жмеринку, Винницу. И на других фронтах — на севере и востоке — отход интервентов превращался в беспорядочное бегство.
И все же так много лет не прекращалась война, так свыкся с ней народ, что люди не торопились радоваться, потому что не могли представить себе, что скоро вообще исчезнут фронты, будет объявлена демобилизация, наступит мир в свободной, отвоеванной для себя стране. Была зима, и люди зябли, идя в город за новостями. Отходя от карты, висевшей в редакторском кабинете на стене, они грелись у печки, поправляя солдатские ремни, затянутые поверх штатских пальто, немногословно переговаривались в очереди у телефонов, стараясь не мешать сотрудникам газеты.
В шестом часу утра Ланговой распахнул дверь кабинета и вошел в зал. Он стоял перед людьми, утомленными бессонницей, — плечистый, бравый, в солдатской гимнастерке, в синих галифе и тонких, обшитых кожей чесанках.
— По-ка-тил-ся! — раздельно произнес он, поглаживая жесткие пепельные волосы.
В этот час, перед сдачей номера, Ланговой всегда сам придумывал заголовки для статей, идущих в набор, и размечал шрифты.
— Над фронтовыми сводками сегодня дадим одно слово: «Покатился». Над всей полосой. Что? — Ланговой смеялся, глядя в смеющиеся лица товарищей. — Не мельчить, не мельчить, ребята! Не «Враг покатился», и не «Деникин покатился», и не «К Черному морю», а просто «Покатился».
И номер был сдан в машину.
Когда Рачков вернулся с газетой из типографии, уже рассвело. Утро было тихое и солнечное. Рачков присел на подоконник. Внизу, за окном, белела мостовая. Корректор закурил; он любил тихонько покурить утром в пустой, всеми покинутой редакции. Ланговой спал в кабинете, накрывшись с головой шинелью. В большом зале, неравномерно согретом печуркой, среди портянок, развешанных для просушки, и бумажного сора на грязном паркете, ярко краснели на конторке рябиновые гроздья.
3
В мирное время Карагодов знал, что, если в Лодзи прошла гроза с ливнем или в Казани наступило похолодание, он завтра известит об этом петербуржцев: у него было много добровольных корреспондентов. Теперь остался Карагодову градусник — тот, что висел у него за окном.
Он жил в Лесном, в маленьком домике, среди парка, среди занесенных снегом оранжерей. Здесь прошла вся его жизнь. Чего только не было: снегопады, дожди, десятибалльные штормы и при западном ветре высокая вода на Неве, с пальбой из пушек. Здесь он писал «Чтение для народа», «Беседы о русском лесе».
Под вечер в николин день кричала ушастая сова, а раз в пять лет — и всегда в мае — сохатый проходил через парк, и сторожа Лесного института поутру водили Карагодова по его следам.
И все было записано.
На маленьком круглом столике в палисандровом сундучке хранились дневники петербургской погоды за сорок лет.
Метель бушевала до самого утра. Когда-то Карагодов знал, откуда и куда движутся циклонические массы. Теперь, подобно любому крестьянину, он только и мог, выйдя во двор, запахнувшись покрепче, подставить мокрому ветру заспанное лицо и пробормотать: «Крепко метет…» И все-таки в ту ночь, стоя на крыльце и удивляясь тому, как взволновало его предложение редактора-большевика, Карагодов радовался чему-то, что должно было неминуемо наступить по всей стране.
«Значит, войне конец… конец», — повторял он и силился вообразить огромные просторы России — какие они в этот вечер: с морозами, туманами, оттепелями — и ничего не мог представить. Мерещились походные кухни на станционных перронах, составы теплушек, гармошка.
Он возвратился в холодный кабинет. Огонь ночника на письменном столе слабо повторялся в стеклах гербария, в бронзовых рогах оленя, в стеклянном колпаке, под которым хранились пожелтевшие от времени письма Россмеслера[69] и Брема.[70]
А днем, когда наполнила редакцию вчерашняя толпа и оттесненный к печке Рачков сидел на поленьях с раскрытым томом словаря Граната, кто-то тронул его за плечо. Он обернулся — Карагодов.
— Ага, и вы здесь! — сказал корректор: он решил, что фенолог пришел вместе со всеми.
— Что вы ищете у Граната? — спросил Карагодов, вглядываясь в книгу.
— Да вот Гурьев… Нужно дать сноску в газете. А то позабыли, что это за Гурьев и где он есть. А он нынче взят. И в нем двенадцать тысяч жителей.
— Проводите меня к редактору, — сказал ученый.
Он изложил Ланговому свои условия скучным, лекторским голосом. Он, видимо, волновался: его смущали люди, заполнившие кабинет: пуховую шапку он положил на стол.
— Нормальная фенологическая весна у нас в Петербурге, — говорил Карагодов, — наступает в начале марта, когда прилетают грачи.
Молоденький сотрудник, не успевший досказать редактору свои соображения насчет сыпнотифозных лазаретов, с интересом вслушивался в слова Карагодова.
— За время весны, пока не отцветет сирень, я приготовлю десять — двенадцать бюллетеней. Вы отплатите мой гонорар натурой. Мне денег не нужно. Я курю… Махорка… Мне нужен хлеб… хотя бы пол пайка. — Тут Карагодов взял со стола шапку и натянул ее на уши двумя руками. — Мне нужны спички. Я одинок. Керосин.
Редактор слушал фенолога, стоя с полевой сумкой в руке: он торопился в Смольный.
— Я допускаю, — продолжал ученый сквозь гул голосов, — что, как ни маловажны события, происходящие весной в природе, в сравнении с восстановлением нашей родины и победами на фронтах, мои заметки о весне все же могут занять скромное место.
— Вот что! Поменьше слов, дорогой профессор: военное время, — оборвал его Ланговой и рассмеялся. — Весна нам нужна раньше ваших фенологических сроков. «В начале марта» — никуда не годится. Вы сами вчера сказали, что под снегом весна. Вот и начнем.
Так в январе 1920 года в редакции появилась новая должность. Карагодову, по его просьбе, стол поставили около печки, и удивительный старик, о котором никто из молодых сотрудников толком не мог сказать, на что он нужен, принялся за работу.
4
Фронты наполняли газету, что ни день — новые списки занятых городов, и в редакции не знали, как разместить эти сводки на газетных страницах. Буденновский корпус занял Ростов. Сибирский ревком сообщал, что советская власть простирается до самой Читы. В ночь на 10 января Охотская радиостанция передала, что в Петропавловске-на-Камчатке гарнизон перешел на сторону народа. В среднеазиатских песках повстанцы разбили Джунаид-хана и овладели Хивой.
Никогда в Петрограде не ждали весны с таким нетерпением. На дровяных дворах было пусто. Хлебный паек сокращался. Ждали подвоза по воде, когда вскроются реки: на Волге зимовали во льду караваны с хлебом и нефтью.
Сотрудников не хватало. Огромный город боролся с разрухой, и Ланговой сам отправлялся на заводы или в доки. Он спал все меньше и меньше.
Карагодов старался быть незаметным. Но редактор иногда вспоминал о Карагодове.
— Где же весна, Дмитрий Николаевич? — спрашивал он взыскательным тоном, каким спрашивают хроникеров: «Где же факты?»
— Мне еще не пишут об этом фенологи, — отвечал Карагодов.
Ведь он предупредил товарища Лангового: он сорок лет наблюдал в Петрограде деревья, цветы и небо — весны в феврале не бывает.
Ему не давали никаких поручений, он только поддерживал огонь во времянке. Эту обязанность он сам возложил на себя. В огромных окнах серело асфальтовое небо, задернутое облаками, а в круглом глазке железной дверки видно было, как копошится в печи веселый, живой огонь. Рачков стоял у конторки и расставлял корректурные знаки на влажных оттисках набора. Контуженный на восточном фронте хроникер, подергивая шеей, диктовал машинистке:
— «Выбитый из Царицына противник… запятая… преследуемый нашими доблестными частями… написали?.. бежит вдоль железной дороги на Тихорецкую…»
И среди этого разноголосого шума неприметно пребывал за своим столом Карагодов. Он восстанавливал нарушенные войной связи. Почерком острым и мелким он писал на конвертах адреса тех, кто когда-то в разных местах России наблюдал природу. То были скромные пожилые люди: учителя начальных школ, любители птичьего пения, собиратели грибов, рыболовы. Живы ли они? Иногда, выписывая адрес, Карагодов сомневался, не находится ли эта местность еще по ту сторону фронта, у белых. Тогда, ни с кем не советуясь, он перелистывал комплект газеты или в отсутствие Лангового забирался в его кабинет и со списочком в руке сверял по карте. Случалось, что, прочитав утром газету, фенолог тотчас сдавал секретарше залежавшиеся в столе письма.
Зима продолжалась, и не было ей конца. В воскресные дни Карагодов выходил за город, бродил по лесу, прислушивался к скрипу сосен, делая насечки.
— Где же весна? — нетерпеливо спрашивал Ланговой, когда Карагодов возвращался в редакцию. Но фенолог молчал, и редактор, пожав плечами, добавлял: — Тогда начнем без вас.
Поздно вечером, подбросив щепок в печурку, Карагодов потихоньку уходил из редакции. С полфунтиком ржаного хлеба он шел по Симеоновской, по Литейному; привычно останавливался у костров, пылавших всю ночь перед хлебными лавками, и многие женщины, гревшиеся у костров, узнавали его, потому что он проходил здесь каждую ночь.
Карагодов выходил на Литейный мост и видел на Неве, под мостом, вмерзшие в лед пустые баржи, верхушки затонувшего плавучего крана.
У Финляндского вокзала маршировал красноармейский отряд. И снова фенолог углублялся в темные провалы улиц; в поздний час переставали дымить бесчисленные трубы «буржуек», торчавшие из окон многоэтажных домов.
Где-то постреливали. Карагодов прибавлял шагу, отламывал корочку от пайка, жевал на ходу и на ходу припоминал все сроки весны: когда опять в погожий апрельский денек выползут из земли дождевые черви, появятся шмели на зацветшей медунице, и по дворам окраин, давно не метенным и неприбранным, зацветут черемуха и ольха.
В середине февраля машинистка, разбирая почту, наткнулась на загадочную корреспонденцию. Она повертела в бледных руках клочок бумаги, исписанный с обеих сторон, отложила, опять повертела перед глазами, решительно взбила челку и направилась к Ланговому.
— Непонятно, — сказала она голосом, слабым от недоедания. — Что-то зазеленело, какие-то гуси… Шифр, что ли?
— Надо полагать, шутки турецкого генерального штаба, — сказал Ланговой. — Зовите Карагодова.
Когда Карагодов прочитал письмо, Ланговой спросил его:
— Ну, покажите, где у вас гуси летят?
И старый фенолог, молча одобрив вопрос, разобравшись в истыканной булавками карте России, ткнул пальцем в маленький городок в Таврии, на юге степной Украины.
Это было первое письмо о весне — от бойцов и командиров Седьмой петроградской бригады.
5
Грачи прилетели пятого марта. Было пасмурно и тепло, и спустя два дня, когда Карагодов выбрался в поле, в овражках побежали, зажурчали под снегом талые воды.
Проваливаясь в рыхлом снегу, Карагодов вышел к знакомой лесной опушке, где в треугольнике между соснами стоял молоденький клен. Из насечки, сделанной в январе, выступила прозрачная капля: клен уже гнал соки вверх, к еще голым ветвям. Опершись рукой о светло-серый гладкий ствол, Карагодов прислушался: в высоте пел жаворонок.
Первый бюллетень весны был сдан наутро. Он пошел по рукам сотрудников. Что-то было трогательное в коротеньком и сухом сообщении Карагодова о теплом дожде, скворцах и мухах.
В помещении было по-зимнему сумрачно и еще холоднее, чем зимой, потому что стены промерзли и теперь отдавали холод. Но странное возбуждение охватило газетчиков. Чему они радовались? Они разбежались, как обычно, с утра и на целый день: кто на Васильевский остров, где во дворах академии занимался «всеобуч», кто на Николаевский вокзал — провожать курсантов. Но, возвратясь в редакцию, каждый подбрасывал дрова в печку и говорил Карагодову что-то смешное или торжественное, заранее придуманное — там, в городе, тревожном и по-зимнему озабоченном.
Рачков в тужурке, истертой до стального блеска, подошел к фенологу и сдавленным голосом, но так, чтобы до всех дошло, спросил, как пишется «иван-да-марья».
Через три дня вышел второй бюллетень. Не подсчитать, сколько раз за это время проглядывало солнце и снова начиналась метель. И все же весна брала свое. И когда однажды Карагодов отправился за город в коляске с Ланговым, по обочинам дороги из города уже тянулись на поля жители окраин с лопатами и граблями, тарахтели полковые двуколки.
Рабочие петроградских заводов, пришедшие к Пулковским высотам на воскресник, мотали на каток колючую проволоку, мальчишки собирали в кучу обоймы, осколки снарядов, военное снаряжение, оставшееся под снегом после боев.
Ланговой привязал лошадь к осине и пошел к рабочим. Оглядывая в бинокль горизонт, Карагодов видел и дальние сады Александровки, и царскосельские парки, и под холмом пробитую снарядами белую колокольню Пулковской церкви. Здесь осенью прошлого года шли в атаку рабочие батальоны, сводные отряды моряков, курсанты ВЧК, стрелковые полки.
Теперь далеко на юг, куда-то в «Житомирском направлении», ушла война; там со штыками наперевес бежали, может быть, те же самые люди, которые здесь воевали. А на Пулковских холмах теперь было тихо, были слышны вдали звонкие голоса мальчишек: они нашли офицерский погон. В камнях пулеметного гнезда прыгали снегири. В воронках было полно воды. Вешние воды, журча, бежали в обвалившихся окопах, и, проходя по брустверам, Карагодов вслушивался в эту весеннюю песенку. Солнце пригревало ему плечо и щеку. Хлюпали набравшие воды штиблеты.
Карагодов шел и все подмечал вокруг; торжество так и выпирало из его поджарой фигуры. Иногда он приседал на корточки, заметив крысу, выползшую из темной щели землянки; иногда задирал голову к вершине холма.
Снег еще остался в тени ложбинок, в мокрых кустах прыгали клесты. Карагодов нагнулся, чтобы подобрать гранату, — клесты сорвались с веток.
— Тащите к нам в кучу, Дмитрий Николаевич! — крикнул Ланговой. Он издали наблюдал за Карагодовым.
— Ищи — не сказывай, нашел — не показывай, — сказала какая-то старуха в черном платочке, тоже бродившая по холму.
Видно, всем было хорошо бродить по земле в этот день.
Ланговой подошел к Карагодову; они присели на крышу землянки.
— Весна, — сказал Карагодов.
— А я вам что говорю… — ответил Ланговой.
Вдали, по сбегавшему к деревне черному полю, шел за сохой крестьянин. Грачи летели за ним.
— А вы знаете, когда она началась?
— Весна?
— Да… И не улыбайтесь, все равно не знаете. И я не знаю. Только вы в марте заметили — по грачам, а я в январе… В январе поздно вечером пришел ко мне Рачков и показал маленькую корреспонденцию. Из Барнаула сообщали, что там свирепые морозы и что каппелевские офицеры бегут в Монголию и увозят с собой в санях обледенелые трупы своих товарищей. И я тогда сказал Рачкову: «Вот это в календарь природы, Карагодову». Он вам не передал?
— Вы лучше мне не говорите об этом, — сказал Карагодов, разглядывая в бинокль пахаря и грачей на белом облачке; и вдруг, отставив бинокль от глаз, он строго добавил: — Птиц распугали по всей планете. Фронты, канонада! Дожди — и те маршрут изменили! Рыбу поглушили в прудах! Крыс развели в окопах! Волки в уезде!
Ланговой усмехнулся, припомнив, как в прошлом году он сам видел на Охте: дети собирали грибы прямо на улице.
— Вы не о том, профессор… — Ланговой тронул сапогом куль с землей, гнилая рогожка поползла, и земля посыпалась из куля. — Недавно я видел новые карты, на них напечатано: «РСФСР», и буква «Ф» приходится — знаете где? — на Енисее. Меня это поразило. Огромная земля! Как можно поработать на ней! И как еще поработаем! Сколько вам лет, Дмитрий Николаевич?
— Доживу, — ответил Карагодов. — Весна дружная…
По Неве шел ладожский лед; в Суражском уезде потянули вальдшнепы; в Десне, под Черниговом, нерестились щуки; ночью над Балтикой сверкали зарницы, и моряки на кораблях вглядывались в даль — шел дождь; конные разведчики в кубанских плавнях слышали ночью, как погромыхивало в тучах; утро было ясное, тихое и очень теплое; в Бежице выгнали исхудалый скот в поле, начали боронить; в Малой Вишере уже два дня шла пахота. Весна наступала по всей стране, сеяла теплый дождь над вскрывшимися прудами и засевала первым зерном вспаханные поля.
А на окраинах догорала война. Советские войска вступили в Мурманск, Екатеринодар. На границе с Финляндией устанавливались государственные столбы; в солнечные дни весело работалось саперам, и светло-желтая пыль цветущих берез летела над их головами и опускалась в воду.
Повсюду на равнинах, на брустверах забытых окопов цвели простенькие цветы — одуванчики и кашка, и все поднимались и поднимались несметные травы южных степей, шли к морям широкие воды равнинных рек. На Туркестанском фронте в темную ночь Анненков уводил в Синьцзян сотни своих лейб-атаманцев. Седьмого мая на берегу Черного моря, в районе Сочи, сдались остатки армии Деникина; там было пятьдесят тысяч измученных людей; они складывали прямо на песок у моря винтовки, шашки и тесаки и вереницами шли к красноармейским походным кухням хлебать полковые щи.
Жаворонки пели над крестьянскими полями, и все дальше на север летели белые лебеди. В садах зеленели живые изгороди боярышника, а там наконец тронулись в рост и хвойные леса.
1938
НУРМУРАД САРЫХАНОВ
КНИГА[71]
По заданию института литературы я собирал старые книги. Судьба забросила меня в глубь Кара-Кумов, в скотоводческий аул, расположенный в небольшой впадине среди песков.
Жители аула, как водится, поинтересовались: откуда и зачем прибыл гость? Я сообщил о цели своего приезда. Председатель колхоза, у которого я остановился, сказал мне, что у его соседа, Вельмурат-ага, есть именно такая книга, какая мне нужна.
— Это редкая вещь! — сказал председатель. — Вельмурат-ага бережет ее как зеницу ока. Он не раз говорил, что такая книга должна храниться только в золотом сундуке…
Я отправился к владельцу книги. Он оказался дома. Это был пожилой мужчина с красивой бородой, закрывающей всю грудь.
Он посмотрел на меня испытующим, зорким взглядом, взглядом степного охотника, но обошелся довольно приветливо.
— Садись, добрый юноша, поближе к очагу, — ласково сказал он и сразу же стал задавать вопросы: — Откуда пожаловал ко мне?
Я ответил.
— А из каких мест родом? Где живет твое племя? Чем занимаешься?
Коротко рассказав свою биографию, я добавил, что послан одним столичным учреждением на поиски древних книг.
— Очень хорошо, юноша! — Старик погладил огромную бороду и опять стал внимательно разглядывать меня. Потом повернулся к жене и приказал: — Подай книгу!
Старуха молча подошла к ковровому чувалу, висевшему на решетчатой стене кибитки, и бережно достала оттуда большую книгу, завернутую в расписной шелковый платок. Она подала ее мужу торжественно, как святыню. Старик еще раз испытующе посмотрел на меня.
— Если ты правильно назвал свою специальность, — сказал он, — то сразу поймешь, какая это вещь.
Толстая и тяжелая книга была переплетена в полинявший ситец со следами пунцовых цветов. Каждая страница содержала около двадцати строк ровной вишнево-красной арабской вязи. Текст оказался разборчивый — переписчик, видимо, отлично знал свое ремесло. Буквы были уложены, как зерно к зерну. Книга, очевидно, усердно читалась — края листов обтрепаны, на полях темнели следы пальцев.
Я быстро перелистал рукопись, кое-что успел бегло прочитать. Это было как раз то, из-за чего люди моей профессии не спят ночей, кочуют из аула в аул, стучатся в тысячи дверей… Можно было пройти еще сотни аулов и кибиток и не встретить такого сборника, какой я сейчас держал в руках. Первое, что я должен был сделать, — по возможности скрыть от собеседника свою радость. Скоро стало ясно, однако, что он хорошо знает цену своему сокровищу. Недаром он сказал: «Каждое слово в этой книге стоит верблюдицы с верблюжонком». Чтобы проверить старика, я начал читать вслух некоторые места из рукописи. Едва я прочитывал несколько строк, старик, подхватывая, читал дальше на память…
— Теперь ты веришь, юноша, что книга эта должна действительно храниться в золотом сундуке? — И он нараспев прочел мне стихотворение, видимо, одно из самых любимых. — Каково, а? — в возбуждении воскликнул он. — Чем больше читаешь, тем сильнее захватывает и опьяняет.
Все это было превосходно, но как все-таки завладеть рукописью? Было ясно, что старик не продаст ее, тем более что книгу любит и его жена, и большинство жителей аула.
И я, сделав вид, что не очень заинтересован книгой, перевел разговор на другие темы. Я спросил старика: верно ли, будто их аул собирается откочевать на Амударью, чтобы перейти там на земледелие? Старик ответил и опять стал восторгаться книгой. Он гордился тем, что владеет таким сокровищем и, конечно, не думает даже когда-нибудь расстаться с ним.
Я ушел, решив посоветоваться с председателем колхоза относительно возможных способов приобретения книги.
— Как подойти к этому человеку? — спросил я председателя. — Старик, по-моему, не только не продаст рукопись, но даже не позволит переписать ее.
— Если тебе так необходима эта книга, сам ищи способ, как достать ее. Тут ничем не поможешь.
Вечером я снова наведался к Вельмурат-ага. Он опять встретил меня ласково.
— Я уж знаю: кто увидит эту вещь, тот не скоро расстанется со мной. Не ты первый, не ты последний.
Старик подал мне книгу.
— Читай, коли есть охота.
Надо было хотя бы намекнуть на цель моих посещений.
— Вельмурат-ага! — нерешительно начал я.
— Что?
— Давно у вас эта книга?
— Сорок лет.
— Сорок лет?
— Да, сынок.
— Теперь понятно, почему вы помните некоторые стихи наизусть!
— Не только некоторые, — поправил хозяин, — я помню всю книгу до единого слова. Могу, не глядя, прочитать по порядку все песни, какие есть в книге. Смысл этих песен запечатлен в моем сердце.
— Замечательно! — воскликнул я. — Значит, теперь сама рукопись вам не так уж нужна?
Старик вскинул на меня быстрый и острый взгляд.
Я смутился и, стараясь дышать спокойно, сказал:
— Просите что хотите, но продайте мне эту книгу!
Старик мгновенно преобразился: глаза у него странно расширились, лицо стало напряженным и бледным. Жена его вздрогнула.
Быстро вырвав из моих рук книгу, старик подал ее жене.
— Немедленно убери на место! — строго сказал он. И, опять подняв на меня глаза, тихо заговорил: — Добрый юноша, разве мы с женой не говорили тебе, что книга эта не выйдет из наших рук? Еще раз, как гостю, от души скажу, не проси книгу. Если бы я даже и согласился отдать ее тебе, все равно жена бы не отдала. А если бы и отдала жена, аул не отдал бы ни за какие блага. Даже во время голода, когда в доме сухой лепешки не было, нам ни на минуту не приходило в голову продать книгу. Кроме того, ты ведь не знаешь, как она досталась нам.
Помолчав несколько минут, старик тихо, как бы про себя, заговорил снова:
— Может быть, рассказать тебе, как я приобрел эту книгу? До сих пор я никому не говорил об этом. Кроме меня и моей жены, почти никто не знает эту историю.
— Расскажите, пожалуйста, Вельмурат-ага! — горячо воскликнул я, не скрывая своего интереса.
Вельмурат-ага ударил ладонью по кошме, поднял глаза и решительно сказал:
— Слушай, юноша!..
— Мне шестьдесят пять лет. Нынешней осенью исполнилось сорок лет, как я владею этой книгой. Тот год, когда я приобрел ее, назывался годом холода. Я, как и все годы, был тогда пастухом и, конечно, понятия не имел о том, что такое книги, только слышал о них. А дело было так. Обзавелся я семьей, кибиткой, потом купил верблюдицу. Поскольку стал я в ряд с людьми, решил запасти зерна на зиму и собрался с этой целью ехать в Аркач. Нагрузил шерсти, нажег угля из саксаула и поехал. Знакомых в Аркаче не было, и я остановился у человека, который купил у меня шерсть и уголь. Это был богатый человек. Я остался у него ночевать. К вечеру в дом стал собираться народ: старые и молодые мужчины из того аула. Я сразу отличил среди всех прочих одного человека — он был одет нарядно, борода у него была лопатой, а лицо красное и жирное. Люди, обращаясь к нему, говорили: «господин мулла».
Вот кто-то из гостей и попросил его: «Почтенный мулла, сделайте милость, почитайте нам».
Люди подали ему эту книгу. Мулла упрямился. «Ах, неразумные! — ворчал он. — Книга эта написана безумным шахиром,[72] поправшим святую веру. Он набрался где-то суетных мыслей и через свою книгу проповедует злобу и порок. Я лучше прочту вам другое». И он вытащил из-под халата свою рукопись.
Но люди оказались упрямее муллы. Кто-то посулил ему подарок, и он уступил. Он читал до полуночи, потом до утра. А я слушал и слушал… Меня изумляла книга, я был вне себя, я долго не мог понять, что со мной происходит. Сидит человек, смотрит на бумагу и как бы рассказывает о своей жизни, а когда я напрягаю внимание и слух, получается, что он рассказывает обо мне самом. А какие душевные и попятные слова! Раньше я и не подозревал, что книга имеет такую разительную силу, что она может так мудро говорить о жизни и заставляет как-то по-новому понимать и переживать ее. И я подумал — вот как ты сегодня: наверно, нет на свете таких денег, чтобы купить эту вещь, подобные вещи, должно быть, вовсе не продаются. Душа моя загорелась, и я твердо решил: если у книги есть цена и если она будет мне под силу, то я обязательно куплю ее.
Утром, как только увидел хозяина, сразу спросил его: «Какова цена той книги, которую читал мулла?»
Он почему-то посмеялся и ответил: «Цены определенной нет. Книга — не женский платок и не мешок с углями. Ее нельзя так легко оценить». — «А все-таки сколько? Назовите цену!»
Хозяин опять засмеялся и, переглянувшись с гостем, бывшим в комнате, сказал: «Цена книги — верблюд, притом хороший верблюд».
Может быть, он шутил, но я поверил и обрадовался. Не колеблясь, я решил отдать свою верблюдицу, на которой приехал в Аркач.
«Моя верблюдица — прекрасная матка, притом стельная. Берите ее, а мне отдайте книгу». — «Что ж, оставляй матку, забирай книгу и отправляйся с богом», — сказал мне хозяин.
И вот взглянул я в последний раз на свою верблюдицу, спрятал под халат книгу и зашагал домой. Три дня шел, устал. Прихожу, встречает меня жена, с криком бросается ко мне: «Где наша верблюдица? Что ты сделал с нею?» — «Постой, — говорю ей, — не шуми. Ты должна радоваться, а не плакать. Наша породистая верблюдица дала добрый приплод. — И я вытащил из-за пазухи книгу. — Вот, говорю, здесь, под ситцевой обложкой, каждое слово стоит дороже самой породистой верблюдицы».
Жена взглянула на книгу, приоткрыла ее, приложила ко лбу, потом провела книгой по лицу, считая ее святой. Она долго стояла, не понимая, радоваться ей или плакать. Чувствую, верблюдица не выходит у нее из головы, — ведь эта верблюдица была опорой и надеждой нашего бедного хозяйства.
Я тут же рассказал жене о том, как мулла читал нам эту книгу, как люди внимали ему и как сам я не мог усидеть на месте. Я припомнил отдельные мысли, которые навсегда врезались в мою память. Вижу, у жены на глазах показались слезы.
«Признайся лучше, — говорит она, — что ты попусту отдал верблюдицу. Рухнули теперь наши надежды…»
И тут вдруг я пожалел, что купил эту книгу. Но что ж было делать? Посоветовали мне сходить к человеку, которого у нас считали мудрецом. Я признался ему, что у меня есть книга, и попросил указать грамотея, который мог бы прочитать ее. Удивленный моими словами, он спросил: «Каким образом она попала к тебе?» — «Купил по дешевке», — ответил я.
Глядя на меня, он улыбнулся, пожал плечами и с состраданием сказал: «Ай, и неразумный же ты парень! Даже если бы даром тебе отдали книгу — какая тебе от нее польза? Кто тебе будет читать ее?»
Чем дальше, тем труднее мне становилось. Жена ворчала день и ночь. Я сходил еще кое к кому за советом, побывал в других аулах, но грамотного человека нигде найти не мог. Люди обычно говорили мне: «Ты же пастух, бедняк из бедняков, а какую затею выдумал!» И я начал сдаваться… Как-то, вернувшись домой, взял я свое сокровище, положил его на самое дно чувала, а сверху забросал всяким хламом. «Пусть глаза мои не видят тебя, говорю, пусть сердце отдохнет от досады». Так она лежала год, два года, семь лет. А жена все семь лет причитала: «А какая породистая была верблюдица! Стельная была верблюдица! Она бы нам три раза приплод дала. Жили бы мы богато, душа бы не болела у нас!..» А потом вдруг приставать начала: «Как бы нам книгу нашу послушать?»
Однажды сидим мы с ней за чаем, а она и говорит: «Только муллы да ишаны[73] грамотные, только они книги читать умеют. Не отдать ли нам сыночка Муратджана к такому разумному человеку? Возле него он научится и будет нам книгу читать. Вот, например, Акчи-ишан, он, говорят, большой учености человек… Отдадим ему сына, а сами как-нибудь и одни управимся в хозяйстве. Лет за пять он, глядишь, научится грамоте».
Меня обрадовали слова жены. Я был готов на все, лишь бы прочитать книгу. Так мы и решили. Взял я мальчишку, — ему тогда лет восемь было, — и повел его к Акши-ишану.
«Из дальних мест прибыл к вам с нижайшей просьбой, — сказал я Акчи-ишану. — Не возьметесь ли обучить моего сына грамоте? Пока он будет при вас, то, как полагается, тело его — ваше, кости — мои. Побить его — побейте, дело сделать надо — заставьте. Только научите грамоте».
Ишан обнадежил меня.
«Похвально ты поступил, говорит, что сына привел. Кто вкушал мою соль, тот не остался пустым человеком. Увидишь, что выйдет из твоего сына, если я возьмусь за него. Приходи через четыре года, и ты его не узнаешь».
Поверил я и полетел домой на крыльях радости. Являюсь к жене. «Не тужи, жена. Четыре года потерпим — и увидишь, что будет. Тогда сама скажешь, ошибся ли я с покупкой».
Прошло три с лишним года. Наверно, думаю про себя, Муратджан кое-чему уже научился. Отправился снова к ишану. И что же я увидел там?
Сын целый день работает — и не только грамоте не научился, но от непосильных трудов чуть природного ума не лишился. Он со слезами просит и молит: «Не оставляй меня здесь, отец, забери скорее. Измучил меня ишан работой, уморил голодом. Акчи-ишан — человек темный, он и понятия не имеет, что такое грамота…» Я рот зажимаю сыну — грешно про ишана такие слова говорить… Муратджан не сдается, еще громче кричит: «Если не возьмешь с собой, отец, убегу, а здесь не останусь!»
Озадачил меня сын. Я совсем расстроился, решил проверить его слова. Заглянул к одному из соседей Акчи-ишана. Так, мол, и так, объясняю ему. «Как вы полагаете: научит ишан моего сына грамоте или не научит?» Оказалось, что насчет грамоты Мурат-джан был целиком прав: ишан не умел ни читать, ни писать. Почему же он был сильнее многих образованных мулл? Сила Акчи-ишана заключалась в могуществе его рода, владевшего какой-то тайной. Весь аул со страхом произносил имена его предков, никто не смел дурно говорить о них… А что же это была за тайна?
«Однажды сотворилось такое чудо, — рассказывал мне сосед ишана. — Крестьянин украл у предка этого Акчи-ишана, — тот тоже был ишаном, — вязанку сена. Придя домой, он никак не мог снять вязанку со спины. Позвал сына, и тот ничего не мог сделать. Вор, горюя и раскаиваясь, потащил сено обратно, чтобы оставить его на том месте, где взял. Но и там ничего не вышло. Целую ночь мыкался он с этим грузом по аулу и не знал, как избавиться от несчастья. Надо было идти к хозяину, просить прощения. Пришел и говорит: „Ишан-ага, я совершил недостойный поступок и вот целую ночь носил свой грех на плечах. Душа моя истерзалась раскаянием. Дай прощение душе, добрый ишан-ага. Сними сено с моей спины“. Ишан простил вину, послал вора туда, где было украдено сено, и там по его слову плечи вора освободились от ноши. Этот предок Акчи-ишана был колдуном. Акчи-ишан тоже могучий колдун. Он действует через соль. Если он подует на соль и совершит наговор, то у бездетных рождаются дети, а больные исцеляются от болезни».
— Услышав все это, — продолжал Вельмурат-ага, — я не стал раздумывать: мне не требовалось, чтобы Муратджан научился дуть на соль. Взял я его от ишана и отдал в подпаски.
Так проходил месяц за месяцем, год за годом. Весной мы откочевывали на новые пастбища, осенью снова возвращались в эту долину. А книга все лежала в чувале. Иногда, тоскуя, я доставал ее и без пользы тихо перелистывал страницы. Я садился наподобие муллы, держал книгу так же, как и он, прикасался к ней со всех сторон, но у меня ничего не выходило: книга молчала. И только жена опять напоминала: «Как бы мы жили богато, если бы не было этой книги. Был бы у нас теперь целый табун породистых верблюдов…»
— Но вот наступил светлый день, — продолжал Вельмурат-ага, — в аулы и кочевья пришла советская власть. Явились учителя, принесли с собой книги. В нашем ауле тоже появился учитель, начал собирать детей и взрослых, которые хотели научиться читать. Я с первого дня привязался к нему, рассказал про книгу. Он велел принести ее, подержал день-другой и возвратил мне.
«Не прогадал, говорит, ты, Вельмурат-ага: это одна из самых ценнейших туркменских рукописей. Пошли сына в школу ко мне, он научится грамоте. У меня он не будет собирать саксаул и носить воду, батрака мне не надо. Мальчик походит в школу положенный срок, а потом сядет вот здесь и будет читать отцу с матерью эту книгу».
И я отправился в степь, разыскал отары, где Муратджан ходил подпаском, объяснил ему, что снова хочу отдать его учиться. «Когда, говорю, научишься, прочитаешь нам с матерью драгоценную книгу, которую мы столько лет бережем». Муратджан выслушал меня, но идти домой отказался. «Не пойду, говорит, учиться, я муллу с ишаном даже видеть не хочу. Теперь, говорит, в городах и аулах советская власть, и жена Акчи-ишана больше не заставит меня воду носить». Я ему объяснил, что учитель — не мулла, что его новая власть послала в аул, чтобы обучать народ. Уговорил я Муратджана, и сын наш, помогая матери по дому, незаметно научился читать и писать. Теперь Муратджан заведует животноводческой фермой в соседнем районе.
Когда он постиг грамоту, я достал со дна чувала книгу, и сын прочитал ее от начала до конца. И тут я понял, что книги не на небесах создаются и что по смыслу они вполне доступны и для нашего ума. В книге оказались даже такие песни, какие мы, пастухи, иной раз сами пели в степи. А большая часть ее стихов говорила о добре и зле, о правде, об отваге и мужестве, с которыми люди защищают свое счастье. Оказалось, что, слушая когда-то муллу, я не понимал даже сотой доли смысла этой книги. А когда ее прочитал у родного очага наш сын, она раскрылась предо мною во всей своей красоте. После этого и жене моей, и всему аулу стало ясно, что Вельмурат не проиграл, выменяв эту книгу на верблюдицу.
— Теперь ты видишь, добрый юноша, — сказал, заканчивая Вельмурат-ага, — сколько пришлось вытерпеть нам из-за этой книги! Кто же, узнав обо всех переживаниях нашей семьи, осмелится попросить у меня это сокровище? Вот она, книга, — читай в свое удовольствие, но мысль о том, чтобы меня разлучить с ней, оставь навсегда.
Было далеко за полночь, когда мой собеседник закончил рассказ. Дальнейшие уговоры были совершенно бесполезны. Он даже и слушать не стал бы, если бы я сказал, что в Ашхабаде мы сумеем размножить рукопись, что тогда каждый крестьянин в ауле мог бы получить такую книгу, что, наконец, взяв теперь у него рукопись, я вернул бы ее в полной сохранности через два-три месяца… Никакими уговорами и нельзя было подействовать на него, если в книге была заключена его собственная душа, если с этой книгой была связана вся его жизнь.
И все-таки, выбрав удобный момент, я опять сказал:
— Вельмурат-ага!
— Слушаю тебя, юноша.
— Не исполните ли вы одной моей просьбы?
— Какие будут просьбы, юноша?
— Продайте мне…
Он засмеялся и стал гладить бороду обеими руками. На этот раз он даже не рассердился, так как не принял всерьез мои слова.
— Нет, не продам, дорогой гость. На свете есть вещи, которые не продаются ни за какую цепу.
— Но вам ее продали…
— И проиграли!
И он опять засмеялся.
Мне хотелось внушить старику мысль, что я не могу уйти от него с пустыми руками. Мы говорили серьезно и долго, и он наконец сжалился надо мной.
— Добрый юноша и гость мой! — сказал он. — Если ты так полюбил мою книгу, сядь здесь и перепиши ее.
Две недели провел я у очага Вельмурат-ага, переписывая драгоценную рукопись. Он и сам почти все время находился со мною. Иногда диктовал по памяти или просто наблюдал за моей работой. «Читать малость научился, а писать, видно, так и не придется самому», — часто приговаривал он, пока я писал. Старуха угощала нас зеленым чаем, чуреком, иногда приносила пенистый хмельной чал.[74] Мы стали друзьями.
Стихотворения, хранившиеся сорок лет у Вельмурат-ага, принадлежат перу знаменитого поэта, родоначальника туркменской классической литературы — Махтумкули.
1938

Нурмурад Сарыханов. «Книга».
Художник А. Лурье.
БОРИС ГОРБАТОВ
ЗДЕСЬ БУДУТ ШУМЕТЬ ГОРОДА…[75]
Ветер — десять баллов. Шторм. Огромный человек стоит, широко расставив ноги. Его шатает, сшибает ветром, он упорствует.
О сапоги, о полы кухлянки яростно бьются волны снега; снежная пыль клокочет, как пена. Человек ссутулился и закрыл лицо обледеневшим шарфом.
Все бело, мутно, призрачно вокруг — ни ночь, ни день, ни земля, ни небо. Реального мира нет — все иссечено пургой, засыпано снегом. Ни линий, ни очертаний. Все взвихрено, вздыблено, подхвачено ветром и брошено в игру.
Один человек реален в своей синей кухлянке с капюшоном и кожаных сапогах.
Он один стоит, вокруг все в движении. Мимо него с грохотом проносятся камни, обломки льдин, сугробы снега, кочки, покрытые жалким мхом. Осатанелый поземок рвет снежный покров тундры; миллионы снежных песчинок приходят в движение: оголяются горы, бугры, скалы; все срывается с места и мчится, повинуясь ветру. Весь мир — мутный, косматый, колючий — со свистом проносится мимо человека.
Уже трудно стоять на месте и сопротивляться движению. Надо прятаться, как спрятались птицы и звери, или идти. Но человеку кухлянке некуда идти и негде спрятаться: его машина уткнулась мотором в снег и замерзла, дырявый брезент над кузовом почти не защищает от ветра. Вокруг ни жилья, ни костра, ни дыма.
Человек в кухлянке вытягивает шею, словно хочет что-то увидеть впереди. Огромная ноша сутулит его спину. Это ветер. Ветер сидит на его плечах и злобно толкает вперед. Человек упорствует. Ветер крепок, но человек крепче.
Вокруг все охвачено стремительным, порывистым движением. Это не вихрь, не слепая пурга, не смерчи. Это — бег. Бег ураганной скорости. Непрерывный и целеустремленный бросок вперед.
В нем есть направление: на норд-вест, к морю. С гор срываются голые медно-зеленые камни и, грохоча, подпрыгивая, мчатся на норд-вест. В заливе с шумом валятся острые торосы, и обломки их, перекатываясь, ломаясь, крошась, несутся на норд-вест. Взлохмаченная ветром тундра дымится, по ней кочуют сугробы — на норд-вест, на норд-вест! Вздымая вороха снега, стремглав проносится поземок — на норд-вест, на норд-вест! И кажется, что вся тундра рванулась и понеслась, подгоняемая ветром, на норд-вест, к далекому морю.
Один только человек стоит на месте, лицом к северо-западу, и не делает вперед ни шагу. Шарф уже не защищает его лица, шарф сорвало ветром, он еще трепещется вокруг шеи, надувается и вдруг, развернувшись по ветру, бросается на норд-вест. Свистя и воя, проносится мимо косматый мир.
И тогда человек поворачивается против ветра. Он делает это медленно, очень медленно. Ему приходится преодолевать сопротивление страшной силы: плотную стену шторма. Он разворачивается по кругу, как самолет: сначала заносит правое плечо и вытягивает правую руку, потом делает полуоборот и принимает удар ветра в грудь, выдерживает его и остается на ногах, потом делает еще полуоборот и закрывает лицо руками.
Теперь он стоит против ветра. Яростный, колючий ливень хлещет ему в лицо, словно бьет тысячами хвойных веток. У человека выступают слезы на глазах, текут по щекам и замерзают. Лицо одеревенело, он не чувствует больше кожи. Судорожным усилием открывает он рот, чтобы вздохнуть, и пугается, что кожа на щеках лопнет, потрескается.
Слишком много ветра: человек задыхается, вот с шумом лопнут легкие.
И тогда он начинает кричать.
— Э-гей! Ты! Дурак! — Его голос тонет в вое пурги, но он упрямо и зло кричит ветру: — Ты! Дурак! Ну? Иду. Слышь? Иду. Ну? Гей, ты!
Ему кажется, что, когда кричишь, легче идти. Он начинает даже петь — зло, остервенело. Но на песню не хватает дыхания. Можно только кричать, судорожно, отрывисто: «О-о! А-а! Геей!» — или выть, как воет волк.
Каждый шаг дается с бою. Было бы легче ползти, но человек упрямо держится на ногах, падает и подымается. Идет, разрывая руками плотную завесу ветра. Задыхается, сопит, сплевывает густую слизь, но идет.
И вот наконец из белесой мглы выступают мутные очертания чего-то темного и бесформенного. Наконец-то! Он торжествующе машет кулаком вьюге, приподымает брезент и влезает в машину, и — «дома».
Он трет снегом замерзшие щеки.
— Игнат, ты? — слышит он голос товарища.
— Да, я.
— Ну?
— Что — ну?
— Разведал?
— Разведал.
— Ну? Тише стало? Скоро поедем?
Игнат угадывает в голосе товарища надежду, но отвечает безжалостно и насмешливо.
— Стихло, Костик, спи. Десять баллов. — И зло, невесело смеется.
…Проходит много часов, сколько — неизвестно: никто не смотрит на часы. Времени нет, есть ветер; и люди прислушиваются к ветру. Иногда им кажется, что шторм стихает. Они подымают головы и чутко прислушиваются.
— Ты слышишь? — перекликаются они. — Слышишь?
Но новый порыв ветра задувает надежду, она гаснет, как искра в степи. Люди опять опрокидываются навзничь и затихают, съежившись в своих мешках. Игнат делает вид, что беспечно храпит. Костик вздыхает. В третьем мешке кто-то тихо стонет и кашляет. Откуда-то сверху беспрерывно сеется мелкий снег, падает на лицо и тает, но к этому уже привыкли.
— Это ветер… — бормочет Костик. — Он не кончится никогда. Он будет вечно. Что делать, что делать?
Он замолкает на минуту и снова бормочет, не обращаясь ни к кому:
— Что делать, что делать, черт подери!
— Ждать! — раздается резкий голос из третьего кукуля.
Костик вздрагивает и умолкает.
В тишине слышно, как стонут доски кузова. Игнат ползком подбирается к черному ящику у борта. Это маленький простенький радиоприемник с репродуктором «Рекорд». Игнат надевает наушники, все подымают головы и жадно прислушиваются. Из трубы вырывается зловещий свист, словно радиостанции транслируют не музыку, а пургу.
— Москва, — вздыхает Костик. — Москва…
Свист репродуктора сливается с воем пурги. От этого кажется, что ветер стал еще злее, еще неистовей. Игнат сбрасывает наушники и молча залезает в кукуль.
— Ждать? — бормочет Костик. — До каких пор ждать, профессор? Пока наши скелеты занесет снегом? Когда едут на собаках, можно, по крайней мере, съесть собак, а мы…
— Ждать! — снова раздается голос профессора, и снова поспешно умолкает Костик.
Он долго ворочается в своей меховой клетке. Ему хочется говорить, слышать человеческие голоса. Он прислушивается к шумному дыханию товарища и произносит:
— В Москве я жил на Патриарших прудах… Вы знаете эти пруды? Белые зимой и зеленые летом. Отчего человеку не сидится на месте?
Он ждет. Никто не подхватывает беседы. С шумом хлопает надутый ветром брезент.
— Мальчиком я мечтал о парусах, — шепчет Костик. — Я хотел стать моряком, а стал геологом. Но никогда, даже в самых безумных мечтах, я не представлял себе, что буду, как крыса, подыхать в мешке, пропахшем псиной. — Он снова ждет и, не выдержав тишины, кричит: — Да скажите хоть слово, ну же!
Он с шумом переворачивается на левый бок и задевает ногой кучу минералов, сваленных у борта. Камин с грохотом катятся по полу. Слышен звон разбитого стекла.
— Бутылочка? — испуганно вскрикивает профессор. — Вы разбили…
— Нет, нет… — торопливо отвечает Костик. — Это фонарь.
— А-а! — успокаивается профессор. — То-то!
— Я храню бутылочку при себе, профессор. Если б это был слиток золота, я б не мог его хранить бережнее.
— Это больше, чем золото, Костик. Это нефть.
— Да, да… Нефть. Я знаю. Нефть — это жизнь. Если мы будем живы и наконец попадем в Москву — вы ведь верите в это, профессор, правда? — мы будем рассказывать, как нашли нефть на сопке. И эти капли… как они сочились по песчанику и дрожали в бутылке, куда мы собирали их. И пахло нефтью. Вкусный запах. О, если мы будем жить!..
— Костик! — с досадой перебивает его профессор. — Отучитесь, пожалуйста, разговаривать белыми стихами. Геологу это не к лицу.
— Слушаюсь, профессор, — обиженно шепчет Костик и умолкает.
В машине становится совсем тихо. Изредка только раздаются хрипы и кашель профессора, он хочет подавить их, но от этого кашляет еще сильнее.
…Проходит еще много долгих часов.
Шторм стихает. Его удары слабеют, в них нет уже прежней ярости. Рев переходит в ворчанье, в нем чуется сытость. Все ниже припадает к земле ветер. Обессилев, он уже не летит, а ползет. Мутная пелена, окутывавшая мир, рассеивается, все становится на свои места, мир снова реален. Белые горы. Белое небо. Белая тундра.
Среди этой безмолвной белой пустыни чернеет маленькая точка. Теперь видно: это грузовик-вездеход. Радиатор окутан ватным чехлом (на чехле снег), верх кузова затянут брезентом (на брезенте снег), резиновые гусеницы машины глубоко утонули в снегу. Вокруг — ни живой души, ни человеческого следа. Даже колею, пропаханную вездеходом, давно замело, и кажется, что вездеход ниоткуда не пришел и никуда не идет.
Но вот зашевелился брезент, посыпался снег и из машины вылез человек в кухлянке. Он распрямляет плечи, потягивается — слышно, как хрустят его кости, — потом сбрасывает кухлянку. Теперь он в пыжиковой рубахе, в пыжиковых штанах мехом наружу, в капелюхе и огромных, по локоть, шоферских рукавицах. У него цыганское острое лицо, смуглое или немытое, большой хищный рот, большие зубы.
Он долго стоит и насмешливо смотрит на горы, на тундру, на небо. «Ну, — словно хочет сказать он, — утихомирились?» По земле струится поземок, словно бегут серебряные ручьи; заструги похожи на каменистое речное дно.
— Веселый месяц май! — насмешливо произносит механик, сплевывает и лезет в кабину.
Скоро он снова появляется. Теперь в его руках лопата. Он вонзает ее в снег, а сам медленно идет вокруг машины, по-хозяйски оглядывает ее, остукивает, ощупывает, качает головой. Потом берет лопату и начинает отбрасывать снег. Снегу много, машина вся в сугробах.
Он работает споро, машисто, не разгибаясь. За его спиной вырастают горы мятого снега.
Он один в движении, — вокруг все оцепенело. Стынут горы, неподвижна безголосая тундра, в белом небе едва заметно перемещаются облака. Все угомонилось, замерло, уснуло. Во всем лад и покой — тот неправдоподобно кроткий покой, какой бывает только после шторма. Кажется, что сугробы, заструги, обломки скал, торосы — все, что примчал, разломал и взъерошил ветер, — все это было здесь вечно, всегда все было так, как сейчас: сонно и неподвижно.
Один человек в движении. Его руки, плечи, спина — все в ходу. Рушатся под лопатой сугробы, снежная пыль клокочет, как пена.
Теперь верится, что вездеход пойдет. Ломая торосы, отшвыривая прочь твердые комья снега, — пойдет, пойдет!
За спиной Игната раздается скрип шагов. Не оглядываясь, он знает: это Костик.
Костик идет, чуть пошатываясь. Это бледный, худощавый юноша, в дымчатых очках, с редкими русыми волосами. Его лицо осунулось, щеки впали, вокруг рта две новые глубокие морщины.
Он идет медленно, как больной, тяжело опираясь на лопату. Наклоняется, берет в горсть снег, жадно ест его и кашляет. Он кашляет долго и мучительно, но, откашлявшись, снова ест снег. Потом подходит к Игнату и весело смотрит на него, щурясь от сияния снега.
— Значит, поедем, Игнат? А? Поедем?
— Что Старик? — глухо спрашивает Игнат.
Костик темнеет.
— Плохо, — тихо отвечает он. С минуту молчит, потом прибавляет, сморщившись: — Очень плохо.
— Что он говорит?
Костик пожимает плечами.
— Ты же знаешь Старика: он ничего не скажет.
Игнат слушает, нагнув голову. Снег вдруг начинает тускло поблескивать — это солнце прорвалось сквозь строй облаков. Потом Игнат произносит:
— Он не скажет!
Оба долго молчат, смотрят в землю. Потом Костик вдруг яростно замахивается лопатой и начинает работать. Его движения нервны, порывисты, суетливы. Он тяжело дышит.
Игнат лезет в кузов и вытаскивает оттуда два небольших бидона. Он несет их, бережно прижимая к груди.
Но, прежде чем начать заливку, он подымает руку и долго шевелит пальцами; по пальцам струится обессиленный ветер. Игнат поворачивается спиной к ветру и начинает заправлять машину. Он льет бензин осторожно, бережно, боясь пролить хоть каплю, — так голодный режет хлеб на ладони, чтоб не уронить крошек.
Уже пуст бидон, но механик все трясет его над баком. Стекли последние капли. Бидон пуст, и тут уж ничего не поделаешь. Вздохнув, он берет другой.
С лопатой на плече подходит Костик. Он втыкает лопату в снег и глядит, как работает товарищ.
— Это… последний? — спрашивает он робко.
Игнат не отвечает. Слышно, как булькает бензин в баке.
— Я хотел сказать тебе, Игнат, — робко продолжает Костик. — Вот… Мы чертовски богаты. У нас есть еще банка сгущенного молока… Единственная…
— Старику, — отрывисто бросает механик.
— Полплитки шоколаду…
— Старику.
— И галет одна пачка. Все. — Он разводит руками. — Больше ничего нет.
— Галеты — тебе.
— А ты?
— Я? — Игнат прислушивается к бульканью бензина в баке, и его лицо чуть-чуть светлеет.
— Старику очень плохо, — снова начинает Костик. — Очень. Очень. — Он вкладывает в это слово все: муку свою, и отчаяние, и страх.
Игнат хмурится.
— Он не жалуется. Он говорит — ждать. И шутит даже, и даже смеется, — продолжает Костик, — но ведь я-то вижу. Как он стонет, когда думает, что мы спим!
Игнат подымает бидон, ставит его на капот и слушает, хмурясь.
— Никогда он не был так плох, — шепчет Костик. — Я ведь его… я ведь его давно знаю. Я лекции его слушал… Я к нему зачеты сдавать бегал. У него больное сердце, но сейчас… эта дорога, пурга, голод…
— Мы скоро тронемся, Костик, — говорит Игнат. — По-моему, мы теперь верно едем…
— Видишь, Игнат. — Костик подходит ближе к механику и кладет руку на бидон. — Видишь ли, он очень слаб. Я боюсь: довезем ли? Сердце… это, это, брат… Вот ты не знаешь этого…
— Магнето…
— Да. Вот я не доктор, конечно, а кажется мне, что совсем ослаб Старик. Вот я еще держусь, я молодой. Ты? Ты — буйвол. А он… Ему бы, Игнат, горячего чего-нибудь… А? Горячего молока, например. Как ты думаешь? А?
Игнат темнеет и берет бидон.
— Вот именно, горячее молоко, — убежденно шепчет Костик. — Понимаешь? Это согрело бы его. А? Мы довезли бы его тогда… живым до базы. — Он заглядывает в цыганское лицо товарища, часто моргая, ищет его взгляда, но встречает холодный свинцовый блеск глаз и опускает голову.
— Не дам, — произносит Игнат и отворачивается.
— Но ведь Старик, понимаешь, наш Старик умирает! — кричит Костик, но, испуганно бросив взгляд на кузов, давится криком.
— Не дам.
Наступает долгое молчание. Игнат стоит, крепко стиснув зубы. Его лицо сейчас неприятно: остро выдается вперед тяжелая сильная челюсть, холодно блестят глаза. Костик тихо плачет.
Чуть вздрагивает челюсть Игната.
— Ты думаешь, — тихо произносит он, — ты думаешь, я люблю Старика меньше твоего?
Он смотрит на бидон, потом решительно хлопает по плечу Костика.
— Пойдем!
— Что? — вздрагивает тот.
— Пойдем к Старику. Пусть скажет. Я дам.
— Нет, нет, — пугается Костик.
Игнат пожимает плечами: «Как хочешь», — долго молчит и наконец произносит:
— И даже если Старик сказал бы «дать», я бы не дал. Потому что… — Он запинается и говорит, глядя себе под ноги: — Потому что я не только люблю Старика. Я, брат, да моя машина за его спасение отвечаем.
— Но ведь пол-литра… Всего пол-литра проклятого бензина в примус и…
— Пол-литра — это полтора километра.
— И ты из-за полутора километров… отказываешь Старику? Игнат!
Игнат берет бидон и трясет его. Звонко булькает жидкость.
— Слышишь? — спрашивает он. — Тут все. Последние капли. Мне они крови моей дороже. Сказал бы ты: дай Старику своей крови стакан, литр, ведро. Я бы глазом не моргнул — дал бы. А бензину не дам. Не дам! Слышишь? — угрожающе кричит он, но, тотчас же опомнившись, ставит бидон на бак и другим уже тоном, шепотом говорит Костику: — Я считал и пересчитывал, Костик. Слышь: бензину до базы не хватит. Сколько не хватит? Не знаю. Знаю: сколько не хватит, столько нам идти пешком.
— Неужели так скверно? — бормочет Костик.
— Я экономил, как мог, — пожимает плечами Игнат. — Я дрожал над каждой каплей.
Он подходит к мотору, кладет руку на бидон и вопросительно смотрит на Костика.
— Ну? — глухо спрашивает он.
Костик безнадежно машет рукой.
Он слышит, как, звеня, падают в бак последние капли.
— А галеты я на три части разделю, — бормочет он. — Старику, мне и тебе.
— Друзья! Друзья! — вдруг раздается голос из машины. — Что же вы?
— Старик! — торопливо шепчет Костик, и оба бросаются на голос.
Старик стоит во весь рост в кузове и укоризненно смотрит на часы. Он высок и худ, но далеко не стар. Ему не более пятидесяти. У него ясные, детские глаза, но под ними тяжелые синие мешки. Его лицо покрыто давним загаром (обветренное лицо геолога), но сейчас оно опухло, покрылось отеками. Он болен и, вероятно, уже сам сознает это.
— Шестнадцать пятьдесят по-местному — это двенадцать пятьдесят по-московски, — качает он головой. — Что же вы, товарищи хорошие? Ай-ай-ай! Вот не догляди я — и упустили бы…
Игнат поспешно ставит пустой бидон наземь и бросается к кузову. Сдирает брезент, откидывает борт. В кузове на полу там и сям брошены спальные мешки. В углу аккуратно сложены пустые бидоны, инструмент, палатки, ящики — все имущество партии. В мешках груда камней, очевидно, образцы. В другом углу, ближе к стеклу кабины шофера, радиоприемник. К нему-то и бросается Игнат. Растягивается на полу, надевает наушники.
Костик подтягивает спальные мешки ближе к репродуктору. Все усаживаются. Старик поджимает под себя по-турецки ноги и нетерпеливо глядит в черную трубу. Она покрыта серебристой изморозью. Так тихо, что слышно, как тикают часы на руке Старика.
Люди молчат. Нестерпимая тишина царит в мире. Оцепенела тундра, и дальний крик полярной совы умолкает, не встретив отклика. Старик тоскливо смотрит на часы: 17.10. Он тихо вздыхает.
— Прозевали. — И смотрит на товарищей.
Вот они все здесь, на одиноком, затерянном в снегах вездеходе. Мир забыл их, молчит, и это страшнее, чем голод.
Игнат нетерпеливо возится у приемника. Меняет настройку. Он был бы рад сейчас любой станции, даже чужой. Вдруг из трубы вырывается веселый голос диктора. Все, замирая, прислушиваются.
— А теперь, — говорит труба, — послушайте пластинку «Под крышами Парижа»…
Вкрадчивые звуки вальса, как теплый дождь, падают над тундрой.
«Париж, о Париж!» — поет эхо в горах, и Игнат начинает присвистывать эху.
Костик сидит, закрыв лицо руками, съежившись. Его плечи мелко вздрагивают. Сначала кажется, что он просто раскачивается в такт вальсу… Париж, о Париж!.. Но вот уже не в такт трясутся его плечи, быстрее, быстрее, слышно, как сухо стучат зубы о зубы. Он стискивает руками голову и вдруг неестественно тонким, визгливым голосом кричит:
— Я не могу-у больше! — и опрокидывается навзничь. Его голова колотится о пол.
Старик бросается к нему.
— Костик! Что такое, милый вы мой? Да что с вами?
Крики Костика смешиваются со звуками вальса, эхо в горах покорно повторяет и то и другое.
Старик бережно приподнимает русую голову юноши, кладет ее к себе на колени и гладит теплой ладонью по волосам.
— Ну, не надо, не надо, Костик. Ох, как нехорошо!
— Я не могу… не могу… Эта музыка, когда мы погибаем… Эта музыка!
— Заткните же радио, Игнат! — кричит Старик. — К черту Париж!
Но Игнат не затыкает радио. Он круто шагает к Костику. На его лице застыла брезгливая гримаса, еще острее выдались вперед челюсти. Его кулаки сжаты, словно он собирается бить рыдающего юношу.
Он наклоняется над ним.
— Брось! — приказывает он. Его голос звучит глухо. — Брось психовать. Ну? Слышишь? Брось! Не надо. Доедем. Я тебе говорю. Выберемся. Ну?
Костик испуганно стихает. Его рыданий уже не слышно, он давится ими, и только плечи трясутся, как в лихорадке.
— Подыми голову, — командует Игнат. — Стыдно? Ну?
— Очки, — робко шепчет Костик. — Я сейчас… только очки найду. — Всхлипывая, он ползет по полу и ищет очки. Ищет долго, нарочно долго. Потом подымает голову, но старается ни на кого не смотреть. Ежится, словно ему зябко.
Игнат отворачивается и смотрит вперед, на дорогу.
— Париж, о Париж! — подпевает он, но голос его звучит сердито.
Он стоит, широко расставив ноги и засунув руки в карманы. Впереди, насколько хватает глаз, волнистая рябь тундры, — это солнце делает тундру пестрой. Дороги нет, и не к чему ее выглядывать.
— Стыдно, — шепотом произносит Костик. — Простите, пожалуйста…
Старик обнимает его за плечи, и оба молча слушают музыку. Теперь репродуктор поет о знойной Аргентине, Игнат отбивает такт ногой.
Репродуктор умолкает. Тихо в машине. И теперь слышно, как звенит очнувшаяся тундра, поет зверем и птицей. Кажется даже, что снег, тронутый солнцем, поет. Старик стоит у репродуктора, ждет…
Низко-низко над машиной пролетает белый лунь в раннем весеннем наряде — карие глазки на белых крыльях — и пронзительно кричит.
Старик вдруг встряхивается.
— В путь, дети, в путь! — кричит он, бодро похлопывая рукавицами. — По коням!
Игнат бросается к мотору, достает из кабины противень, выливает на него отработанное масло, зажигает и идет разогревать мотор. И вдруг начинает стучать мотор вездехода. Он стучит сначала тихо и неуверенно, вспышками, то глохнет, то вновь шумит, все сильнее и упрямее.
— Слышите? Слышите? — кричит Старик Костику, его глаза блестят. — Слышите?
Что слышит он? Мотор стучит тихо и одиноко, и только эхо в горах многократно повторяет и усиливает его рокот. Но, может быть, именно к эху и прислушивается Старик? И чудится ему, что уж шумят в сопках машины, буровые станки, двигатели? И нефть бьет фонтаном?
Костик тоже прислушивается к шуму мотора. Теперь мотор стучит ровно и мерно (его уверенный голос похож на голос Игната), и Костик успокаивается.
— Поедем! Теперь поедем! — шепчет он. — Домой. К товарищам. Сейчас пойдем, Николай Кузьмич.
Вездеход медленно трогается в путь. Снег начинает петь под гусеницами; вместе с рокотом мотора это лучшая музыка дороги.
Огромное небо раскинулось над путниками. В этот ясный, солнечный день оно может служить и компасом и картой. Далеко на северо-запад оно темно-сизое — там вода, море; на юг оно светло-коричневое — там земля, тундра; на ост оно голубоватое — там льды залива. Небо, словно зеркало, отражает землю. Костик смотрится в него, и ему кажется, что он видит в нем и дорогу. Она лежит на восток, уходит в голубоватую даль залива. Она прямая и чистая, обрызганная солнцем. Синие искры вспыхивают на ней.
Вдруг сильный толчок встряхивает машину. С лязгом лопается стальной трос. В кузове все валится на пол и носится от борта к борту. Из машины вылезают Старик и Костик.
— Что случилось? — испуганно кричит Костик.
Игнат молча рукавицей указывает вперед, на дорогу. Впереди, насколько хватает глаз, — острохолмистая зеленоватая равнина. Это торосы, дикий хаос вздыбившихся льдин.
— Что будем делать? — растерянно спрашивает Костик и тоскливо смотрит вперед: там за льдинами залива, где-то очень близко, недосягаемо близко, — база.
Старик тоже смотрит вперед, на дорогу. Смотрит долго и наконец машет рукой Игнату.
— Вперед!
Игнат спокойно повторяет:
— Есть вперед!
Он вытаскивает лопату, отшвыривает снег, в котором завязла машина. Старик и Костик торопливо бросаются ему на помощь.
Теперь Старик и Костик идут рядом с машиной. Она то проваливается в мягкий, рассыпчатый снег, то, вдруг вздыбившись, как конь под уздой Игната, перелезает через торос. Она словно слита со своим хладнокровным всадником. И порой кажется, что это Игнат огромным напряжением своих мышц заставляет ее бросаться вперед, подымая ее на своих руках и неся через торосы. Но все чаще и чаще беспомощно утыкается в снег машина. Тщетно посылает ее вперед Игнат, — гусеницы увязли, машина не слушается.
Тогда с лопатами бросаются вперед Старик и Костик. Они валят торосы, отбрасывают снег, высвобождают гусеницы, чтоб через пять метров снова бросаться с лопатами на выручку. Машина медленно продвигается вперед, каждый шаг ее оплачивается нечеловеческими усилиями трех усталых, голодных людей.
…Так проходит день. Обессиленные, лежат у машины люди. Вездеход окончательно увяз среди торосов. Мотор выключен. Великая тишина стоит над тундрой.
Костик жадно лижет снег.
— Много мы прошли сегодня?
— Триста метров.
— Не много.
Молчание.
— Как далеко до базы?
Молчание.
— Далеко…
Старик вдруг поднимается на ноги и идет к машине. Он берет лопату и начинает яростно отшвыривать снег. Его пример подымает всех. Шатаясь, бредет к машине бледный Костик. Утомленный, с потухшими глазами, подымается Игнат.
Они работают молча, угрюмо, судорожно. У Костика из закушенной губы капает кровь. Он облизывает ее и продолжает работать. Никто не скажет, что Костик сдрейфил!
Иногда, разогнув на минуту спину, он с надеждой поглядывает вперед: может быть, удастся увидеть конец этой проклятой дороге? Но впереди по-прежнему громоздятся льдины, им нет конца, словно весь мир вздыбился. После взгляда на эту безнадежную картину труднее согнуть спину и начать работать.
— Ничего! — произносит Старик, словно угадав мысли Костика. — Ничего, дети мои! Челюскину было хуже… Альбанову совсем было плохо… Ничего… Главные добродетели полярника — терпение и труд.
Он хочет что-то еще сказать, вероятно, смешное и ободряющее (его глаза вспыхнули хитрым огоньком), но вдруг морщится и охнув, тихо опускается на колени. Игнат и Костик испуганно бросаются к нему. На его лице застывает гримаса нестерпимой боли, он уже не в силах ее скрыть.
— Однако худо… — с трудом произносит он. — Рубаху… — Он судорожно рвет воротник. — Давит!..
Игнат наклоняется над ним и ножом режет тесемки, узлы, застежки меховой рубахи.
— Ничего, ничего, — бормочет Старик. — Это и раньше бывало. Это пройдет. Теперь легче.
Костик и Игнат бережно относят его в сторону и кладут на спальный мешок. Игнат припадает к груди Старика и слушает сердце. Оно булькает. Булькает, как горючее в баке.
И тогда срывается с места Игнат.
Он бежит к машине, нетерпеливо роется в куче инструментов и наконец находит топор.
Он вытирает лезвие рукавом, долго на него смотрит и вдруг яростно начинает рубить деревянный борт кузова.
Стук топора гулко разносится по тундре.
— Что он делает? Что он делает? — удивленно вскрикивает Старик. — Он с ума сошел! Игнат!
Но Костик не останавливает его.
— Ничего, ничего, — шепчет он. — Тише! Он знает, что делает.
Широко раскрыв глаза, он смотрит, как рубит механик кузов. В его ярости есть система: он рубит верхние доски и оставляет нижние. Он рубит торопливо, боясь остановиться, боясь пожалеть, что начал рубку. Костик следит за ним воспаленными глазами и думает, что никогда не забыть ему этой картины: как механик рубил машину.
Игнат приносит ворох щепок, бросает на снег, говорит Костику: «Жги!» — и отворачивается.
Скоро среди торосов дымит костер. В чайнике над огнем тает снег, в снежной пустыне становится уютнее.
У костра сидят трое.
— Где-нибудь в Сочи сейчас… — задумчиво говорит Костик, — цветут магнолии. В Москве — сирень… А у нас — снег…
— Миф! Легенда! — обрывает его Старик. — Где цветут магнолии? Игнат, можешь ты поверить, что где-нибудь сейчас цветут магнолии?
Игнат смеется.
— А ведь цветут… — улыбается Старик, смотрит на снег и качает головой. — Здесь ни-ког-да не будут цвести магнолии. И не надо, а? Зачем нам здесь магнолии, скажи на милость.
— Ни к чему, — смеется Игнат. — Вот если бы табак здесь посадить, это да…
Он высыпает из кармана на ладонь мусор и говорит:
— Поделимся, профессор?
— Кури!
Игнат закуривает.
В наступившей тишине слышно, как булькает вскипающая вода.
— Магнолии? — фыркает профессор. — Некий ученый, Довнер-Запольский его имя, всего лет двадцать назад писал в одном почтенном журнале, что север России самой природой предназначен для полудикого зверолова и рыболова и цивилизованный человек здесь может жить лишь по нужде. А? Знаешь, что мы сделаем, Игнат? В наказание этому «ученому» мы высечем эти слова на мраморе наших городов, которые будут шуметь здесь, в тундре, у самого Ледовитого моря.
Профессор смотрит на безжизненную даль залива, на белые горы, на медно-красные скалы, с которых ветром сдуло снег…
— Гигантская плавильня, — говорит он задумчиво. — Миллионы лет свершался в недрах земли титанический труд. Мы найдем его следы. Мы нашли нефть, нашли мезозойские угли. Найдем и верхнепалеозойские, типа норильских. Это, друзья, настоящий, честный, высококалорийный уголь. Пароходы пойдут на нашем угле. Камчатка получит дешевую соль, которую мы здесь добудем. Возникнут заводы, промыслы, города, театры.
— Партии строителей придут вслед за нами, — подхватывает, увлекаясь, Костик. — Они придут на больших отличных машинах, которым не страшен будет ни десятибалльный шторм, ни ветер.
— Что ветер! — усмехается Игнат. — Да мы ветер заставим вертеть наши двигатели. Экая силища!
В кастрюле вскипает молоко. Игнат бережно выливает его в алюминиевую кружку и подносит профессору.
— А вы? — подозрительно спрашивает Старик.
— И мы.
Игнат берет две кружки и, повернувшись спиной к профессору, наливает в них кипяток из чайника и капли молока из кастрюли.
— Вот и мы, — говорит он, протягивая дымящуюся кружку Костику.
Старик греет руки об алюминиевую кружку, вдыхает в себя ласковый запах молока и произносит:
— Выпьем за жизнь, которая возникает здесь и для рождения которой мы… мы… ничего не жалели.
…Подле догорающего костра, спрятавшись в спальные мешки, спит партия. Костику снится, что он в Москве, на Патриарших прудах, угощает товарищей. Странно сервирован стол: острые сахарные головы, как торосы, молоко в бензиновом бидоне, консервные банки.
Только Игнат не спит. Осторожно выползает он из мешка, озирается, прислушивается к сонному дыханию Костика и хрипам Старика — и уходит. Скоро его фигура скрывается в торосах.
На Патриарших прудах шумит пирушка. Товарищи окружают Костика, радостно трясут его руки, трясут…
Он просыпается. Над ним — Игнат.
— Пора! — говорит Игнат и идет будить профессора.
В небе по-прежнему висит большое солнце. Который час сейчас? Два часа дня или два часа ночи?
— Профессор! — докладывает Игнат. — Пора!
— Да, да, — встряхивается Старик. — Да, в путь!
— Разрешите доложить, профессор. Я сделал разведку пути. Впереди — сплошное поле торосов. Нам не пройти.
Старик хмуро слушает, вокруг рта его образуются жесткие складки.
— Ну? — произносит он.
— Докладываю также: горючее на исходе.
Старик спокойно идет к машине, Игнат и Костик — за ним.
— Я жду приказаний, профессор.
— Я ведь сказал: в путь!
…Снова скрип ломающихся льдин, скрежет торосов, хрип мотора, лязг лопат — музыка дороги.
— Сколько прошли? — шепчет к вечеру Костик.
— Пятьсот метров.
— Не много…
На привале он раздает последние галеты.
— Все, — говорит он.
— В путь! Нет продовольствия, на исходе горючее, — подводит итоги начальник. — Какое же может быть другое решение? В путь, дети мои, вперед!
Это «вперед!» профессора все время висит над Костиком. Он разгибает спину и слышит: «Вперед!», он бросается с лопатой к гусеницам и слышит: «Вперед!» И сам шепчет пересохшими губами:
— Вперед! Вперед!
Игнат слишком поздно догадался надеть желтые очки. Его глаза слепнут от дьявольского сияния снега. Он уже плохо видит дорогу, но упрямо бросает машину на торосы.
— Я, кажется, слепну, профессор, — бормочет он.
Вдруг машина разом останавливается. Толчок выбрасывает Костика из кузова. Он падает, подымается, привычно хватается за лопату.
— Опять торос?
Игнат сдирает с рук рукавицы, срывает очки, — он хочет быть спокойным, но движения его впервые за дорогу нервны, — и говорит:
— Товарищ начальник! Горючее кончилось.
Костик опускается на снег и испуганно смотрит на Игната.
Лицо Игната осунулось и постарело. Беспомощным взглядом окидывает он свою машину, словно уже прощается с ней. Старик смотрит вперед на дорогу, потом на горы и говорит, стараясь быть насмешливым:
— Здесь, в горах… мы открыли с тобой, Игнат, тысячи тонн нефти. А ты жалуешься, что у тебя горючего нет…
Теперь они похожи на людей, потерпевших кораблекрушение. Молча сидят у заглохшей машины. Костик все время протирает очки.
Наконец Игнат нарушает молчание:
— Ждем приказаний, товарищ начальник.
— Да, да, — говорит Старик и бросает взгляд на Костика.
Костик ловит этот взгляд и краснеет.
— Ну, тогда в путь, дети, — говорит профессор. — Что же еще? В путь!
Он задумчиво смотрит на груды камней, сваленных в кузове, — плоды нечеловеческой работы в сопках.
— Прежде чем тронуться в путь, — говорит он спокойно, — надо оставить здесь записку о том, где мы нашли нефть. На всякий случай, — прибавляет он, бросив взгляд на Костика.
Он садится писать записку.
«Поисковая партия профессора Старова, отправившаяся в путь… — пишет Старик, — по маршруту… с заданием…»
Он пишет обстоятельно, сухо. «Мы сделали все, что могли, — заканчивает он записку. — От всей души желаем будущим партиям сделать больше». Закончив, он подписывает сам и отдает подписать товарищам.
Потом он смотрит на часы.
— Двенадцать пятьдесят по-московски, — говорит он. — Десять минут на сборы.
Костик грустно усмехается: собирать нечего.
— В тринадцать часов, — тихо докладывает Игнат, — мы еще можем в последний раз послушать «Арктическую газету» по радио.
Да, радио! Последняя паутинка, связывающая их с далеким миром.
— Хорошо, — говорит профессор. — Мы еще послушаем радио.
Они усаживаются вокруг черной трубы и молча ждут. Игнат возится у приемника. Старик поглядывает на часы. Костик думает, что сейчас, вероятно, в последний раз доведется ему слушать чуткий человеческий голос.
Из репродуктора вдруг вырывается могучий ливень звуков. Знакомая величавая мелодия растет, ширится, она уже гремит над безмолвной белой пустыней, и тогда, узнав ее, поспешно и молча подымаются со своих мест люди. Срываются шапки. Поворачиваются лицом на юго-запад. Теперь видно, что у Старика голова совсем белая.
Стихают последние аккорды, но люди еще долго стоят, обратив лица на юго-запад, к Москве.
Их пробуждает голос диктора:
— Внимание! Внимание! Говорит полярный радиоцентр на семьдесят втором градусе северной широты. Здравствуйте, товарищи полярники!
Мягкий голос диктора широко разносится окрест, и в машине сразу становится теплее и уютнее. Люди тянутся к репродуктору, как к костру, чтобы погреться, оттаять подле теплого человеческого голоса.
Они слушают новости далекого мира и удивляются им. Где-то заседают министры, соревнуются футболисты, торопятся на юг курортники… Мир живет, возится, поет и работает; и странно: заботы и радости этого далекого мира волнуют и радуют обреченных. Они жадно прислушиваются, они огорчаются и смеются, они вдыхают уже забытый аромат Большой земли… Эти люди не умеют умирать!
— Внимание! Внимание! — произносит репродуктор. — Вниманию геолого-разведочной партии профессора Старова.
Они удивленно поднимают головы.
— Слышит ли нас партия профессора Старова? Слышит ли нас партия?
— Да, да, слышим! — удивленно отвечает Старик.
— Это нас зовут. Это нас! — кричит Костик. Он вскакивает с места, мечется, суетится, не знает, что ему делать, и наконец снова бросается к репродуктору, тормошит Игната: — Нас зовут. Слышишь, Игнат?
— Слышу. Не мешай, — шепчет тот и обнимает за плечи Костика.
Все замирают и, затаив дыхание, ждут.
— Товарищ Старов! В третий раз передаем вам, на случай, если вы нас раньше не слышали, радиограмму для вас из базы экспедиции. Там обеспокоены вашим долгим отсутствием. Решили предпринять поиски. Отправлены три собачьи упряжки. Две в направлении: База — Сопка, по вашему маршруту, третья — на разведку в долину реки, на случай, если вы сбились с пути. Повторяю еще раз…
— Не туда! Не туда! — в отчаянии кричит в трубу Костик. — Нас надо искать в заливе Креста. Мы здесь, в заливе.
— Как жаль, — усмехается профессор, — что они нас не слышат, Костик.
— Ваша судьба, товарищи, — продолжает репродуктор, — беспокоит нас всех. Желаем вам бодрости и здоровья. Слышите ли нас? Все мы, зимовщики, желаем вам бодрости и здоровья…
Старик встает на ноги и долго смотрит на зюйд-вест. Там сгрудились медно-красные острые горы, они тянутся зубчатой грядой вдоль залива, камни блестят на солнце, как расплавленные.
— Они ищут нас там, — вытягивает Старик руку, — за этими горами… в долине.
Игнат подходит к нему. Щуря свои полуслепые глаза, смотрит на горы и тихо говорит:
— Мы перейдем эти горы. Так, профессор?
Старик порывисто оборачивается.
— Ты думаешь?
Костик прислушивается.
— Сядем, — говорит профессор и опускается на мешок, охватывает голову руками и молчит.
Костик и Игнат напряженно следят за ним.
— Видите, — говорит он наконец, — мы теперь чертовски богаты в выборе. Мы можем избрать любой способ спасения. Нас ищут и будут искать долго, пока не найдут нас или наши трупы. Я говорю так потому, что хочу, чтобы вы отдали себе полный отчет в обстановке. И сами приняли решение.
— Мы понимаем, профессор… — шепчут Игнат и Костик.
— Мы можем идти по старому маршруту, как решили полчаса назад. Дойдем? Может быть. Все-таки это шанс на жизнь. Подумайте. Мы можем остаться здесь ждать, пока нас найдут. Дождемся ли? Может быть, это тоже шанс жить. Мы можем наконец…
— Идти через горы навстречу поискам, — подсказывает Игнат.
— Да. Через горы. Рискуя, правда, не дойти, погибнуть от истощения и мороза. Но это тоже шанс на жизнь. Может быть, даже самый верный. Но самый рискованный. Решайте же.
— Идти через горы, — произносит Игнат.
— Через горы, — как эхо, повторяет Костик.
Старик еще раз бросает взгляд на горы, потом на Костика и встает.
— В путь! — жестко командует он и украдкой, чтобы никто не видел, хватается рукой за сердце.
Игнат уходит последним. Он долго еще оборачивается, прощается с машиной, потом отчаянно машет рукой и догоняет товарищей. Они бредут среди торосов, проваливаются в снег, выручают друг друга и снова бредут.
Вдруг Костик вскрикивает в ужасе:
— Профессор!.. Я забыл, забыл бутылочку…
— Как?
— Забыл! — растерянно шепчет Костик.
Он смотрит назад, — машина еще видна за торосами; какой мучительный путь до нее! — и вдруг, решившись, бросается в торосы.
— Не надо, Костик, не надо! — кричит ему вдогонку профессор. — Черт с ней! Вы не дойдете. Берегите силы.
Но Костик торопливо пробирается между торосами, перепрыгивает через трещины во льду, спотыкается, падает и поспешно подымается, словно боится, что его нагонят и вернут.
— Он выбьется из сил, — бормочет Игнат. — Дьявольская дорога. Позвольте, я пойду с ним. Вдвоем легче, — он делает движение, но профессор останавливает его.
— Не надо, — говорит он сурово. — Пусть Костик сам. Мальчик становится мужчиной.
…Через два часа возвращается Костик. Он измучен, но счастлив.
— Вот, — говорит он, задыхаясь. — Вот… — и валится на снег.
Теперь бредут все трое. Они уже на подступах к горам. Видно: они упали. Лежат. Лежат долго. Потом начинают двигаться вперед. Теперь они не идут, а ползут, цепляются за острые выступы скал, позади остаются черные пятна. Они отчетливо видны на снегу. Одно пятно напоминает распростертого человека. Это кухлянка, брошенная кем-то из троих. Дальше — еще кухлянка и потом еще одна. Словно три трупа на снегу. Потом брошенный шарф. Шапка. Рукавицы. Вехи на пути к перевалу.
Люди подымаются выше, выше. Вот они переваливают хребет… Теперь они на пути к спасению…
…Два часа ночи. На северо-востоке огромное медно-красное солнце. Чуть затемняя его, низко-низко проходят облака. Они идут быстрой, мятущейся грядой, багряные и косматые, как дымы. Как дымы над домнами ночью.
В заливе пустынно и тихо. У застывшей машины наметаются сугробы. Ветер шевелит их…
…Здесь будут шуметь города!
1938
КОНСТАНТИН ФЕДИН
РИСУНОК С ЛЕНИНА
1
Летним полднем молодому художнику Сергею Шумилину позвонили по телефону из газеты и сказали, чтобы он зашел в редакцию договориться об одном деле. Художник бросил рисовать, помыл руки, сунул в карман гимнастерки карандаши с блокнотом и вышел на улицу.
В магазинных окнах были выставлены портреты Ленина в красных рамочках из кумача, и повсюду бросались в глаза надписи: «Да здравствует Третий Коммунистический Интернационал!» Сергей, заглядывая в окна, думал, что — вероятно — фотографии очень правильно передают черты Ленина, без отклонений, но художник мог бы тоньше уловить особенности лица, живость движений, и хорошо было бы порисовать когда-нибудь Ленина с натуры.
В редакции Сергею сказали:
— Вот какое хотим мы дать вам поручение. На конгресс Коминтерна съезжаются иностранные делегаты. Отправляйтесь во Дворец труда, там они сегодня соберутся. Зарисуйте кого-нибудь из делегатов. Согласны?
— Хорошо.
— А завтра мы дадим вам пропуск на открытие конгресса, можете рисовать любого делегата и, если увидите, Ленина…
— Ленина? — быстро перебил Сергей и улыбнулся своей мгновенной мысли, что вот судьба так странно исполняет его желание.
— Да, если представится возможность, нарисуйте нам Ленина.
— Хорошо, — опять сказал Сергей.
Веселый, он поехал на трамвае во Дворец труда и, как только через открытые окна вагона замечал где-нибудь портрет Ленина — снова удивлялся необыкновенному совпадению и уже ясно представлял себе, каким легким, непринужденным, живым будет его рисунок с Ленина.
Он решил, какой альбом возьмет с собою, какие нужны карандаши и как он потом, по рисунку, напишет большой портрет.
2
Во Дворце, куда явился художник, было шумно. На лестницах, в коридорах попадались иностранцы, окруженные русскими, которые рассказывали им о жизни Советской Республики.
Шла война с Польшей, поляки были разбиты, и Красная Армия преследовала бежавшие польские войска. Белогвардейцам барона Врангеля в Крыму тоже приходил конец. Но до мира было далеко, вражеская блокада изнуряла молодую советскую землю, и трудно было проникнуть из-за границы в Петроград. Иностранные гости ехали на конгресс морем, вокруг Скандинавии, им приходилось переживать по дороге рискованные приключения. Но желание увидеть Страну Советов заставляло одолевать самые трудные препятствия, и люди съехались со всех концов света.
Сергея познакомили с одним немцем. Это был маленький горбун с важным лицом и с медленной походкой. Родом он происходил из Брауншвейга, по профессии был портным. Во время германской революции он три дня возглавлял «независимую» республику в Брауншвейге, которую предательски разгромили немецкие социал-демократы.
Хотя он сразу согласился позировать художнику, он занялся подробными расспросами о советской власти и все не мог понять, зачем ей понадобилось упразднить всякую торговлю и ввести распределение товаров.
Они стояли на балконе, глядя на суровую площадь перед Дворцом, еще хранившую следы героической обороны Петрограда от генерала Юденича: на мостовой виднелись второпях засыпанные окопы, на бульваре торчали остатки бруствера — бревна, мешки с песком. Сергей сказал:
— Целое сонмище врагов ополчилось на нас. Мы думаем об одном — победить их.
— Понимаю, понимаю, — с превосходством говорил брауншвейгец и плавно двигал головой, лежавшей глубоко в плечах. — Но какой смысл в том, что у вас закрыты мелочные лавки?
— Лавочники заодно с нашими врагами.
— Понимаю, понимаю. Но если у меня оторвется пуговица, где я ее куплю?
Таким рассуждениям, казалось, не будет конца, и Сергей, вдруг заскучав, почувствовал, что совершенно ничего не получится, если он начнет рисовать брауншвейгца.
— Знаете, я попробую сделать ваш портрет завтра, на конгрессе, — сказал он.
Немец снисходительно разрешил, и художник быстро простился.
3
На другое утро, с билетом в кармане, Сергей торопился на открытие конгресса, но когда он пришел, зал Дворца Урицкого был уже полон, на хорах колыхалась живая полоса голов, все глухо гудело от разговоров, везде вспыхивали белыми крыльями расправляемые газеты. Стояла духота, чаще и чаще в амфитеатре снимались пиджаки, люди обмахивались газетами, платками, рябило в глазах от трепета неисчислимых пятен, все было напряжено ожиданием.
Сергей нашел место в ложе для журналистов, против трибуны. Отсюда хорошо были видны скамьи президиума. Он раскрыл альбом и стал готовиться к рисованью.
Внезапно хоры зашумели, и, все поглощая грохотом, вниз начал сползать глетчер рукоплесканий. Сергей поднялся вслед за всем залом и стал глядеть в места президиума. Но там никто не появлялся. Он посмотрел в зал, и вдруг у него выпал из рук альбом: он начал аплодировать.
Прямо на него, через весь зал, впереди разноплеменной толпы делегатов, шел Ленин. Он спешил, наклонив голову, словно рассекая ею встречный поток воздуха и как будто стараясь скорее скрыться из виду, чтобы приостановить аплодированье. Он поднялся на места президиума, и, пока длилась овация, его не было видно.
В момент, когда он появился, раскрылись все двери зала, и на хоры и в амфитеатр внесли огромные корзины красных гвоздик. Цветы разлетались по рукам, вовлекая длинные ряды скамей в красочную перекличку с алыми полотнищами знамен и декораций. Оглядывая зал, Сергей увидел неподалеку двух пожилых художников, которые еще недавно были его учителями. Они уже уселись на места, а он все еще стоял. Спохватившись, он поднял альбом и взялся за карандаши.
Но неожиданно, когда стихло, он опять увидел Ленина, очень быстро поднимавшегося вверх между скамей амфитеатра. Его не сразу заметили, но едва заметили, снова начали аплодировать и заполнять проход, по которому он почти взбегал. Он поравнялся с одним человеком и, весело улыбаясь, протянул ему руки. Тот встал навстречу Ленину, здороваясь неторопливо, с какой-то степенной манерой крестьянина и с ласковой сдержанной улыбкой. Они разговаривали, все больше наклоняясь друг к другу, потому что овация росла и люди обступили их кольцом.
— Это — Миха Цхакая,[76] — услышал Сергей, — грузинский коммунист. Он жил с Лениным в Швейцарии.
Кольцо людей вокруг них сужалось, и Ленин, пожав руку товарища, почти прорвал неподатливую толпу, устремляясь вниз, явно недовольный громом и толчеей.
Сергей следил за каждым шагом Ленина. Ему казалось, что он успел заметить очень важные особенности движений этого невысокого, легкого человека и уже видел их пойманными карандашом в своем альбоме.
Ленин, войдя в места президиума, на минуту исчез, потом вновь показался, и Сергей увидел, как он вынул из кармана бумаги и присел на ступеньку в проходе. Это случилось быстро, нечаянно, просто, и лучшей позы нельзя было ни ждать, ни вообразить. Сергей почувствовал, что его соседи-художники уже рисуют. Он сжал в пальцах карандаш, но не мог оторвать взгляда от Ленина.
Так хорошо была видна его голова — большая, необычная, запоминавшаяся в один миг. Ленин положил бумаги на колени и, читая, низко нагнулся над ними. Взмах его лба, темя, затылок с завитушками светлых желтых волос, касавшихся воротника, резко преобладали во всем его облике. Сергей хотел сравнить Ленина с каким-нибудь образом, знакомым из истории или современности, но Ленин никого не повторял. Каждая черточка его принадлежала только ему.
Сергей наконец коснулся карандашом бумаги. Одним мягким, нащупывающим скольжением он прочертил контур ленинской головы и поднял глаза. Ленина уже не было.
4
Сергей увидел его снова, когда он ступил на трибуну для доклада.
Восторженная, несмолкающая овация встретила Ленина. Ему пришлось вынести ее до конца. Он долго перебирал бумажки на кафедре. Потом, высоко подняв руку, тряс ею, чтобы угомонить разбушевавшейся зал. Укоризненно и строго поглядывал он по сторонам — один среди клокотавшего шума. Вдруг он вынул часы и показал их аудитории, сердито постукивая пальцем по циферблату, — ничего не помогало. Тогда он опять принялся нервно пересматривать, перебирать бумажки, пока овация, словно исчерпав себя, не обратилась во внимающую тишину.
Ленин начал говорить.
Сергей увидел его в движении, передававшем мысль. Вот именно это и мечтал художник изобразить в рисунке. Черты Ленина, несколько минут назад совершенно точно уловленные, как будто исчезли в Ленине-ораторе и заменялись новыми, в непрерывном живом чередовании. Одну за другой отмечал их в памяти Сергей, но они возникали и не повторялись, и он боялся упустить их, и все не решался начать рисовать, и уже не мог бы сказать, что делает — изучает ли жестикуляцию Ленина или слушает его речь.
Полная слитность жеста Ленина со словом поразила его. Содержание речи передавалось пластично, всем телом. Сергею казалось, будто жидкий металл влит в податливую форму: настолько точно внешнее движение сопутствовало слову, так бурно протекала передача огненного смысла речи.
Ленин разоблачал Англию, которая нежданно-негаданно прониклась миролюбием и, чтобы спасти панскую Польшу и белого генерала Врангеля, предложила свое посредничество между ними и Советской Республикой. Когда Ленин спросил у зала: почему создалось во всем свете «беспокойство», как выражается деликатное буржуазное правительство Англии, все его тело иронически изобразило это неудобное, щекотливое для Англии «беспокойство», и ее политика на глазах у всех превратилась в разящий саркастический образ.
Ленин часто глядел в свои записки и много называл цифр, но ни на одну минуту он не делался от этого унылым докладчиком, оставаясь все время покоряющим трибуном. Его высокий голос был неутомим, его язык — наглядно прост, его произношение — мягко, он иногда грассировал на звуке «р», и это наделяло его слово человечностью, жизненно приближая речь к слушателю.
С таким чувством, как будто он не пропускает ни звука этой речи, Сергей принялся рисовать. Он набрасывал на бумагу приподнятую голову Ленина, его вытянутые руки, прямую сильную, разогнутую линию спины, круглую, выпяченную грудь. Он оставлял один рисунок, начинал другой: то у него не получалось лицо, то руки или торс. Он повторял удачное, бился над тем, что не удавалось, перевертывал в альбоме лист за листом и, наконец, в испуге заметил, что цель, которую себе поставил, ничуть не приближалась.
Он посмотрел на своих учителей. Один из них, нагнувшись, старательно стирал нарисованное резинкой. Лысина его была пунцовой. Сергей вспомнил — он всегда краснел, если у него что-нибудь не получалось. Другой художник ушел из ложи, пристроился в рядах против трибуны и, бросив рисовать, слушал Ленина.
Сергею вдруг сделалось страшно, что он навсегда упустит мгновение, что Ленин кончит речь, а в его альбоме так и не будет ни одного цельного наброска. Он вышел из ложи, насилу протолкавшись в дверях, где люди стояли плечом к плечу. Он стал внизу, в проходе, откуда Ленин показался ему больше и выше. Он решил, то это самое выгодное место. Но тут мешал свет юпитеров: объективы фотокамер и кино вместе с художниками ловили неуловимого, живого Ленина, и огни, вмиг ослепив, окунали зрение в темноту. Сергей перешел на другую сторону от трибуны. Отсюда Ленин виден был почти силуэтно, потому что свет позади него падал ярче. Нет, первая позиция была лучше всех, надо было скорее, скорее возвращаться в ложу.
Место Сергея было занято, ему пришлось стоять. Но стоя он внезапно увидел всего Ленина, во весь рост и в той полноте, которая не давалась глазу, разымавшему на части исполненную цельности натуру. Сергей сразу взялся за новый рисунок. И тогда стала сказываться вся подготовка, все неуверенное штудирование, этюды, сделанные как будто на ощупь, вслепую, и жесты, движения головы, черты лица, дополняя друг друга, соединяясь, начали медленно превращаться в связный рисунок, в близкий к правде образ — в живого Ленина. Уже не отрываясь от альбома, быстро, без усилий рисовал Сергей.
Гулкий шум раскатился по залу. Сергей вскинул глаза. Взмахом руки собрав бумаги, Ленин легко сбегал с трибуны.
Сергей захлопнул альбом.
5
Когда кончилось заседание, в плотной, жаркой толпе делегатов Ленин вышел из Дворца вместе с Горьким. Сверкающе синий день слепил и обжигал после тепло-желтого полусвета зала. Теснота приостановила движение у самого выхода. Фотографы, наступая на делегатов со всех сторон, трещали затворами, обрадованные неистовым освещеньем. Горький и Ленин, подвинутые толпой, остановились у колонны дворцового крыльца. Их снимали не переставая. Гладко выбритая, голубеющая голова Горького, блестевшая на солнце, была видна далеко. Кругом повторялось его имя. Ленин стоял ниже, впереди него, тоже с непокрытой головой.
Сергей был рядом, и ему надо было бы рисовать. Но толпа сдавила его. Да и он не думал шевельнуться: так близко он еще не видел Ленина за весь день. Он чувствовал, что улыбается и что улыбка его, может быть, не к месту, но она не спадала с лица, точно одеревенев. Конечно, он не мог радоваться, что фотографы нащелкают несколько десятков плохих снимков, но он позавидовал прыткости их беспечной профессии.
Шествие тронулось. Среди знамен, над головами, несли трехметровый венок из дубовых веток и красных роз: направлялись к братской могиле на площади Жертв Революции.
Ленин шел во главе делегатов конгресса. Рядом с ним все время сменялись люди — иностранцы, русские, старые и молодые. Он кончал говорить с одним, начинал с другим, третьим.
Он шел без пальто, расстегнув пиджак, закладывая руки то за спину, то в брючные карманы. Было похоже, что он — не на улице, среди тяжелых, огромных строений, а в обжитой комнате, дома: ровно ничего не находил он чрезвычайного в массе, окружавшей его, и просто, свободно чувствовал себя во всеобщем неудержимом тяготении к нему людей.
Сергей, шедший поблизости, вдруг заметил знакомого человека, который, пробираясь между плотными рядами людей, вынырнул вперед и, улучив минуту, поравнялся с Лениным. Это был брауншвейгец. Обстоятельно представившись и пожав Ленину руку, он приступил, как видно, к хорошо заготовленной тираде.
Ленин наклонил голову набок, чтобы лучше слышать низенького собеседника. Тот говорил, важно поводя длинной рукой, ценя свои внушительные слова, боясь проронить что-нибудь напрасно. Сначала Ленин был серьезен. Потом заулыбался, прищурился, коротко подергивая головой. Потом отшатнулся, обрывисто махнув рукою с тем выражением, которым говорится: чушь, чушь! Брауншвейгец, жестикулируя, продолжал что-то доказывать. Ленин взял его за локоть и сказал две-три фразы — кратких и каких-то окончательных, бесповоротных. Но брауншвейгец яростно возражал. Тогда вдруг Ленин легко хлопнул его по плечу, засунув пальцы за жилет и стал смеяться, смеяться, раскачиваясь на ходу, прибавляя шага и уже больше не оглядываясь на человека, который его так рассмешил.
Не о пуговице ли заговорил неудачливый брауншвейгец? Возможно, конечно, — улыбнулся Сергей, когда немец отстал от Ленина и затерялся в толпе. Странные чувства подняла эта сцена в Сергее. Она была немой для него, но, полная движения, так остро выразила в Ленине непринужденность, доступность и беспощадное чувство смешного. Сергей видел Ленина веселого, от души хохочущего, наблюдал его манеру спорить — с быстрыми переменами выражения лица, с лукаво прищуренным глазом, с жестами, полными страсти и воли. Сцена с брауншвейгцем должна была дополнить рисунок Сергея такими важными штрихами, каких прежде он не мог знать.
«Два председателя, — думал он, улыбаясь и словно все еще видя перед собою две фигуры, — председатель трехдневного брауншвейгского правительства, канувшего в Лету, и председатель правительства, которое существует три года, будет существовать всегда».
Незнакомое телесное ощущение гордости потоком захватило Сергея, и почти в тот же момент у него стало биться сердце от досады и волнующего дерзкого желания: почему, почему так много людей подходят к Ленину и он уделяет им время, а он, художник, который должен, который обязан и хочет навсегда запечатлеть Ленина для сотен, для тысяч людей, почему он должен выискивать секунды, чтобы заглянуть в его лицо, рассмотреть его улыбку, поймать на лету его взгляд?
Сергей раскрыл альбом. В рисунке были черты сходства, несомненно. Пойманные бегло, мимолетно, они не обладали бесспорностью, но что сказал бы о них сам Ленин?
Сергея толкнули вперед. А может быть, это ему показалось, — он сам протиснулся в передний ряд и уже маршировал вровень с Лениным. Он чуть не задыхался. Какой-то шаг отделял его от цели, и, не зная, хватит ли силы, он сделал этот шаг.
Он подошел к Ленину.
— Я хочу, — сказал он, и едва придуманная фраза тотчас разломалась у него. — Владимир Ильич, как рисунок вы находите этот?
Ленин мельком глянул на Сергея, взял альбом за угол и, нагнувшись, сощурился на бумагу. Потом он отодвинул альбом, весело покосился на Сергея.
— Вам нравится? — спросил он со своим дружелюбным «р».
— Нет, — ответил Сергей, — но сходство, кажется, есть…
— Не могу судить, я — не художник, — скороговоркой отозвался Ленин.
В глазах его мелькнуло шутливое лукавство, он откинул голову назад, ободряюще кивнул Сергею и отвернулся в другую сторону: с ним кто-то заговорил.
Сергея оттеснили из первого, затем из второго ряда, он удивился — почему все время он легко сохранял удобное место в шествии и сразу потерял его. Огорчение? Неловкость? Сергей заново вызвал в себе состояние, которое только что испытал. Нет, ни в голосе, ни во взгляде Ленина не мелькнуло ничего, что могло бы Сергея встревожить. Но как пришло в голову показать Ленину неудавшийся рисунок? Это было малодушие. Сергей раскрыл и тотчас захлопнул альбом: рисунок никуда не годился.
Тогда кто-то взял его за локоть и потянул книзу. Он обернулся.
Его жестко держал брауншвейгец.
— Вы, мой друг, намеревались меня рисовать, — сказал он громко. — Сегодня вам это не удалось, но я могу вас принять завтра.
Приподняв над головою длинную, сухую руку, он похлопал Сергея по плечу.
— Дьявольски жаркий день. Совсем не похоже на вашу матушку-Россию.
— Знаете что, — сказал Сергей, — я раздумал, я рисовать вас не буду.
— О, очень любезно, — расслышал он позади себя, пробираясь сквозь толпу.
Он тотчас забыл о немце. И в тот же момент он ощутил новое, теплое пожатие руки. Его учитель, художник, рисовавший вместе с ним в ложе, со знакомой участливой вдумчивостью сказал тихо:
— Слышите? У меня не получается рисунок с Ленина. А у вас?
— У меня тоже, — ответил Сергей и, неожиданно прижимая к себе ласковую руку, с жаром договорил:
— Но даю слово, даю вам честное слово — у меня непременно получится…
1939
Конст. Федин. «Рисунок с Ленина».
Художник В. Васильев.
ВЛАДИМИР КОЗИН
ВЕЧЕРА В ТАХТА-БАЗАРЕ[77]
Днем принимали овец.
Перед Тахта-Базаром, со стороны Афганистана, стояла глиняная гора, под горой извивался полноводный Мургаб, чистый и синий в осеннюю пору. Было утро и легкое солнце. За городом, у развалин глинобитных зданий, толпилось стадо: это был сброд, отбитый у неудачливого бандита, — каракульские, туркменские, белуджские и высоконогие овцы афганской породы «аймак». Они были тощие, с пустыми хвостами.
— Я виноват, что под Тахта-Базаром трава не растет? — говорил уполномоченный заготовительного пункта — толстый беспокойный армянин с могучими бровями.
В глинобитных развалинах устроили загон. В загоне были шум и движение. Пастухи ловили овец. Вожатые козлы, взволнованные и наглые, носились вдоль стен загона, ища лазейку. Голодные ягнята с любопытством смотрели на пастухов и дружно от них шарахались. Ветерок сдувал с развалин пыль. Далеко внизу, под развалинами, был голубой простор Мургабской долины.
Кулагин сидел на верблюжьем седле у высокой обветренной стены и вел запись. Пастухи вытаскивали из загона изумленных овец. Живулькин задирал им верхнюю губу, смотрел на овечьи резцы и определял по зубам возраст. Иногда, ощупав овцу, он озабоченно кричал:
— Травма на хвосте. Хромота. Бронхит!
Кулагин держал папку на коленях и условными знаками обозначал наружные признаки овец. Пастухи, распахнув халаты, сидели верхом на овцах, овцы в недоумении вертели головами. Живулькин, потный и неистовый, кричал пастухам:
— Смотри, пожалуйста, сел верхом, как на кобылу. Что же, товарищ зоотехник будет тебя описывать или овцу? Слазь, слазь, не скаль зубы: тут баб нет.
Пастухи смеялись, простосердечная ярость Живулькина была необидной.
Когда пастухи задерживались в загоне и пестрый овечий поток прерывался, Кулагин с улыбкой поглядывал на своего ветеринарного фельдшера, седого и беспокойного.
Вечерами на дворе заготовительной конторы приезжие дышали прохладой осеннего воздуха, слушали гитару бухгалтера, командированного из города Мары, развлекались беседой.
Бухгалтер был урод в семье бухгалтеров, он не любил ночных занятий в конторе, его больше привлекали ночные тени на пустом дворе и звук гитары.
Гитара бухгалтера была украшена большим зеленым бантом. Живулькин с уважением пощупал материю.
— Хорошенький у вас на гитарке бантик. Чай, жинка старалась или от какой-нибудь случайной дамочки?
— Моя супруга.
— Гитарка у вас ценная.
— Я — человек музыкальный.
— А на балалайке не играете? — спросил Кулагин.
— Женщины не уважают балалайку.
Бухгалтер вынул из кармана серебряный портсигар с монограммами, конскими головами и наядами из фальшивого золота, открыл его и сказал:
— Прошу. Редкое качество при нашей отдаленности.
Кулагин поблагодарил и взял сигарету. Живулькин вздохнул, пораженный любезностью бухгалтера, и незаметно взял две.
— Пахучие! — сказал он, понюхав. — Благодарствуйте… Сыграйте что-нибудь на гитарке.
— Что прикажете?
— Ну, любовный романсик или нашу русскую песню.
— О любви принципиально не играю.
— Почему? — спросил Кулагин.
— Видите ли, мы с моей супругой как-то подумали на этот счет…
— Да.
— И решили, что любовь — это липовая надстройка исторически угнетенного общества, настоящее свободное чувство расцветет только при коммунизме. К сожалению, мы до этого не доживем. Я вам сыграю бравурный марш.
— Что-нибудь с чувством, пожалуйста! — сказал Живулькин.
— Современному человеку чувствительность ни к чему, — сказал бухгалтер и положил гитару на колени осторожно, как ребенка. — Что такое любовь, если заглянуть в нее исторически?
Живулькин почтительно посмотрел на бухгалтера.
— Ну, предположим, любовь в пещерные времена нашего человечества, — сказал бухгалтер и нежным движением тронул гитару, — мужчина подходил к длинноволосой женщине, обнимал ее, как ему было удобно, и говорил: «Пойдем, дорогая женщина, со мной в отдельную пещеру, полежим на звериных шкурах». Вы согласны, что это голый примитив?
— Согласны, — сказал Кулагин.
— В средневековые времена, когда над половыми чувствами человека стояла феодальная церковь, мужчина, крестясь, шептал женщине: «Ради бога, пойдемте со мной, любимая красотка, в мой готический дом плодиться и размножаться с благословения всех святых отцов». Вы согласны, что это мрачный фанатизм?
— Согласны, — сказал Кулагин.
— В продажные буржуазные времена богатый мужчина говорил бедной женщине: «У меня — деньги, у вас — красота, мадам, товар за товар». Вы согласны, что это лицемерный разврат?
— Согласны, — сказал Кулагин.
— В наши бурные времена женщина говорит мужчине: «Давай жить вместе». Вы согласны, что это только начало?
— Это не любовь, товарищ бухгалтер! — сказал Живулькин.
— А что такое любовь, Василий Иванович? — спросил Кулагин.
— Когда на всем белом свете есть одна-единственная для тебя лебедушка, другой нет и не будет. Если ты нашел свою нетронутую лебедушку — счастливый, не нашел — бедняга, потерял — горький, несчастный человек, навек не сыта твоя душа. Вот что есть любовь, а все прочее — насмешки ума от бедности душевной, ленивый грех. Я вас уважаю, товарищ бухгалтер, за способности на гитаре, за музыкальное отличие, но слово ваше — не мужское, худая издевка: люди от любви всю жизнь ходят нелепыми либо великанами, история тут, я думаю, ни при чем, и в пещере влюбленный человек стонал или пел свою радость, не зная, что поет, почему горланит на весь суровый лес.
Живулькин стыдливо замолчал.
— Я с вами в чувствах вполне согласен, товарищ ветеринар, — сказал бухгалтер, — но я — продукт истории и любовь понимаю исторически, то есть догадываюсь. Мы с моей супругой…
— О любви без сердца не догадаешься, — проговорил Живулькин.
Когда луна поднялась над одиноким тутом посреди двора, Живулькин сказал:
— Ну, вечерок скоротали, а завтра день рабочий, — и пошел спать.
На третий день бухгалтер-инструктор уехал из Тахта-Базара. Сидя под осеннею луной, Живулькин нередко его вспоминал.
«Бухгалтер человек бойкий и на гитаре играет с чувством, — говорил он, — а любовь, по дурости душевной, понимает бесчувственно. Может быть, ему на супругу не повезло?»
Рядом с комнатой для приезжих жил шофер Дымов со своей молодой женой. Между комнатами стояла фанерная перегородка, и вся молодая жизнь за перегородкой была больше чем слышна.
Весь день муж и жена работали, он — за рулем, она — на хлопкоочистительном заводике; вечером они сходились в своей чистой, убогой комнате, мылись, ели, разговаривали, потом заводили патефон, чтобы никто не мог их подслушать, и ложились спать.
Ее звали Клавдюша. Живулькин познакомился с нею на дворе, вечером, когда она выбивала пыль из текинского молитвенного коврика, и стал захаживать к ней в комнату. Комната была выбелена известкой, у стены стояла узкая кровать под белым одеялом, с одной подушкой, у другой стены — стол под белой скатертью; на столе — стопка книг, на окнах — занавески из марли, на стенах — портреты Клавдюши карандашом и красками, подписанные фамилией ее мужа. Шофер Дымов проходил военную службу во флоте и там же окончил художественную школу. Он писал жестко, словно вырезывал. На чистых стенах висели только портреты его жены, сделанные с грубой, неутомимой силой. Пока родина не звала его на защиту, лучшие его чувства принадлежали жене.
Дымов был небольшого роста, с крепким обыденным лицом, глаза голубые и глубокие. Клавдюша — настоящая женщина, гордая, строгая, ласковая, взволнованная своей первой любовью. С другими она была спокойна и говорила мягким, ровным голосом. Ей было двадцать лет. Казалось, она знала глубоко, не сомневаясь, всю трудную простоту жизни, что стоит первая женская ласка и цену своей ласки.
Она была смуглая, кудрявая, с большой, недевичьей грудью и странным лицом — отчетливым и печальным, смеялась задорно, как ребенок.
— Какая жена у шофера! — сказал Живулькин Кулагину.
Кулагин не ответил. Его тоже волновала жена шофера, но в этом стыдно было признаться: шофер был хороший, открытый человек, и Кулагин любил свою далекую жену.
— Смеется звонко, а тихая, в самой себе живет, — сказал Живулькин.
— Дымов тоже славный, — сказал Кулагин, — талантливый, учиться ему надо, был бы художником.
— Шофером работать веселее, Андрей Петрович, простору больше.
— Пожалуй.
Живулькин относился к Клавдюше просто и почтительно. Он ни на что не надеялся и ничего не добивался, его преданность была легкой. По вечерам он приносил Клавдюше воду и подметал двор перед ее дверью.
— Посидели бы, — сказал Кулагин, — будет вам суетиться.
— У Клавдюши работа горячая, устает.
— В двадцать лет?
— Почему молодой женщине не помочь? — прошептал Живулькин. — Ей полезно, а мне приятно. Она несмелая, за все благодарит.
Однажды Живулькин принес Клавдюше бутыль керосина и застал ее неодетой, она мылась над тазом. Живулькин сказал:
— Ну, мойтесь хорошенько, я потом зайду, — вышел за двор, сел у ворот на скамеечку рядом с Кулагиным и закурил.
— Скучаете, Василий Иванович? — спросил Кулагин. — Скоро поедем на колодец, домой.
— Задержались мы здесь с этим бандитским стадом, вот неладное, и смотреть-то не на что, одна хурда.
— Случная у нас на носу.
— Время ответственное, Андрей Петрович.
— Надо торопиться.
— Пора нам отсюда откомандировываться, ей-богу, пора.
— Рано смеркается, больше тысячи голов в день никак не ощупать.
— И то от зари до зари.
— У меня мозоль на пальце от карандаша.
— К вечеру всю спину разломает, ночью долго не спишь.
На другой вечер Живулькин сказал Кулагину:
— Клавдюше что-то неможется, легла, — и сам лег на свою кошму раньше, чем обыкновенно, до прихода шофера, и сейчас же заснул.
Шофер вернулся домой грязный и радостный, как всегда.
— Лечу к тебе! — крикнул он жене, хлопнул дверью, скинул сапоги и стал торопиться мыться, роняя мыло. — Черт, весь в масле и пыли, не отмоешься. Хлопка в этом году! А дорога — яма на яме, чинят ее, чинят, один песок. Такая пыль. Я еще ничего не ел. Она мне и ночью снится.
— Кто она?
— Дорога… Клавдюшенька, ты лежишь? Что ты, хорошая моя, — сказал шофер, и скрипнула кровать. — Смотри, что я тебе принес. Вот конфеты, а вот печенье. Попробуй. — Шофер стал говорить шепотом. — Дай ротик. Ну, скушай, моя ласковая, ну.
Клавдюша сказала громко и отчетливо:
— Нет, не хочу, тошнит, положи на стол.
Наступило молчание. Шофер ходил босиком по комнате из угла в угол.
— Завтра с утра отправляйся в амбулаторию. Обязательно. Не упрямься. Послушай меня.
Жена молчала.
— Клавдюшенька, хотя я не врач, но определяю у тебя аппендицит.
— Иди ко мне, — сказала Клавдюша с такой уверенной лаской, что Кулагину стало не по себе. — Это тебе за конфеты и печенье!
Заиграл патефон. Пластинка была ночная, одна и та же.
Через два дня прием стада был окончен.
В последний вечер в Тахта-Базаре Кулагин долго сидел один на дворе заготовительной конторы и мечтал о своей жене. Конечно, время не терпит, осень, надо быть на колодцах, он не успеет хоть на одну ночь залететь в поселок под Рабатом, к жене. Какая она жена, — девчонка. Вечером он приедет на полустанок, а утром, на рассвете, уедет. Со станции Таш-Кепри он поскачет к стаду по осенним прохладным буграм, и начнутся беспокойные дни.
Живулькина на дворе не было.
Кулагин постучал в дверь к Дымовым. Клавдюша сидела одна у лампы, чинила рубаху мужа. Она была в летнем платье, руки голые до плеч, смуглые и крепкие, босая узкая нога.
— Присаживайтесь.
— Василий Иванович к вам не заходил?
— Нет.
— Пропал мой старик. Ну как ваш аппендицит?
— Вам все слышно?
— Все.
Клавдюша опустила голову и прошептала:
— Живешь как раздетая.
— Попросите себе другую комнату, вы имеете право.
— Комнат нет.
— Но так жить оскорбительно.
— Что же делать?
— Требуйте, чтобы вам поставили каменную стену.
— Нет кирпича.
— Глинобитную.
— Не умею я просить, кланяться, а Ване все равно, он говорит — пусть завидуют!
— Из-за вас я третью ночь не сплю.
— Все приезжие жалуются.
— И вам беспокойно, и нам.
— Бухгалтер с гитарой уехал раньше времени, бедняга!
Клавдюша взглянула на Кулагина и рассмеялась. Кулагин взял ее руку: пальцы были длинные, смуглые, чуть загнутые вверх.
— Красивые у вас руки, — сказал Кулагин, — очень красивые.
— Моя беда.
— Почему?
— Мы познакомились с Ваней в вагоне, приехали в Ашхабад и женились, он меня сразу полюбил. А потом стал ревновать к прошлому.
— Он у вас не первый?
— Нет, первый. Девчонкой я служила в прислугах у сельского кулака, нашего, самарского, на хуторе, а Ваня не может это забыть, мучается. Мне он ничего не говорит, он сильный, Ваня, все понимает, а в своем дневнике написал такие несчастные строчки, что его любимая жена была прислугой у сволочи кулака и своими тихими руками убирала за ним. А разве я могу изменить прошлое?
В дверях стоял Живулькин и слушал.
Он вернулся на двор заготовительного пункта пьяненький. Кулагин взглянул последний раз в лицо Клавдюши и увел Живулькина к тутовому дереву, что росло посреди двора.
Живулькин был смешон. Водка, выпитая им в одиночку у безлюдных развалин, пахнувших овцой, над темным простором Мургаба, развеселила его, но он старался бережно хранить в себе чувство одиночества и обиду на жизнь. Лицо его горело здоровым, мальчишеским румянцем, мясистый нос блестел от пота. Он был весь потный и слегка колыхался, а голубые глазки смотрели строго, наивно и печально.
Вместе с выпитой водкой к Живулькину вернулось старое, солдатское, давно забытое — если не памятью, то сердцем: ему хотелось движений, открытых слов, признаний, песен, восторга, свободной жизни, веры в себя, в то, что впереди у него — много разнообразного счастья и случайных встреч, которые останутся радостью на всю жизнь. Но он выпил с горя, горе было новое, непривычное, и Живулькину было страшно разорвать его старой солдатской песней. Он ходил, покачиваясь, вокруг дерева, носил свое горе по лунному двору осторожно на некрепких ногах.
Кулагин сидел у ворот на скамеечке и любовался перед сном тахта-базарской луной.
Когда луна поднялась высоко и от дувала на половину двора легла спокойная тень, Живулькину стало так одиноко, что он тихо замычал, распахнул халат и прижал руку к сердцу. Потом разыскал Кулагина и, стоя подле него, — воспаленный, раскрывшийся, залитый лунным светом, — рассказал ему все.
— Я тоже любил свою горничную, Андрей Петрович, — сказал Живулькин и выпрямился, — и ее тоже звали Клавдюша, служила она у капитана Боголюбского, и шейка у нее была белая, как у лебедушки, и голос ласковый, звонкий, и обе ноженьки можно было согреть в одной ладони, а губы быстрые и теплые. Куда оно делось, счастье мое, Андрей Петрович? Погибло солдатское мое счастье. Вот шофер с Клавдюшей своей счастлив: он работает на просторе, она работает, — какая может быть у них ссора, сплошное счастье из ночи в ночь, изо дня в день. А где мое счастье, Андрей Петрович?
Живулькин посмотрел прямо в глаза Кулагину.
— Прошлого-то не изменить, — прошептал он, ударил себя кулаком по мягкой груди, покачнулся и сел на скамеечку.
— Посидите со мной, Василий Иванович, — сказал Кулагин, — вечер хороший, тишина-то какая.
1939
ПЯТРАС ЦВИРКА
КОРНИ ДУБА[78]
Урнас лежал в старом доме на высокой кровати. Дом был выстроен много лет назад: его трухлявые, источенные жучком-короедом бревна можно было насквозь проткнуть пальцем. Жучков было множество, от их работы пол покрывался древесной пылью, и старику порой казалось, что в него самого, как в дуплистую сосну, переселился короед и без устали точит и точит его тело.
Просмоленный, закопченный потолок избы брюхом свисал над головой Урнаса, и старику казалось, что это не потолок, а хорошо начиненный сычуг.
Над изголовьем его кровати висели гусли. Это был подарок внуков доживающему свой век деду. Урнас не мог уже ни встать, ни громко окликнуть кого-нибудь из домашних, он только изредка трогал пальцами струны. Но не старость свою тешил Урнас звуками гуслей: уже долгие годы он не играл на них, а только в случае надобности звоном подзывал к себе домочадцев.
Когда-то Урнас был отличным гусляром и знал много песен. Еще пастухом он постоянно носил за спиной гусли, перекидывая их через плечо на красивом цветном пояске.
Бывало, чуть уляжется стадо, подпаски обступают Урнаса, и он поет им, поет старые простые песни.
Стояло лето. В открытую дверь Урнасу виден был уголок двора. По двору проходили люди, скотина, но старику трудно было различить, где человек, где корова, он как будто глядел в глубокую воду и видел там тени проплывающих рыб. Вот Урнас услышал стук: это приковыляла стреноженная лошадь и почесывается об угол избы.
Иногда в открытую дверь просовывал голову теленок, переступали порог куры… Петух, оглядев все углы, взлетел на кадку и с кадки долго смотрел на Урнаса, вертя головой. Видя, что старик не шевелится, он подбирался поближе и принимался клевать застрявшие в его бороде крошки хлеба или творога. Старик и не пробовал отгонять петуха: он только улыбался, глядя на свою немощь. Часто он сам не мог бы сказать, спилось ему это или птица наяву выклевывала крошки у него из бороды.
Когда кто-нибудь из домашних появлялся в дверях, куры с шумом слетали с полок и со стола, подымая крыльями пыль и тревожа по углам паутину. Потом все затихало, и старику долго приходилось ждать, когда в просвете снова появятся тени.
В избу иногда забегали ребятишки, заглядывали взрослые — зачерпнуть ковшом воды из ведра. Напившись, они опять исчезали.
С первыми теплыми днями домашние Урнаса покинули тесную избу: еду готовили на дворе, спали на сеновале, и Урнас по целым дням оставался один.
Уже около месяца с утра до вечера старик слышал стук топоров на дворе — внуки строили большой дом. Все думы доживающего свой век деда вертелись вокруг этого нового дома. Изо всех сил старался Урнас разглядеть в дверь или в окно растущий с каждым днем сруб. Но вот однажды он ясно понял, что до новоселья ему уже не дожить. Подозвав жену внука, он шепнул ей:
— Уж я завтрашнего дня, видно, не дождусь, что ни сплюну — все себе на бороду. Раньше этого не бывало. Уж и слюны-то я стереть не в силах… Второй день эдак…
— Больно тебе, дедушка? — спросила женщина и погладила руки старика. — Может, поел бы чего?
— Не больно, дочушка. Хотел было я тебя подозвать, чтобы ты меня на другой бок перевернула, да так и не дотянулся до гуслей. Как сплюну — все на бороду. Вынесли бы вы меня на воздух — я бы на дом поглядел…
С самого утра старик готовился в трудную по такому возрасту дорогу. Уж пять лет он не переступал порога избы, а теперь внуки вынесли его на двор и поставили его кровать в тени сада, у плетня. Солнце мерцало сквозь ветви деревьев, и глаза Урнаса, отвыкшие от яркого света, стали слезиться. Легкий, теплый ветерок касался его лица и, точно траву, шевелил и его брови и бороду.
Работники, клавшие последние венцы, увидев, как выносят столетнего старика, перестали стучать топорами и присели высоко на бревнах. Как на призрак, глядели они на человека, видевшего крепостное право и Кракусово восстание.[79] Домашние, ежедневно вертевшиеся около него, ежедневно слушавшие его рассказы и воркотню, теперь торжественно обступили его, как зеленая поросль обступает корявый древний пень. Ребятишки, дети его внуков, шептали что-то, нагибаясь к здоровому уху старика, совали ему в руки щепки и колышки.
Умирающий Урнас видел перед собой что-то большое, золотистое, как поле спелой пшеницы, — это был новый дом.
Старик и не заметил, как домашние понемногу разошлись по своим делам, и продолжал свой рассказ о том, как строили дома в старину.
Топоры плотников опять застучали по дереву, дети разбежались, а Урнас сам себе рассказывал, как прежде, бывало, для нового дома обязательно нужно было выбрать счастливое место. Для этого созывали стариков со всей деревни и выспрашивали у них, что они знают или слыхали про то или другое место.
Теперешних длинных пил тогда и в помине не было: доски раскалывали, а потом обтесывали. Под основание нового дома сыпали зерно и деньги, чтобы дом был гостеприимен и богат.
Летнее солнце, большое и раскаленное, все выше подымалось по иссиня-пепельному небу. Оно прогрело кости столетнего старика, Урнасу стало хорошо и покойно. Устав от своего рассказа, он умолк. Из-под пил мастеров сыпались опилки, и ветер, словно весенней пыльцой, покрывал ими постель старика.
Был ли это сон, видения столетнего старика или воспоминания? Все это предстало перед Урнасом с такой отчетливостью, что связь, только что соединявшая его с новым домом, с детьми, внуками и работниками, мгновенно исчезла, ему казалось, что он косит рожь. День душный. На западе начинает хмуриться. Управитель скачет от одной полосы к другой и торопит рабочих.
В полдень, еще до того как начали собираться тучи, стало гаснуть солнце. Оно гасло, как лампа, свет его мерк, поля потемнели. Внезапно наступила ночь. Скотина перестала пастись, умолкло птичье пение. Испуганные батраки побросали косы и начали молиться вслух. Урнас позже слышал рассказ кузнеца из имения о том, как он в тот день видел большущую летучую мышь, летевшую с севера и закрывшую крыльями солнце.
Тот год был дождливый, невеселый. Осенью рано начались заморозки, в поле погнили яровые, картошка. А на следующее лето сильные дожди размыли землю, и поля превратились в болото с торчащими из-под воды стеблями ржи. Уже в середине лета крепостные питались кореньями и хлебом из мякины. Граф держал закрома на замке, выдавая каждой семье только по горсточке ржи на неделю. Люди падали, как мухи, а оставшиеся в живых уходили в дальние места искать пропитания. Слуги графа верхом на лошадях догоняли беглецов. Ночью их травили собаками и хлестали плетьми.
И еще вспомнил Урнас: везет он муку панне Блажевичувне. Эта панна была так хороша собой, что дворовые, увидя ее, краснели, как дети. Вдвоем с графом она ездила верхом на Шлейковую гору смотреть на заход солнца. С той горы видно было озеро, куда барин велел напустить золотых рыбок, и те рыбки блестели по вечерам, но ловить их было строго запрещено. Панна Блажевичувна сидела в седле, откинувшись, словно в кресле, и перебросив ноги на одну сторону. Все это — лошадь, седло и дом с башней — граф подарил ей по своей большой милости, хотя она была из простых.
Велит, бывало, барин зарезать десяток индюшек и посылает панне Блажевичувне; нарвет самых лучших яблок и слив и отправляет целый воз панне. И зачем было посылать ей такое множество всего этого добра, никому было невдомек.
Везет как-то раз Урнас панне Блажевичувне целый воз, груженный мешками с мукой. Рядом сидит управитель с ружьем в руках и зевает по сторонам.
Увидел он вдруг ворону и — паф! — шутки ради выстрелил.
Лошади испугались, понесли, воз опрокинулся, управитель — наземь, а мешки на него. Колесо сломалось. А дом Блажевичувны на самой горе. Поднялся управитель, стряхнул с себя пыль, велит Урнасу снести муку панне на гору. Дотащил Урнас один мешок, вернулся, берет другой, третий и чувствует, что у него в груди точно отрывается что-то, а во рту солоно от крови. Зашел он в кладовую, вытерся украдкой рукавом, а на рукаве — розовые пятна. Управляющий заметил, как он вышел из кладовой, и тут же набросился на Урнаса:
— Ах ты вор! Успел уж варенья у панны Блажевичувны попробовать? Забираешься в кладовую и варенье лижешь?
Перетаскал Урнас все мешки до последнего и выпряг из сломанной телеги лошадей. Управляющий сам поехал верхом, а Урнасу велит его пешком догонять. Вернувшись в имение, управляющий ведет его к графу и рассказывает все как было, а граф выслушал его и засмеялся:
— Добро! Коли уж он так любит варенье, женю его на Уогенайте.
Уогенайте была хромая и рябая девка да еще вдобавок глуховатая. Женили на ней Урнаса, но пожаловаться на эту женщину он не мог; хоть была она «красавица, что лошади пугаются», как люди говорят, да зато терпеливая и работящая. Один за другим посыпались у них дети, некуда их было класть, не во что было одеть. Чуть подрастут они, бывало, сразу приходилось выталкивать их из дому зарабатывать хлеб.
Вторая жена Урнаса была худая, высокая, как жердь, но песенница несравненная. Не кончив песни, она, бывало, вдруг примется плакать, потом снова запоет и снова заплачет. При песеннице семья его пополнилась еще пятью ртами, но и эту жену пережил Урнас.
Много близких и дорогих людей похоронил он на своем веку. Временами ему казалось, что всю свою жизнь он только и делал, что шел за гробом жен, потом — детей и внуков. Умирали они, многих он сейчас и в лицо не вспомнит, а род от его ствола все множился и множился.
А сколько их погубил голод, войны, сколько их баре засекли! Сколько раз Урнас сам был бит… Если бы теперь он получил за каждый удар по зерну ржи, громадное поле можно было бы засеять. Секли его веревками, плетьми, топтали сапогами, били нагайками, стегали по подошвам, по спине, выбивали зубы. Били его граф, управитель, священник, староста, жандармы… Били все, кто имел над ним власть. А кто в те времена не имел власти над простым человеком? Но Урнас все вытерпел, выстоял, как дуб, глубоко и крепко вросший корнями в землю.
Проплывали, и гасли, и вновь наплывали новые видения. Урнас вспомнил, как ловили рекрутов, как в деревне в первый раз появились железные вилы и как однажды утром верховой солдат проскакал по местечку и объявил о смерти царя. И сколько царей и вельмож было и пропало на веку Урнаса, а он все жил и жил. Все глубже и дальше, словно в дремучий лес, забирался он в прошлое. И уже не мог понять: прадедовские ли это сказки он слышит или видит вековой сон? Словно он здесь с незапамятных времен и даже забыл, когда был юным и как состарился, и ничто его не оторвет от земли: ни болезни, ни войны, ни бунты, ни чума. Да и кто он, мертвый или вечно живой, человек или могучее дерево?..
И вот уже перед Урнасом нет ни сел, ни засеянных полей, один-одинешенек стоит он в чистой воде реки и моет свое, словно илом покрытое тело. Только что корчевал и жег на просеке пни, готовя поле под свои посевы, теперь полощется в чистой воде; вспугнутые диким зверем олени бегут берегом, бросаются в реку и плывут, рассекая грудью воду. Только рога их — целый лес рогов — качаются над водой. Урнас радуется и кричит, и голос его гулко отдается в лесу.
И дальше видит старик: в звездную ночь он сторожит свою полоску от зверя. И приближается по лесу кто-то огромный и темный, а его тень широко стелется по земле.
Страх пронизал сердце Урнаса, дубина выпала у него из рук, и грудь с грудью он схватился с медведем врукопашную. Медведь горячо дышит ему в лицо и норовит переломить ему хребет, но Урнас вцепился в его пасть, напрягая все силы, и разорвал ее, словно расколол дерево клином. По всему бору расходится рев умирающего медведя, но, падая, зверь увлекает на землю и Урнаса. Урнас слышит, как все тише и тише хрипит зверь, и видит его темную кровь, окрасившую зелень посевов.
Устал Урнас, разгорячился и, отдыхая, лежит рядом со своей жертвой на мягкой зелени, и видит звезды в вышине, и слышит соловьиную трель.
Засыпает он, в изнеможении охватив руками свое зеленое поле, засыпает без сновидений, крепким, вечным сном.
1940
НИКОЛАЙ ТИХОНОВ
КАВАЛЬКАДА[80]
Я ездил изучать эйлаги — летние пастбища: меня очень интересовала жизнь чабанов. Вдосталь наговорившись с пастухами, наглядевшись на бесчисленные отары, до одури нанюхавшись дыма кочевых костров, искусанный блохами, которые неистребимо живут во всех кошмах пастушеских юрт, нагонявшись по пастбищам, я направился через высокогорные луга на север, чтобы отдохнуть после всех странствий в гостеприимной долине Самура.
Сначала я ехал в сопровождении только одного чабана, который вызвался проводить меня до ближайшего аула. Потом мы нагнали двух всадников и на следующий день ехали уже все вместе.
Один из всадников был плотный пожилой человек в очень вытертой шерстяной куртке, похожей на охотничью, с большими карманами. Фуражка его была надвинута на лоб. Вид он имел очень серьезный. Загорелый до черноты, с жесткими подстриженными усами, немногоречивый, он сидел в седле, как заправский горец.
Звали его Терентьев. Он работал ирригатором. Кавказ он изъездил вдоль и поперек. С таким спутником путешествовать не скучно.
Он может объяснить вам любое природное или бытовое явление, да еще с обязательным воспоминанием из собственного опыта. Правда, мы часто переходили на рысь, и рассказ невольно прерывался.
Рядом с ним скакал насмешливый молодой человек, которого он называл просто Сафар. Этот горец, отказавшийся от горской одежды, и променявший ее на пиджак и брюки, заправленные в высокие сапоги, за исключением случая, когда он заговорил о том, что ему не удалось стать металлургом, а пришлось стать зоотехником, — и тут лицо его потемнело и глаза сделались печальными, — повторяю, за исключением этого случая, был вполне жизнерадостный и очень хвастал своим белым в серых яблоках конем.
На одной стоянке к нам присоединился пятый спутник — усталый милиционер, обросший рыжей бородой. Он возвращался из командировки в зимние коши, куда ездил по делу о похищении лошади у одного колхозника. Дело с лошадью запуталось, к тому же он простудился, чувствовал себя неважно и, громко кашляя, изредка разражался проклятьями по адресу хитрого конокрада. В остальное время он курил папиросы и молча отгонял нагайкой слепней от громадной головы ужасно худого мерина, на котором ехал, погрузившись в свои милицейские раздумья.
Луга в этих местах, можно сказать, вознесены прямо к небу: так высоко они расположены. Трава на них разной величины. То она достигала всего нескольких вершков высоты; то она доходила до колен лошади; то вставала выше головы всадника, и, вытянув руку, вы не доставали до ее верха. Пахли эти луга необъяснимо хорошо, и жар горного солнца умерялся внезапными порывами ветерка со снежных вершин, стоявших неподалеку.
Через несколько часов пути мы перешли на хорошо убитую тропу, которая привела нас в долину, полную прелести. Мы пустили коней шагом среди зеленых ковров, разостланных до самого подножия каменных осыпей. Над ними поднимались желтые и красноватые скалы. Эти скалы были так изрезаны выступами самой необыкновенной формы, что смотреть на них доставляло какое-то мучительное удовольствие. Игра света и тени в их изломах каждую минуту создавала профили небывалых красавиц или уродов, неведомых зверей и великанов или просто ваших хороших знакомых. Все ваши мысли вы могли найти осуществленными в этой каменной комедии масок, передразнивающей ваше воображение самым насмешливым образом.
Можно было часами длить эту игру, и глаз не уставал — так разнообразны и естественны были эти смены. Легко очерченные в голубом небе красноватые камни теплого телесного топа сообщали возникающим призракам тревожную жизненность, будто здесь вы действительно приблизились к новой природе, такой, какую вы никогда не думали увидеть, и она была много сильнее и прекраснее той, к которой вы привыкли и к которой стали давно равнодушны.
Мягкие широкие тени узорно ложились на зеленые ковры трав и сбегали к обрывам лугов, где далеко внизу блестела речка, шум которой не долетал до нас.
Мною овладело какое-то тревожное и необъяснимое ощущение, сходное с тем, которое является в тот час, когда вы хватаете перо и начинаете непонятно зачем писать стихи.
Надо мной сиял голубой жаркий день, с высоким небом, со снежными вершинами, с необъятными далями, и в памяти неожиданно возник стих, не имеющий ко всему этому никакого отношения. Будто кто-то нашептывал мне в уши, как воспоминание, как напоминание о чем-то давнем:
Окончен труд дневных работ…
Окончен труд дневных работ…
Окончен труд дневных работ…[81]
Я повторял как одержимый без конца эту строку, безотчетно и бездумно бормотал этот стих. Лошадь моя шла шагом, помахивая гривой. В общем звоне стремян, скрипе седел и похрапывании коней явился мне еще один стих, никак не связанный с первым:
Вечерним выстрелам внимаю…
Никаких выстрелов слышно не было. Все было тихо в этой дружеской долине, все было мирно, и только эти две строки, как будто прилетевшие из глубины скал или рожденные блеском далекой реки и одуряющим запахом лугов, звучали в моей голове.
Я не мог вспомнить ни того, чьи эти строки, ни того, какая связь между ними. Мне хотелось движения яростного, захватывающего дух. Я ударил коня камчой, и он рванулся из кавалькады, выскочил вперед и, прижав уши, закусывая трензельные кольца, помчался галопом. Не успел я еще хватить хороший глоток воздуха и услышать своеобразный свист в ушах, сопутствующий галопу, как увидел храпящую морду с широко открытыми глазами. Это был конь Сафара.
Сафар мгновенно догнал меня, и теперь мы мчались, далеко оставив позади своих спутников. В такой скачке есть большая прелесть. Это веселое занятие. Надо сказать, что оно небезопасно, так как в траве горных лугов много камней, и неизвестно, что вас ждет за поворотом тропы. Один раз мы сорвались прямо в ручей, и, тяжело дыша, мой конь, ударив в меня столбом воды, перелетел на другой берег, и за ним посыпались камни; другой раз мы чуть не залетели в болото, но прекращать скачку не хотелось…
Я оглянулся. За нами скакали Терентьев и чабан, и даже старый конь милиционера, вспомнив былые времена, догонял нас изо всех сил. Горные лошади не терпят, когда перед ними скачут. Они обязательно бросаются в состязание, даже вопреки воле их наездников, и стоит большого труда их успокоить.
Так мы скакали, опьяняясь быстротой. Бока коней стали мокрыми и храп — тяжелым. Я скакал, слегка пригнувшись к шее коня и плотно прижав ноги к его жарким бокам, и передо мной, как нарисованные, летели строки, которые я шептал сухими губами: «Окончен труд дневных работ… вечерним выстрелам внимаю».
Они сливались с ритмом галопа и как будто даже ускоряли его. Причудливые скалы мелькали с правой стороны, то приближаясь к нам, то отдаляясь.
Наконец мы перевели лошадей на рысь, потом на шаг и несколько минут ехали молча. Кавалькада соединилась снова. Тревога, невесть откуда явившаяся, была как бы разогнана скачкой.
Терентьев, вытирая лоб большим синим платком, сказал с упреком:
— Зачем, скажите, такая скачка? Лошадей гоните зря… Было бы дело. А все ты, Сафар, — добавил он, по-видимому, из вежливости, так как не мог не видеть, что я первый затеял эту гонку.
Сафар плюнул, почесал камчой бок и засмеялся:
— Ты же старый, ты не азартный человек, что ты понимаешь?.. Зачем тебе скакать — ты практический человек…
— А ты — азиат, — сказал строго Терентьев.
— Знаешь, по-нашему, по-лезгински, что значит слово «азиат»? Азиат значит: трудно, а мы хотим легко жить. Эх, ударил, пошел. — И он шутя взмахнул камчой.
— В галопе, — сказал я примирительно, — есть сущая необходимость. И по-военному обязательно полагается на походе изредка переходить на галоп. Коням нужно встряхнуться, освежиться…
— Да, если бы так, — отвечал уклончиво Терентьев, — в армии кони другие.
Он заставил своего коня идти со мной рядом. И вдруг лукаво улыбнулся и показал мне куда-то в сторону, на срез одной горушки.
Тут луга спускались к речке террасами, и множество тонких тропинок пересекало их. Это были тропы, по которым стада спускались на водопой.
— Посмотрите вон туда, влево от большого камня, видите собаку?..
Я сложил щитком ладонь и огляделся. Действительно, я увидел собаку — типичную горскую овчарку, которая то подымалась свободно вверх по откосу, то ложилась на землю и ползла вдоль троны, ниже ее, то снова бежала стремительно вверх и снова ложилась на землю и лежала неподвижно.
— Почему это так? — спросил я.
— А теперь посмотрите выше и правей от камня, — сказал Терентьев. И там, куда он указывал, я увидел длинное серое пятно. Я разобрал, что это движется стадо. Впереди его шел, как полагается, козел, за ним семенили козы, за ними, тесня друг друга, катились серые клубки отары.
Посох пастуха раскачивался над нею. Псы бежали по сторонам, выше и ниже стада, отгоняя от обрыва овец; иные псы шли впереди, останавливались и нюхали воздух, пропускали мимо себя стадо и снова бежали вперед.
Теперь одинокая собака, оказавшаяся на пути отары, предпринимала очень сложные ходы для того, чтобы не попасться на глаза чужим псам.
Она заворачивала против ветра, отлеживалась за камнями и, высунув голову, следила за приближением врагов. Наконец, решив, что ее расчеты правильны до конца, она одним прыжком пересекла тропу перед носом у остановившихся в удивлении псов и взобралась на следующий пригорок раньше, чем они успели броситься ей наперерез.
Они подняли отчаянный лай, вой и визг, но собака уже шла, потряхивая хвостом, и даже не оглядывалась.
— Видели? — сказал Терентьев. — Она ходила пить в одиночку. Попадись она этим собакам чужого стада — клочьев бы от нее не осталось. А занимательно, как она шла, правда? Иные из этих псов один на одни на волка ходят. Раз меня чуть с лошади не стащили, насилу отбился. — Он помолчал и без всякого перехода сказал: — Здесь, в горах, многое еще во власти инстинкта. Меняют горцы одежду на городскую, кинжал перестают носить, — уж очень глуп при пиджаке кинжал, а у них врожденное чувство вкуса, — так они к пиджаку финский ножик приобретают…
Я слушал его очень рассеянно, припоминая, чьи же это строчки: «Вечерним выстрелам внимаю… окончен труд дневных работ…» Всадники говорили по-лезгински. Чабан хохотал, откидываясь в седле. Сафар самодовольно усмехался, и даже на лице милиционера мелькнула тень оживления.
Я слышал какое-то имя, повторявшееся чабаном, после которого все смеялись. Мне послышалось, как будто говорили: «Айше, Айше», — но я не был уверен.
— Возьмите Сафара, — говорил Терентьев, затягиваясь махоркой из глиняной трубочки с вишневым мундштуком, — порывистый молодой человек, в два счета шею сломает, недосмотри за ним, я его с юности знаю… Я ведь тут все горы облазил…
Но я перебил его, спросив: кто это Айше, о ком они говорят? Он посмотрел на меня несколько удивленно и, прислушавшись к общему разговору, сказал:
— Чабан издевается над Сафаром, что в ауле, куда мы едем, есть девица одна, Айше, — сохнет по Сафару, за других не идет, ни с кем не гуляет; а ему мать какую-то косоглазую невесту подсватала в Мискинджи, а он гуляет, как дикий козел, где вздумается. Так они про него рассказывают анекдоты, самые, извиняюсь непереводимые…
День уже склонялся к вечеру, когда мы подъехали к большому аулу, где должны были ночевать. Но погода, вообще капризная в горах, испортилась так неожиданно, что вместо аула мы увидели огромное серое облако, закрывшее все дома плотной серой завесой. Ничего нельзя было разобрать, и мы двигались, как в молоке.
Из облака то там, то тут выступали столбы, поддерживавшие галереи у дома, кусок крыши, каменная ограда и снова растворялись бесследно.
— Я тут заеду к одному человеку, — сказал Терентьев, — а встретимся мы в школе; там, вероятно, и переночуем.
Мы разъехались. Я остался с Сафаром, а Терентьев, чабан и милиционер отправились в гору другой уличкой.
Лошади наши шли, опустив морды, обнюхивая землю, прежде чем поставить ногу. Временами туман разносило, и я раз увидел ниже нас, на площадке, у сваленных бревен, странное существо. На голове его был платок, падавший лохматым концом ниже пояса, на плечах — что-то вроде жилетки, на ногах — суживавшиеся книзу штаны, вроде зимних красноармейских; ватных. Существо затягивалось из тонкого и длинного чубука, чуть не касавшегося земли.
— Что это такое? — спросил я Сафара, показывая ему на это зрелище.
Сафар повернул голову и сказал:
— Это баба. Все бабы здесь так ходят. Удобнее, знаешь. Тут всегда холодно, климат такой неподходящий…
Туман нашел на нас новой волной. Он был холодный, липкий и очень противный. Лошади подымались все выше в гору. Мы двигались по узким уличкам, и надо было держаться настороже, опасаясь выступов, арок и низких балконов, чтобы не разбить себе невзначай голову.
Наконец мы вышли на какую-то широкую площадку, и тут порыв ветра раздернул, как занавес, туман перед нами, и я невольно остановил своего коня, набрав повод на себя. То же сделал и Сафар.
Передо мной, опираясь на перила галереи, обходившей дом, стояла девушка. И если бы действие происходило не в горах, я ничуть не удивился бы. Но здесь, среди тумана, в ауле, лежащем далеко в стороне от городских мест, у самых ледников, за облаками, стояла на балконе и смотрела на нас в упор очень тонкая девушка и такой странной прелести, что я невольно засмотрелся. Она стояла так близко от меня, что я мог, протянув камчу, достать до ее ноги.
У девушки было бледное, прозрачное, совсем не загоревшее лицо, легкие, слегка нахмуренные брови, тонкие губы, глаза с каким-то небрежным и вместе с тем повелительным выражением. Она представляла такой контраст с окружающим, что вместо всяких слов я глупо пробормотал что-то невнятное.
На ней было серое простенькое платье, пуховый платок на плечах. Неширокий коричневый пояс. Дешевые туфли на низком каблуке.
Наконец я справился со своей растерянностью.
— Вот так красавица! — сказал я. — Откуда вы сюда попали?
Девушка без всякой теплоты в голосе насмешливо сказала:
— Взяла и приехала.
— Откуда же вы приехали?
— Отсюда не видно.
— А как вас зовут?
— Зачем вам знать, как меня зовут? Вам знать мое имя не надо…
— И вы поселились тут жить?
— А что в этом такого? Тут холодно, а я холод люблю, я сама холодная.
— А вы знаете, какие здесь зимы? Все уходят вниз в Азербайджан, а здесь все снег заваливает, только старики да дети сидят под снегом, да женщины ковры ткут. Никуда до весны не выйти…
Она вдруг улыбнулась, отчего румянец пошел по лицу, глаза ее засмеялись, и она сказала:
— А мне все равно. Люди живут, и мы жить будем…
— А что вы тут делаете?
Лицо ее помрачнело, и она ответила почти сердито:
— Ничего. С мужем сплю.
— Ну, я вижу, у вас и язычок!
— С каким родилась, такой и есть. Чего вы остановились? Не вас встречать вышла. Проезжайте на здоровье…
— А как нам проехать к школе?
— К школе как проехать? — Она повернулась, и я, следуя движению ее руки, тоже повернул коня и взглянул на Сафара. Насупившись, не отрываясь, смотрел он на нашу незнакомку, как будто ничего не осталось в нем больше от веселого и самодовольного Сафара. Она, не удостаивая его взглядом, показала вверх по улице: — Туда поезжайте, там каменный забор будет, потом выше, направо, там и школа…
Я стегнул камчой Сафарова коня, и тот, вздрогнув, шагнул вперед. Девушка громко засмеялась, и Сафар точно проснулся. Он поправил фуражку, нахлобучил ее на голову и дал такой удар нагайкой, что его белый в яблоках конь взвился на дыбы. В тумане поехали мы дальше, и я только запомнил отчетливо дом девушки и галерею с резными столбиками.
В школе было пусто и холодно. В одном классе, где парты были сложены грудой, на полу сидели, поджав ноги, закутавшись в тонкие фланелевые одеяла, две девушки, и какой-то худощавый юноша в ковбойке разжигал примус, пускавший струйки синего дыма.
Перед ним стояла молча высокая худая горянка в таком точно костюме, какой я уже видел на странном существе при въезде в аул. Теперь я рассмотрел этот костюм внимательно, и он мне даже поправился. Да, это были зеленые ватные стеганые красноармейские штаны, на ногах мужские тяжелые черные ботинки, белая рубашка была покрыта синей бархатной жилеткой, которую украшал целый клад крупных старых серебряных монет, среди которых я увидел даже монету с профилем Стефана Батория. Был и платок, перехваченный поясом, с лохматым концом. Только она не держала чубука в руках и ничего не говорила, так как все равно мы бы ее не поняли.
Она равнодушно смотрела на девушек, ежившихся от холода под тонкими одеялами, на юношу, тщетно пытавшегося вызвать к жизни примус. Мне она показалась бронзовой статуей молчания, которую ничто не может оживить.
Не тут-то было. Едва она увидела Сафара, как ее бронзовое лицо вспыхнуло, глаза раскрылись, она взмахнула руками и побежала к нему. Она взяла его за руку, говоря много слов зараз и, по-видимому, самых трогательных. Но он строго отвел ее руку, почти оттолкнул ее небрежным и обидным движением.
Увидя его нахмуренный лоб и угрюмые глаза, она сказала что-то жалобное, вздрогнула и отошла к окну. Она отвернулась от нас и стояла так, вздрагивая плечами, лицом к туману, который уже совершенно обволок весь аул плотней прежнего.
— Вы альпинисты? — спросил я у юноши, бросившего примус и вытиравшего руки о тряпку.
Девушки, щелкая зубами от холода, засмеялись:
— Мы все, что хотите. Мы же геологи. Сегодня нам на леднике досталось — до сих пор согреться не можем. В снег попали…
— Вы все здесь?
— Нет, Мишка с Юрой остались на другом участке. Если до ночи не придут, пойдем их отыскивать.
— Тут очень трудно искать? — спросил я.
— Да нет, просто очень холодно, прямо как-то беспросветно холодно. И примус, паршивый, испортился. Мы спрашивали у нее, — они показали на спину горянки, — где бы нам хоть бурку достать, да она ни слова по-русски не понимает.
Тут в школу с шумом ввалился Терентьев, чабан и какой-то неизвестный мне горец. Терентьев называл его Ахметом.
— Слушайте, — обратился я к Терентьеву, — вы тут свой человек. Что же молодым людям мерзнуть зря. Схлопочите им кошму или бурку…
Терентьев сказал что-то Ахмету по-лезгински, и тот позвал:
— Айше!
Айше повернулась от окна, сложив руки на груди, выслушала Ахмета и, ни слова не говоря, ни на кого не взглянув, вышла из комнаты.
Терентьев мне перевел, что Ахмет велел ей принести что-нибудь для геологов. Потом он подсел к примусу, поковырял в нем иголкой, пошатал, и вдруг примус загудел и заработал, как новый.
— Я все умею, — сказал он весело, — меня эти штуки боятся. Сколько примусов я на ноги поставил — не сосчитать…
Появилась Айше, волоча две бурки и серую кошму. Девчонки издали крик победы и бросились к буркам.
Когда они встали, они оказались невысокими, стройными и быстрыми. На примусе уже стоял чайник с черным носиком, в комнате стало чуть уютнее, хотя это только казалось.
На самом деле у меня было такое ощущение, что сейчас повалит снег: такой холод и белая тьма стояли за окном.
— Ну, мы пойдем к Ахмету, — сказал Терентьев. — Вы, ребята, если что надо, меня там разыщете. Айше, обрадовалась, что Сафар приехал? — спросил он неожиданно бронзовую девушку, снова ставшую, как часовой, у окна.
Он повторил свой вопрос по-лезгински. Айше сжала губы, взглянула на него длинным и печальным взглядом и ушла на улицу.
— Вот тебе и раз, — сказал Терентьев, разведя руками, — мы-то ей гостя привезли, а она и поворот от ворот. Что ты такое наделал Сафар, чем провинился? Батюшки, да он и в самом деле мрачен! Он не в духе, и она не в духе. Вот тебе горе луковое… Ничего, пройдет… Это бывает.
Сафар отрывисто ответил по-лезгински, и все трое засмеялись. Я понял, что он отшутился, как всегда, грубой и соленой шуткой.
Мы вышли из школы. Мальчишки вели за нами наших коней в поводу. Мы поднялись по каким-то уличкам, еще почти не видя ничего в бурой мгле. Терентьев все время говорил мне:
— Смотрите под ноги, тут черт-те чего нет…
— Товарищ Терентьев, кто это тут девушка русская в ауле? Мы встретили ее при въезде.
— Русская, — сказал он, — да это же геологички. Вы про них, что ли, спрашиваете?
— Да нет, на балконе стояла, в платье в сером, в платке, приезжая.
— А! Это приехал бухгалтер недавно в ковровую артель сюда. За длинным рублем погнался. Ну, трудновато ему тут будет. Это, наверно, его женка. Других не знаю. А что, смазлива?
— Да как вам сказать? По-моему, удивительно хороша.
— Ого-о! — сказал он протяжно. — Ну, если так, то горя хлебнет, а то просто смоется в Ахты. Тут не так далеко… А что такое с Сафаром? — спросил он, но тут я некстати споткнулся и сильно ушиб ногу. — Осторожней, пожалуйста, а то еще себя покалечите. Пожалуйста, смотрите под ноги. Ишь какая тьма кромешная. Так вот иногда по целой неделе такая дрянь стоит. Местечко, надо вам сказать, зловредное, да зато луга у него благословенные. Десятки тысяч овец у колхоза. Так чего это Сафар присмирел?
— Не знаю, — ответил я, — о невесте, наверно, задумался…
— О невесте? — сказал Терентьев. — К невесте его, наверно, на аркане будут тащить… Он хоть мать и слушается, тут у них матриархат еще действует, но уже не настолько. Девки у него на уме, это верно.
Стало совсем темно, когда мы добрались до ахметовского дома. Сказать, большой ли это дом, я бы ни за что не смог, так как совершенно ничего не видел из-за тумана, кроме ступенек лестницы, ведущей в галерею. Мы поднялись со всяческими предосторожностями и прошли в комнату, по размерам которой можно уже было судить о том, как дом велик. Тут я, сознаюсь, лег на кошму и уснул. Спал я недолго. Меня вежливо разбудил Терентьев.
— Для сна ночь будет, — сказал он, — а сейчас мы будем великий хинкал вкушать. Вставайте…
Я уже знал по опыту это блюдо и только спросил:
— Кукурузные бомбы с кулак величиной или больше?
— А вот сейчас увидите, — отвечал Терентьев, и мы прошли в комнату еще больше той, в которой я спал кратким сном.
Это была типичная кунацкая. По стенам висели старинные блюда и тарелки, кое-какое оружие, два плаката по молочному хозяйству, олеография, изображающая Сусанну и старцев, и в углу, под стеклом, громадный набор открыток с раскрашенными картинками и портретами, на которые я сначала не обратил внимания.
В почетном углу отдельно висели небольшие портреты вождей. Я подошел к окну, выходившему на галерею, довольно высокую, но за окном был все тот же бесконечный, удручающий сумрак, уже переходящий во мрак ночи.
Я перешел через комнату и стал рассматривать открытки. Горцы очень любят вешать в кунацкой такие открытки, семейные фотографии, плакаты, снимки с картин, олеографии, лубочные картинки.
Тут было множество видов города, моря, гор. Были женские головки дореволюционного оформления, много портретов неизвестных лиц, среди них попадались знакомые писатели, композиторы, военные. Я не мог понять, что объединило их под этим стеклом, но Ахмет, говоривший немного по-русски, сказал, тронув меня за плечо:
— Это все красивый человек.
Я понял, что «это все красивый человек» есть определение, по которому все эти открытки отобраны, что это личный вкус хозяина. И тут я увидел открытку с портретом Лермонтова. Почему-то, как только Ахмет сказал «красивый человек», мне сразу бросился в глаза Лермонтов, и тут же дрожь пробежала по моей спине. Да ведь строки, жившие во мне целый день: «Вечерним выстрелам внимаю… окончен труд дневных работ», — это же из стихотворения Лермонтова. Ну конечно же. И я стал вспоминать все стихотворение, но тут внесли еду и попросили сесть на ковер.
Мы расположились на ковре посреди комнаты, в которой еще оставалось достаточно места. Тут сидели Терентьев, в расстегнутой куртке, похожий на старого военного времен кавказской войны, Сафар, все еще хмурый и какой-то потерянный, родственники хозяина — горцы средних лет, мой проводник-чабан и еще один русский, веснушчатый человек неопределенных лет, вялый в движениях и небритый.
Его горцы называли просто Степаном и относились к нему безразлично.
— Кто это? — спросил я тихо Терентьева.
— Это и есть тот бухгалтер, что в ковровую артель капитал сколачивать приехал. Глядишь, уже обжился. На хинкал-то как уставился, а может, на водку, — добавил он добродушно.
Мы взялись за хинкал. Кто не знает, что такое хинкал, объяснить нетрудно, но всякое объяснение не будет точным, потому что вид этого кушанья меняется от того, где вы его едите. В Хевсуретии он одного вида, в Аварии — другого, в Лезгии — третьего. То, что мы ели, была чесночная густая похлебка, вернее — соус, в который мы окунали мелко нарезанные куски баранины, запивая бараньим бульоном и закусывая, небольшими бомбочками из кукурузной муки. Величина этих бомбочек в разных местностях меняется от величины грецкого ореха до величины доброго кулака, и если вы можете еще есть их в горячем виде, то в холодном их не одолеет и самый неприхотливый европейский желудок.
Чесночная похлебка густа, горяча и остра. Водка была подана в большом количестве, и ее пили стаканами за неимением другой посуды.
Но горцы очень крепкие люди, и водка не производит большого впечатления на их железные натуры. Женщины дома только принесли все и скромно удалились, чтобы не мешать мужскому ужину.
Обряд поглощения хинкала протекал вполне торжественно. Все чавкали и вытирали руки о полотенце, положенное на ковер. Ели руками. Говорили медленно, по-русски и по-лезгински. Час был такой, что никому никуда не надо было торопиться.
Искусство тостов, там, за хребтом, достигшее у грузин высоты непостижимой, здесь не принято, и тосты были серьезные и краткие, шутливые и грубые, но все простые и несложные.
Потом водка возымела некоторое действие на сердца собеседников, и они начали рассказывать и вспоминать друг про друга самые смешные истории.
Я же потихоньку вспоминал лермонтовские стихи, и водка как будто прояснила мою память, забитую впечатлениями от пастбищ и пастухов. Через час я вспомнил одну строфу, но, хоть убей, не мог припомнить остального.
Мужчины уже галдели, и грохотали какие-то народные анекдоты, как дверь на галерею распахнулась, и вошла та самая женщина в платке, которая ошеломила нас с Сафаром.
К этому времени на крючок в кунацкой повесили керосиновую лампу, и в ее свете женщина стояла в дверях, как видение из другого мира. Вместе с ней в комнату проникли клочья густого облака, и казалось — она явилась, окруженная светящимися парами, так как эти клочья поблескивали красноватыми иголочками, попадая в свет лампы.
Она остановилась, сверху вниз оглядывая присутствующих. Теперь на ней была вязаная синяя кофточка и белая юбка. Ахмет сказал:
— Здравствуй, Наташ.
«Так ее зовут Наташей, вот что». Я ей крикнул тоже.
— Наташа, садитесь, мы уже знакомы, идите к нам, посидите…
Но она смотрела на мужа, сидевшего с растрепанными жидкими волосами, без пиджака; по рукам его текли струйки жира; он держал стакан с водкой и прихлебывал из него водку, как чай.
Наташа сказала раздраженным голосом:
— Иди домой, загостишься тут до утра. Заснешь потом в канаве.
Степан посмотрел на нее хладнокровно, отхлебнул из стакана, взял кукурузную бомбочку, размял ее и, медленно жуя, сказал:
— Что мне делать дома? Надоело мне там по горло.
Она ничего не ответила и повернулась к двери, но тут Ахмет, легкий и быстрый, несмотря на суровую и тяжелую фигуру, вскочил с ковра, взял ее самым любезным образом за руку и сказал от всего сердца:
— Наташ, не сердись, садись с нами. Пей на здоровье, садись, пожалуйста.
И она села на край ковра, подогнув ноги, как сидят горянки. Она взяла стакан, налила в него водки наполовину, взяла бутылку вишневого сока, которым мы не пользовались, и подкрасила водку. Потом одним духом выпила, и глаза ее встретились с неподвижными, как у лунатика, глазами Сафара. Что-то вроде улыбки пробежало по ее губам, она взяла кукурузную бомбу, храбро обмакнула ее в чесночную похлебку.
Тут горцы запели старую лезгинскую песню. Они пели, раскачиваясь, как в седлах, и я, ничего не понимая в словах, в ритме этой песни, тягучей, печальной и тонкозвонкой, живо представил себе эти ущелья, где вихрятся реки, где летят обвалы, где пробирались всадники в набег, где они сражались и умирали.
Песня была прекрасная. Терентьев пересказал ее мне своими словами. Я почти угадал все, кроме смерти в бою. Горец, о котором пелось, не мог найти смерти, как ни искал. Он был кем-то заворожен.
За этой песней пелись другие, шуточные, потом снова пили и нескладно разговаривали.
— Наташа, — сказал я, — спойте вы что-нибудь наше, русское.
— Я не пою, — сказала она просто и тихо, — правда, правда, я не умею ломаться. У меня голос неудачливый. Вот вы, может, споете…
И она так улыбнулась, что я совершил необыкновенное. Я сказал:
— Хорошо, только я спою стихи.
Горцы дружно выразили удовольствие, и я спел им ту строфу лермонтовского стихотворения, что терзала меня весь день мучительной тревогой.
Я спел ее страшным, отчаянным голосом, охрипшим от ночлегов среди дыма кошей и водки. Я не спел — это неверно, я прохрипел эту строфу, и мне казалось, что все содержание этого сумбурного и замечательного горного дня входит в эти строки, совершенно не соответствовавшие ни месту, ни времени. Я пел, как романс, повторяя каждые третью и четвертую строку по два раза:
Окончен труд дневных работ,
Я часто о тебе мечтаю,
Бродя вблизи пустынных вод,
Вечерним выстрелам внимаю.
И между тем как чередой
Глушит волнами их седыми,
Я плачу, я томим тоской,
Я умереть желаю с ними.
Я кончил, закрыв глаза. Вероятно, я был дико смешон. Я ждал взрыва хохота. Никто не смеялся.
— Тоже хорошая песня, — сказал Ахмет вежливо, и горцы выпили мое здоровье.
Наташа смотрела на ковер, как будто шла глазами по его прихотливым узорам. Тогда с места сорвался Сафар и пошел какой-то, как мне показалось, пьяной походкой в дальний угол комнаты.
Но эти колеблющиеся шаги были вступлением в лезгинку, крадущимися, гибкими движениями вступающего в танец. Он вдруг выпрямился, как подброшенный пружиной, и пошел по кругу таким, каким я никогда не мог бы его вообразить, так не похож был этот красивый сильный человек на будничного и ограниченного юношу, каким он казался мне весь день.
Он танцевал так, как будто никто до него никогда не танцевал лезгинки, и он танцевал так, как будто это были его тайные мысли. Это не были движения человека, пляшущего для того, чтобы позабавить окружающих, это не были движения искушенного танцора, поражающего своим искусством, это была пляска древнего горца, который говорит танцем то, чего не может сказать никакими словами.
Горцы причмокивали от волнения и удовольствия, их ладони отбивали такт, взлетая, как медные блюдечки.
Сафар проносился так легко и осторожно, что даже лампа не дрожала, когда он перебирал под ней ногами. Может быть, я выпил лишнее, но этот танец захватил меня всего. Пока Сафар разговаривал ногами, никто не сводил с него глаз. Так мы и не видели, когда встала Наташа — в начале ли танца или уже когда он неистовствовал в конечных поворотах. Но когда Сафар резко остановился, переводя дыхание, и протянул руку к двери, мы увидели, что Наташа уже взялась за ручку.
В наступившей тишине она тихо сказала:
— Здесь душно очень.
Но она не ушла. Она стояла против Сафара, и пальцы ее сжимали ручку, как будто она хотела сломать ее.
— Наташ, — сказал Сафар, делая к ней шаг, — танцуй со мной. Всю жизнь буду помнить…
Наташа взглянула почему-то в окно и сказала резко:
— Не умею. Лучше уж я тебя нашему обучу.
— Давай, — закричал Сафар.
— Не сейчас же. Ты шальной какой-то. Как в реку прыгаешь — смотри, захлебнешься…
В комнату вошло облако и закрыло Наташу. Сафар бросился в туман, но по стуку двери мы поняли, что Наташа ушла.
Куски облака медленно расплывались по комнате. Горцы снова запели что-то унылое, такое, что у меня мороз пошел по коже. Сафар налил стакан водки и выпил ее, как воду.
Не знаю, сколько времени прошло; я курил трубку и смотрел, как менялись лица в освещении лампы. Вдруг все мне стали казаться тихими, добрыми и комната — страшно уютной, теплой и дружеской.
Сафар встал и вышел на галерею. И следом за ним быстрыми шагами вышел Терентьев.
«Тут-то и начинается самое интересное», — подумал я. Горцы курили папиросы, и Степан сидел, прислонившись к стене. Лоб его белел, как бумага, на фоне красно-черной кошмы. Капельки пота блестели на висках. Я подошел к окну рядом с дверью. Терентьев и Сафар громко, как будто они были одни во всем ауле, говорили, перебивая друг друга.
Они говорили, прохаживаясь по галерее. Слова их то удалялись, то приближались, и я не слышал всего разговора. До меня долетали отдельные фразы.
— Ты сейчас уедешь, — говорил Терентьев, — я твоему покойному отцу обещал смотреть за тобой… — Потом было несколько неясно слышимых фраз, и я скоро услышал:
— Ты все такой же… А мать, а невеста в Мискинджи?..
И он перешел на лезгинский.
Сафар горячо возражал, и потом поток его гортанных слов вдруг сменился русской бранью, и он сказал:
— Плевал я на невесту…
Они остановились у люка лестницы, и Терентьев упрямо повторил скучным, тяжелым голосом:
— Ты уедешь сейчас же, я тебе поседлаю сам. Конь тут, во дворе. Ты уедешь…
Тогда, после ледяной паузы, Сафар сказал так умоляюще, что мне стало страшно:
— Валлаги. Я не могу уехать от этой женщины. Я умру — я не могу уехать от этой женщины.
И он перешел опять на лезгинский.
Терентьев помолчал и потом заговорил, и голос его звучал глухо и удаляясь. Возможно, что он говорил Сафару, уже спускаясь сзади него по лестнице. Больше ничего я уже разобрать не мог.
Я посмотрел в окно. Не понимая почему, я теперь ясно видел двор в каком-то зеленом свете, как будто действие происходило на морском дне. Слышался звон уздечек и стремян. Они седлали лошадь вдвоем.
Потом по камням раздался лязг, тень всадника пересекла двор, и стук стал далеким. «Неужели они уехали оба?» — подумал я, но тут дверь открылась, и в комнату, по которой кружились завитки дыма, вошел Терентьев.
Он подошел ко мне, не обращая внимания на горцев. Один из них дремал, другой что-то шепотом рассказывал Ахмету. Чабан пробовал прочесть какую-то бумажку, которую он то и дело подымал над головой, чтобы разглядеть написанное при свете коптившей нестерпимо лампы.
От Терентьева пахло водкой и махоркой. Его голубые глаза смотрели умно и пренебрежительно, как будто он хотел внушить мне, что он все в жизни знает, все видел и ничему больше не удивляется.
— Вот дюшюш! — сказал он и, видя мое недоумевающее лицо, поспешил прибавить: — Да, я забыл, что вы не знаете здешнего языка. Я говорю: вот так приключение… — Он помолчал. — Ну, я от греха подальше его отправил. Пусть поскачет, тропы там плохие — авось охладится. А вы что думаете? — Он начал говорить, как бы убеждая меня, хотя я ему никак не возражал. — Он хороший, я его очень люблю, неудачник только, — хотел быть металлургом, получился средний зоотехник. Пить ему не надо. А та, вы правы, — она чертовка. Были когда-то и мы рысаками. Молодость, я вам скажу… В такую ночь я…
Он махнул рукой и пошел от меня, перешагнул через ноги спящего чабана и стал поправлять фитиль у лампы.
Я осмотрел остатки пира. На скатерти, разостланной на ковре, валялись полуразрушенные кукурузные катыши, куски мяса, лежали на боку стаканы. Я прошел к стене, где под стеклом был тускло виден красный доломан гусарского поручика.
Я посмотрел на эти шнуры и на резко раскрашенные черты лица. «Красивый человек», — сказал о нем горец. Мне стало не по себе в этой комнате. Тревога, вспыхивавшая во мне весь день, как незатухающие угли пастушеского костра, разразилась припадком одиночества. Я не хотел никого видеть. Я решительно открыл дверь и вышел на галерею.
Никакого тумана не было и в помине. Аул был залит зеленым лунным потоком. Прямо передо мной, точно опускаясь в соседний двор, висел гигантский ледник, Аул уходил вверх и вниз от меня множеством построек, как небольшой Вавилон. Каждый камешек на дворе можно было рассмотреть. В углу двора, под навесом, сонно вздыхали лошади.
Белые звезды усеяли бездонное небо. Розовые днем стены необъятной пирамиды, стоявшей с другой стороны над аулом, сейчас излучали слабое зеленое сияние. Фирн[82] на вершине горел поражающей белизной.
Я весь подпал очарованию этой ночи. Медленно спустился по старой скрипучей лестнице во двор и вышел за ворота.
Я тихо шел узкими пустынными уличками, под безмолвными галереями, мимо старых каменных оград и полуразрушенных стен. Где-то начали тявкать собаки, и, перерезая мне дорогу, ниже меня прошла группа людей, сгибавшихся под тяжестью мешков. Я догадался: это были геологи, которые нашли своих товарищей и возвращались все вместе в аул. Я слышал их усталые голоса и тяжелые шаги. Я подождал, пока они не скрылись, и снова наступила тишина.
В этой тишине холодной ночи я брел, как путник, который хочет остаться наедине с ночью, и ничего другого ему не надо. Жизнь была где-то внизу, далеко, ниже этого селения, заброшенного к самой луне, к вечному льду и звездам. Я сел на камень и задумался, удивляясь простой строгости этого дикого уголка.
Мне начало казаться, что я живу сразу в нескольких эпохах. Вокруг меня лежали дома, похожие на вавилонские; там, в кунацкой, на старом лезгинском ковре сидят торцы в одеждах времен Шамиля и тихо разговаривают; внизу, в школе, укладываются спать молодые, крепкие юноши и девушки, которым нет дела до этих древних стен; по глухим тропам скачет Сафар, разгоняя свою тоску бешеным ночным галопом, дома сидит Наташа, заброшенная из далекого русского городка на самый край гор, и ждет своего пьянчугу-мужа, а он дохлебывает мокрыми губами невесть какой стакан водки, — и не от стыда ли за него спряталась она сюда, в эту глушь?
То, о чем я пишу сейчас, было лет десять назад, и я думал тогда, сидя на камне, что я вряд ли приду второй раз на этот камень в такую же беспощадную лунную ночь, чтобы снова пережить все, что дал мне смутный и тревожный день…
Окончен труд дневных работ…
Окончен труд дневных работ…
Там, на эйлагах, сторожевые собаки спят, положив голову повыше, на земляные бугорки, чтобы все слышать, что делается в ночи. И только бараны могут безнаказанно перебегать от одной отары к другой. И спят пастухи, завернувшись в кусок кошмы, и тлеют уголья в их посиневших кострах.
Мне стало холодно, и я встал с камня. Я пошел снова кружить по уличкам, по каменным лестницам, повторяя одно из знакомых мне лезгинских слов: иер — хорошо. Короткое, легкое звучание этого слова совпадало с холодной легкостью этой неповторимой ночи, иер.
Я взглянул на дом перед собой и узнал колонки галереи, покрытые резьбой, оставшейся у меня в памяти.
Это был дом Наташи. Галерея была пуста, я мог разглядеть все трещины на колонках; я вызвал в памяти снова ее такую, какая ошеломила нас с Сафаром.
Я стоял, как дурак, и рассматривал дом. Он был небольшой, старый, бедный. Все окна были закрыты ставнями. Почти черная тень лежала под галереей. Что-то звякнуло там. Я прислушался. Слабый звук повторился. Я подошел ближе и, всматриваясь в темноту, увидел привязанного к столбу коня.
Он показался мне знакомым. Я подошел вплотную. Это был конь Сафара. Белый в яблоках. И хурджины были его — те пестрые ахтинские хурджины, на которые я смотрел с такой завистью. Недалеко же уехал Сафар.
Мертвая тишина стояла вокруг. В этой тишине лунный свет, казалось, звучал слабым желтым звоном.
Я погладил коня по гриве, он покосился на меня и начал шумно нюхать руки — видимо, Сафар прикармливал его. Я пошел с площадки вверх, к себе домой. Внезапно я увидел женщину, сидевшую в полном оцепенении на камне и смотревшую куда-то на горы, на высокую пирамиду, на ее далекий светящийся ледничок.
Бронзовое лицо ее было неподвижно. Губы сжаты. Руки лежали на коленях, будто она прислушивалась к только ей слышному далекому шуму. Это была Айше. Она не пошевелилась при моем приближении. По ее бронзовым щекам катились слезы. Но она сидела неподвижно.
Я миновал ее, оглянулся еще раз на маленький дом, на коня и пошел быстрыми шагами. Я пришел, когда все горцы уже спали. Громко храпел Степан, даже ничем не закрывшись, заснул, как сидел, прислонившись к стене. Мне не хотелось будить Терентьева, спавшего богатырским сном. Я отыскал в углу свою короткую аварскую бурку, завернулся в нее и сразу уснул.
Май-июнь, 1941
Николай Тихонов. «Кавалькада».
Художник И. Пчелко.
ЭФФЕНДИ КАПИЕВ
ПЕСНЯ[83]
И песня созревает сама собой, как зреет яблоко. Поэт лишь срывает ее с ветви.
Поэт сидит под корявой грушей в саду, беседуя с гостями, перед ним полулежат на коврике прибывшие недавно из города корреспондент центральной газеты и студент-переводчик. Они разбирают записи песен (песни эти записаны под диктовку Сулеймана местным учителем в старую конторскую книгу). Сулейману в последние дни нездоровится, и он не смог приготовить к праздникам ничего нового.
В ауле безлюдно. Молодежь с утра ушла расчищать терновники на месте посадки нового сада. Будничный день! Ничем не замечательный день!..
— Ах, жаль, — говорит Сулейман хмуро, — надо б новую песню, у всех на языке она сегодня… Да вот не вышла!.. Дело поэта — такое дело: как река течет! Сегодня кипит и жернова вращает, завтра, обмелев, спит под мостом…
Гости, смеясь, благодарят Сулеймана. Они уже выбрали две его песни из тех, что в последние дни сложились «сами собой», и тут же приступают к переводу.
— Вполне достаточно! — говорит корреспондент. — Как раз праздничные. Хорошо!..
И Сулейман успокаивается. Поодаль на траве возле самовара возится старуха. Между ней и Сулейманом сидит худощавый мальчик — его младший сын. Перед гостями стынут на коврике стаканы чая, стоит кувшин с кислым молоком и тарелка яичницы.
Беседа окончена. Сулейман молча обдумывает про себя новости.
— Да-а, — бормочет он вслух, — значит, так дела, так дела, юноши: в иных государствах война, говорите… Вокруг да около… — Он поднимает голову и, щурясь смотрит вдаль. — Плохо, плохо!..
…Скоро полдень. Сад полон мерцающих желтых зайчиков. На лице Сулеймана дрожат отраженные блики солнца. Вдали, за оградой, то появляясь, то исчезая, маячит чья-то белая папаха. Сулейман задумывается.
— Музафир, — говорит он вдруг равнодушно, — все равно, сын мой, мне тут уже делать нечего. Вы переводите, а я пойду пройдусь…
— Ждать тебя здесь? — спрашивает сын, не глядя (он помогает гостям разбираться в записях).
— Ждать, — отвечает Сулейман, но, помедлив, нерешительно добавляет: — А если задержусь, когда кончите, отведи гостей на родник: пусть покупаются… Экая жара!
И, сказав так, нехотя уходит к той белой папахе, что маячит за оградой. Левая рука его лежит, как всегда, на груди, нащупывая карманчик. Глаза прищурены…
Подойдя к ограде, он останавливается, глядя перед собой.
Там, за оградой, на стыке двух садов, спиной к Сулейману возится человек, расчищая лопатой канаву. Человек этот стоит по колена в воде, в одних засученных кальсонах. Белые длинные усы его, торчащие поперек лица, видны с затылка.
— Сафарбек, — говорит Сулейман спокойно, — ну что, зацвел твой табак?
Человек поспешно оглядывается и, заметив Сулеймана, вонзает лопату в землю.
— Зацвел, — говорит он, вздохнув, — все дело, оказывается, было в воде! А ты что, Сулейман? Что нового?
— Ничего, — отвечает Сулейман. — Новостей нет, — и, подумав, добавляет: — Гости вот приехали из Москвы за песнями, ну я и отдал.
— Остались довольны, стало быть? — спрашивает человек, вновь пристально глядя себе под ноги и берясь за лопату.
— Да, — отвечает Сулейман. — Правда, надо бы новую песню к праздникам, да вот не успел.
— Это главное, — говорит человек, — песня к празднику! — и, плюнув в кулак, с силой отрубает лопатой торчащий корень. — Покою не давал! Яззид![84] — говорит он с сердцем, причем длинные усы его нервно вздрагивают. — Два часа вожусь! Оказывается, его надо было просто отсечь!
Он снимает с головы папаху и, вытерев ею пот с лица, надевает обратно. Тощая голая грудь его заросла седеющей шерстью. Руки длинны и обрызганы грязью.
— Ах, Сафарбек, — говорит Сулейман, горько усмехнувшись, — ты на маймуна[85] стал похож с этим своим табаком! Тьфу! Будь ты неладен!
И отворачивается, собираясь уходить.
— Погоди! — кричит человек, подтянув кальсоны. — Куда спешишь? Успеешь еще найти песню…
— Что ты, Сафарбек, — говорит Сулейман. — Я вовсе не ищу песню. Сама упадет, если созрела. — И вдруг, выпрямясь, спрашивает: — Как там сакля Хан-Бубы? Не воздвигли еще стены?
— Уже балки поставили! — отвечает человек, ликуя. — Хан-Бубы крылья выросли. Коней сейчас побежал ловить!
— Это зачем же кони? — спрашивает Сулейман недоверчиво.
— Не знаю, — отвечает человек, — бежит, размахивает руками, а в руке аркан. «Коней, кричит, коней мне!» Может, доски возить? Хотя нет, колхоз ему все завез… Должно быть, так, на радостях!
Сулейман нахмуривается.
— Не похоже что-то на Хан-Бубу, — говорит он задумчиво. — Уж не случилось ли чего? — и медленно, глянув под ноги, идет дальше.
Человек выжидающе смотрит ему вслед.
— Да, вот еще что, — останавливается Сулейман, — ты уж будь добр, Сафарбек, не слишком поливай табак. Это тебе не кукуруза! А то натворишь дел, соседние колхозы будут смеяться.
— Что ты, что ты! — всплескивает человек голыми руками. — Все дело в воде! Это же эрдебильский табак.
Но Сулейман, не слушая его, уже уходит.
— Вода! — бормочет он про себя. — Смотри, как бы не получилось, как у того армянина: «Вода дал, вода взял», — и недовольно щелкает языком: — Тце!
…Он идет по роще, зеленой и полной тишины. Его прямая фигура долго маячит на тропе, теряясь меж деревьев. Деревья стоят вокруг поэта в покорной величавости. Ветви ломаются от плодов. Сулейман сворачивает с тропы и, очутившись у глухой ограды, смотрит на дорогу. Дорога пуста. Сулейман останавливается и потом, подумав, идет обратно. Над ним по тенистой роще, мелькая в воздухе, летит мотылек. Мотылек обгоняет его. Сулейман, помедлив, провожает его затуманенным взглядом.
Потом он входит в темную рощу. Здесь под дуплистым орешником журчит ручеек. Ручеек течет, невидимый в высоких сочных зарослях лопуха, и лишь влажность воздуха выдает его присутствие. Сулейман подходит к ручейку осторожно (при его приближении в разных местах шлепаются в воду лягушки) и, став под деревом, долго слушает, наклонив голову, лепет воды. Вокруг тихо. Только слышно в тишине, как пищат в недрах сада птенцы в гнездах.
Но вдруг он оглядывается. Со стороны мостика, направляясь к нему, идет напрямик через заросли лопуха низенький старичок с длинной белой бородой. Через плечо старичка перекинута кожаная сумка.
— Вах, Сулейман, — говорит он, трудно дыша. — Все сады обошел. Вот уж искал тебя сегодня!
Сулейман смотрит на него равнодушно.
— Письма, — говорит старичок, — целых десять штук!
— Ты бы мог отдать их сыну, — отвечает Сулейман. — Он же там… Под грушей сидит, внизу.
— Боже упаси! — восклицает старик. — Как можно твои письма доверять мальчику? Нельзя! Государство не позволит!
И с деловитой важностью, послюнив палец, достает из сумки письма. Сулейман берет их неохотно. Повертев в руках, он сперва пытается запихать их в нагрудный карман, но тут же, раздумав, решает спрятать за пазуху.
— Валла, Манташ, — бормочет он, выпятив губу и запихивая письма (причем в этом деле участвует и другая рука с зажатым в мизинце посохом). — Валла, Манташ, ты мне обузу создаешь, брат. Передавал бы сыну!..
Старичок стоит, доверчиво глядя на Сулеймана.
— Да! — заключает Сулейман. — Значит, так! Ну, что нового? Радио на почте ничего не говорило?
Старик задумывается.
— Нет, — отвечает он. — Вот о войне в иных государствах, правда, говорило, но это ты знаешь…
Сулейман кивает головой.
— Война, будь она неладна!
— Сулейман, — спрашивает старичок подобострастно, — ты не занят?
Сулейман настораживается.
— А что?
— Если ты не занят, то я бы посоветовался с тобой. Дело есть!..
Сулейман, ласково улыбнувшись, трогает старичка пальцем за плечо.
— Ах, Манташ, — говорит он, — наконец-то ты нашел свое место. Любо смотреть! (При этих словах приплюснутый нос старичка внезапно краснеет.) Говори, — продолжает Сулейман, — я просто так гуляю… Слушаю время.
И так как старичок, почему-то оробев, молчит, переступая с ноги на ногу, Сулейман добавляет уже строго:
— Ну, что же ты молчишь?
…Дальше они идут вдвоем, медленно беседуя между собой. Оказывается, нос старичка покраснел не зря. Старик хочет бросить почтальонское дело, за которое только что Сулейман его похвалил, и искать другое, более почетное, по его мнению, занятие… В соседнем колхозе, мол, ищут грамотного весовщика, а ему старуха давно не дает покоя, говоря, что не подобает старику, развевая седую бороду, бегать по улицам…
— Вот тебе на! — восклицает Сулейман изумленно. — Этой старухе рот надо зашить шерстяной ниткой!..
Старичок помрачнел и, часто подбрасывая сумку, шагает рядом. Они идут тихо, придерживаясь тропы и поднимаясь по саду вверх, в сторону площади.
— Глиняную посуду, разбита она или нет, узнают по стуку, — убеждает Сулейман. — Не слушай, Манташ, ты эту старуху: она сама себя выдает! Почетней почтальонской работы нет другой. Даром, что ли, ты зимой ликпункт кончил? По стуку должен узнавать, что прочно, что нет!..
Говоря так, Сулейман шагает спокойно. Иногда он, с силой стукнув посохом, подчеркивает свою мысль. Но старик молчит: вид у него по-прежнему удрученный. Наконец Сулейман останавливается.
— Иди! — говорит он гневно. — Всю жизнь я тебе говорю: держись за одно дело, эй, Манташ, имей голову! Приходишь советоваться со мной, а потом поступаешь так, как хочет старуха? Иди, бога ради, я на дорогу тебе хлеб испеку!
И, оставив старичка на тропе, резко повернувшись, он уходит дальше один. Старик долго остается стоять на месте. Лицо его бледно. Потом он опускает голову и, утирая широким рукавом слезы, спускается вниз в сады.
— Ах, горе! — бормочет между тем Сулейман, поднимаясь на площадь. — Такой ценный почтальон, а жены боится, что с ним делать? Теперь она сделает из него весовщика!
…Выйдя на площадь, Сулейман, притенив глаза, молча смотрит вдаль. Площадь обширна. Вдали, возле строящейся новой сакли, стоят и сидят на камнях несколько рабочих в белых фартуках. Вокруг них валяются обтесанные доски. Сакля строится напротив канцелярии колхоза, где у крыльца стоит привязанный к перилам красный оседланный конь и сидит в тени дряхлый старик, издали наблюдая за работой. На стене сакли, между голыми балками, примостился сутулый каменщик в очках. Он закусывает хлебом с вишнями. Должно быть, на стройке сейчас перерыв…
Сулейман пересекает площадь — она поката — и, направляясь к рабочим, еще на полдороге к ним приветственно приподымает над головой папаху. В прищуре его глаз дремлет улыбка.
— Добрый день! — отвечают рабочие дружно. — Здравствуй, Сулейман! — Они оживляются: те, которые сидят, встают и, почтительно затихая, ждут его приближения.
Сулейман подходит к рабочим весело.
— Стало быть, дело до крыши дошло? — спрашивает он, глядя вверх. — А что Хан-Буба? Не собирается резать барана?
— Как же! — смеются рабочие. — По-настоящему он теперь буйвола бы должен зарезать, весь колхоз созвать!.. Шутки — не шутки!
— Правильно, — говорит Сулейман. — Если не помазать бревна салом, то крыша ведь рухнет на его голову. Нам что? Пусть не режет, если не хочет!..
Рабочие дружно смеются.
— Ну, буйвола не буйвола, а буйволенка-то уж мы заставим его зарезать! — говорит сверху пожилой каменщик. — Ведь у него двойной праздник…
— Постой, — перебивает Сулейман, — ради бога, если дело за буйволенком, то скажите Хан-Бубе, я задаром отдам своего. Ох, друзья! Такой негодяй у меня буйволенок! (Вдруг Сулейман, вытаращив глаза, с силой ударяет посохом о землю.) Всех соседей со мной перессорил! Еще и года не живет, а уже состарил меня на десять лет! Надоел хуже, чем Шахсувару его грыжа!..
Громкий хохот прерывает его слова. Сулейман, умолкнув, смеется и сам. Он вынимает из кармана платок и, утирая им потный затылок, продолжает:
— Да, да, вы не смейтесь! Сейчас привязал негодяя в хлеву. Три дня будет он у меня сидеть, четыре дня!
— Хабар, хабар! — кричит сверху каменщик в очках. — Я над Шахсуваром смеюсь, соседи. Вы ж не знаете, что было с ним в Дербенте! Х-ха! — и, отложив завтрак, при наступившей тишине начинает рассказывать.
Сулейман и рабочие слушают, задрав головы вверх.
— Приходит, значит, Шахсувар в амбулаторию. Сидит, ждет очереди. А записался к главному доктору. Слушайте теперь! Вот выкрикивают имя Шахсувара, входит он в комнату, а в комнате — страх! — сидит не мужчина, а женщина-доктор в белом халате. «Ну-ка, что у вас?» Шахсувар хотел было объясниться, да языка не знает. Он туда, сюда, но женщина-доктор сама спустила ему штаны. Как вскочит Шахсувар! — кричит каменщик, давясь смехом.
— Ха-ха-ха! — хохочут рабочие. — Молла Насреддин! Она что, старая была или молодая?
Сулейман пытается сдержать смех, но усы его подпрыгивают, и он опускает голову.
— Как вскочит Шахсувар! — продолжает каменщик, захлебываясь. — Как пустится бежать из комнаты… «Ола, кричит, даже моя старуха, с которой я живу сорок лет, и та, и та никогда…» Ой, соседи! — И, не выдержав, рабочий хватается за очки и заливается тоненьким веселым смехом. — Ой, уморил!..
Сулейман стоит, опустив голову, — ему немного неловко смеяться над своим соседом, и он делает вид, что занят другим.
— Да, — говорит он потом серьезно, — бедный Шахсувар! Я об этом слышал, соседи, — и, прищурясь, подходит ближе к сакле.
Рабочие почтительно умолкают.
Сакля стоит, наполовину уже готовая. Над рамами окон и дверей на длинных нитях болтаются, свисая с карнизов, пестрые, сшитые из шелковых лоскутов куклы и амулеты. Они сшиты руками девушек и развешаны здесь по старому обычаю, чтобы, чего доброго, злые духи не поселились в доме раньше хозяев. Одна из кукол изображает красноармейца-пограничника с длинным ружьем и усами, сделанными из пакли. Сулейман притрагивается к ней посохом — кукла медленно поворачивается на нитке.
— Ух, ты! — говорит Сулейман изумленно. — Кто его сшил?
— Должно быть, Асият, — отвечают рабочие весело. — Кому же, как не ей?
Сулейман, шурша в изобилии валяющимися под ногами стружками, подходит к двери вплотную.
— И усы, — говорит он восхищенно, — как у Сафарбека все равно!.. Вот это сторож! Никакой шайтан сюда не войдет раньше хозяина! — И, став перед куклой, хитро зажмурив глаза (в глазах этих уже вспыхивают огоньки), он задумывается.
Каменщики молчат, стоя вокруг.
— Ну что ж, — заключает Сулейман, вдруг оживляясь и радостно, — работайте! Крепкая сакля! Баран вам обеспечен, соседи! А не баран, так я своего негодяя буйволенка зарежу! Пойду поздравлять Хан-Бубу!
— А Хан-Бубы же нет, — замечают сразу несколько голосов.
— Тебе разве ничего не сказал Манташ? Хан-Буба давно поехал на станцию!
— Зачем? — спрашивает Сулейман удивленно.
— Сына встречать, — отвечают каменщики. — Манташ принес Хан-Бубе телеграмму: сын коней требует на станцию, с женой едет!
— То-то я и говорю о двойном празднике, — вставляет пожилой каменщик и, почему-то вздохнув, задумчиво берется за инструмент.
Сулейман молчит. На щеках его резко обозначаются морщины. Рабочие стоят в странном раздумье, скрестив на груди руки.
— А старуха Хан-Бубы, наверно, плачет, — говорит кто-то в наступившей тишине, — вспоминает старших своих сыновей. Те ведь были еще не женаты, когда их повесили эти, как их… чужестранцы!
— Т-с-с! — говорит Сулейман, подняв палец (лицо его серьезно). — Мать героя не заплачет! Крепко завязанное не развязывается, — и, кивнув головой, сумрачно смотрит вдаль.
Вдали на противоположной стороне площади все еще по-прежнему сидит у крыльца дряхлый старик: то ли дремлет, то ли задумался. Рядом с ним стоит привязанный к перилам красный конь. На площади пустынно. В пыли перед стариком купается стая взъерошенных воробьев. Солнце стоит в зените.
— Это что? — спрашивает Сулейман, улыбнувшись. — Межведиль все за порядком наблюдает?
Рабочие оживляются.
— С утра сидит, — отвечают они, смеясь. — Воображает, будто без него все пойдет вверх дном!
— На то и тамаза, — заключает сверху каменщик.
Сулейман, добродушно жмурясь, трогается с места.
— Ну, работайте, — говорит он, вздохнув, — с богом! Там, я вижу, стоит конь Магомеда. Что это он так рано вернулся с поля? Уж не случилось ли чего?..
Каменщики расходятся по местам и дружно принимаются за работу. Вскоре площадь оглашается стуками молотков, скрежетом пилы и короткими громкими возгласами. Сопровождаемый этими звуками, Сулейман медленно идет через площадь к крыльцу. Стая воробьев, поднявшись ему навстречу, перелетает через голову, обдав его пылью. Сулейман отряхивает плечи рукой и хмуро оглядывает небо. Небо ясно. Белые, с округлыми краями облака замерли в вышине. Они не рассеиваются, а словно уходят все глубже в потемневшую от зноя синеву небес. Сулейман подходит к крыльцу и останавливается перед стариком.
Старик с трудом поднимает голову. Он, оказывается, сидит здесь не просто, а бубнит про себя песню.
— Что, отец? — спрашивает Сулейман. — Хорошо ли спал ночью?
Старик, перестав бубнить, внимательно смотрит вверх, на Сулеймана. Одеревенелое лицо его неподвижно. Он сидит прямо на земле, без шапки (папаха надета на согнутое колено). Тусклые, пепельного цвета, глаза его еле теплятся мыслью.
Узнав Сулеймана, старик кивает головой.
— Да, — говорит он важно. — Один сижу, как видишь! (Вопроса он явно недослышал.) А ты где был?
Но к этому времени с Сулейманом происходит нечто странное. Он стоит, оцепенев, как бы охваченный внезапной мыслью, и глядя исподлобья на крыльцо, к перилам которого прислонены две винтовки. Двери дома раскрыты настежь, вокруг никого, кроме оседланного коня и старейшины.
— Что нового? Какие новости, сын мой? — спрашивает старик, напряженно вытягивая шею.
— Война! — вскрикивает Сулейман внезапно. — Ах, Межведиль, вокруг да около война бродит!..
— И что ей покою не дают? — спрашивает старик, всполошившись и грозно.
— Кому? — спрашивает Сулейман, очнувшись.
— Ей! — восклицает старик в досаде. — Советской власти.
Лицо Сулеймана расплывается в улыбке.
— Успокойся, Межведиль, ее никто не обижает! Война там, в иных государствах, — кричит он, наклоняясь, почти в ухо старику.
Старик недоверчиво смотрит на Сулеймана.
— А ты что? — спрашивает он наконец, надевая папаху и на всякий случай беря с земли свою палку. — Без дела бродишь? Такое время, а ты болеешь.
Однако порыв старика превозмочь дремотную скованность своего тела так и остается незавершенным. Он вскоре застывает, по-прежнему опустив голову.
Сулейман долго молчит.
— Нет, — говорит он грустно. — Ах, Межведиль, где тут болеть, когда земля качается.
Старик, широко открыв глаза и собираясь что-то сказать, долго кивает в сторону рабочих, недовольно повторяя заплетающимся языком: «Они… мальчишки…» Но в эту минуту на крыльцо с грохотом выходит высокий юноша в шинели, в белой папахе, с берданкой через плечо, и Сулейман оглядывается на него.
— Добрый день, Сулейман! — говорит юноша, быстро закрывая дверь на ключ. — Решили вот ночевать в терновниках. А? И оба твои сына… Словом, все, с арбами, с котлами и чунгуром.
Юноша, продолжая говорить, расторопно берет прислоненные к перилам винтовки и подходит к коню. Конь вздрогнув, поднимает голову.
— Вернулся вот за оружием, — говорит юноша, отвязывая коня. — И надо было закрыть… Да! А в терновниках в этом году прямо видимо-невидимо кабанов! Зря мы, Сулейман, сеяли кукурузу в той стороне!..
Сулейман хмурится.
— Они и в другую сторону пришли бы, — говорит он серьезно. — Им ничего не стоит. А много уже расчистили терновника?
— Да, уже много. К железной дороге выходим! Мы потому и остались, Сулейман, чтобы все приурочить к празднику. Через неделю… Тпр-р-р-р! (Юноша затягивает подпругу.) Через неделю, значит, три праздника празднуем, — говорит он весело. — Ведь сын Хан-Бубы возвращается, ты слышал? Уже инженер!
Сулейман молчит. Взгляд его задумчиво-смутен.
— Ну, езжай, — говорит он, вздохнув. — Молодцы! А патроны захватил? — и, отстраняясь, заранее уступает дорогу коню.
Юноша распахивает шинель, он крест-накрест опоясан патронташами.
— Будь спокоен, — смеется он гордо. — Кабаны не уйдут от нас живыми! — и, ловко подбросив на плечо все три ружья, ставит ногу в стремя.
Сулейман с достоинством берет коня под уздцы.
— Я хотел с тобой о Манташе посоветоваться, — говорит он спокойно. — Да уж ладно! И потом Сафарбек… Боюсь, он испортит табак! Надо, чтоб колхоз наш и в этом году был самым первым…
Юноша садится на коня. Конь, хрупая удилами, пятится назад.
— Поговорим завтра! — кричит юноша, заражаясь нетерпением коня. — О Манташе нам надо всерьез поговорить. Это не первый раз! Говорят, старуха, что ли, его донимает, а работник он неплохой, сам знаешь! Пробрать бы его, постыдить как следует. Пусть одумается!.. До свиданья, Межведиль, — обращается юноша к старику, привстав на стременах. Но старик, видимо, опять внезапно задремал, и юноша, улыбнувшись, кивает Сулейману. — Ну, до завтра! Время горит.
Конь рвется вперед, трогает с места разом, встав на дыбы, и скоком-скоком выходит к дороге. Площадь оглашается цокотом копыт.
Сулейман стоит перед стариком в раздумье, глядя вслед юноше. Спина Сулеймана загораживает старику дорогу. На дороге клубится пыль. Рабочие вдали на стройке, кто держа перед собой камень, кто с гвоздями в зубах, кто стоя на стене, выпрямись, смотрят вслед удаляющемуся всаднику. Всадник скачет вдаль, исчезая за поворотом.
Похлопав глазами и так и не поняв, в чем дело, старик вновь погружается в дремоту.
— А ты, Сулейман, не ссорься с Магомедом, — бормочет он. — Зачем? Такого председателя, как он, хоть на аэроплане ищи, — нету! Живите мирно! В моем ауле я не позволю ссор!..
Лицо Сулеймана внезапно светлеет в улыбке. И в эту минуту вокруг наступает такая тишина, что далеко в садах слышно бубуканье удода. Эта тишина оседает на землю вместе с пылью, поднятой конем. Сулейман остается наедине с желтым кипящим полднем. Улыбка угасает на его губах, и он, забыв о старейшине, медленно, поглядывая под ноги, спускается к себе.
Он идет по улице. Пыль, поднятая всадником, еще не улеглась, и дорога, ведущая сквозь сады, как бы закрыта вдали белой занавесью, висящей меж зеленых стен.
Сулейман идет, опираясь на посох. Лицо его серьезно. Но вот внизу, с правой стороны улицы, возникает одинокая фигура старичка с почтальонской сумкой. Старик, видимо, уже роздал почту и возвращается домой налегке.
Сулейман как бы невзначай переходит на его сторону. Он стоит, виновато положив обе руки на посох, и белая борода его свисает, как у гнома. Чуть ниже перед ним растет дерево.
Сулейман проходит мимо старичка величественно, ни единым мускулом лица не выдав, что заметил его. Старичок съеживается.
— Эй, дерево! — вдруг вскрикивает Сулейман, став перед деревом. — Я тебе говорю, дерево, ты слушай! Хорошо, что здесь поблизости нет Манташа, не люблю трусов! У куропаток своего дома нет, так они везде кричат «был-был-дык». Им все равно — здесь или там!..
— Это ты обо мне говоришь? — спрашивает старик жалобно.
Сулейман не оглядывается.
— Запомни! — вскрикивает он, ударив ногой по стволу. — Запомни, дерево!
С дерева падает поблекший лист. Сулейман поднимает его и, забыв о гневе, щурясь, разглядывает на ладони.
— Листочек, — бормочет он про себя. — Осень еще за горами. Отчего ты упал?.. Неужто ты сгорел от стыда?
Он спускается вниз, озабоченно держа в кулаке листок, и, по мере того как он приближается к своей сакле, шаги его становятся все медленней, фигура прямей, лицо печальней.
Старичок долго стоит у забора. Потом, вздохнув, плюнув в кулак и поудобней взяв в руки палку, решительно направляется домой. Сулейман же, не оглядываясь, идет к себе.
Издали, из-за все еще не осевшей пыли, как из-за занавески, выходит навстречу поэту толпа детей. Дети возвращаются в аул с прогулки. Они беспорядочно разбрелись по дороге. Учительница в полотняной шляпе с огромным букетом ярких цветов идет, отставая от детей, далеко позади. Она ведет за руку самого маленького толстого мальчика с круглыми щеками. Мальчишка шагает рядом с ней, переваливаясь с боку на бок.
Увидев школьников, Сулейман хмурится. Затем он поспешно извлекает из-за пазухи кипу писем и, повертев их в руках, застывает у своих ворот в ожидании, пока приблизится учительница.
Письма он держит, прижимая к груди. Проходя мимо Сулеймана, дети затихают и, почтительно косясь на него, уходят, не оглядываясь, дальше. Сулейман задумчив. Заметив его, учительница наклоняется к мальчику, которого ведет за руку, и, передавая ему букет, что-то говорит, показывая на Сулеймана. Мальчик, неуклюже обхватив цветы обеими руками, бежит к поэту. Сулейман закрывает глаза. Ресницы его полны слез…
— Дау! — зовет мальчик, глядя вверх. — Возьми это, Сулейман-дау!
— Нехорошо, Максум, — говорит Сулейман, покачиваясь, — нехорошо, сын мой. Ах, откуда эти слезы…
Мальчик, сопя, возит босой пяткой по пыли. Он озадачен и хочет идти за детьми. Учительница, улыбаясь, кивает Сулейману, но так как поэт уже сидит на корточках перед мальчиком, уткнув лицо в цветы, чтобы скрыть слезы, учительница, не решаясь заговорить с ним, проходит дальше.
Но вот Сулейман стремительно встает. Мальчик, в недоумении глянув на него, пускается бежать вдогонку за детьми.
Сулейман подносит правую руку близко к лицу и осторожно, точно в кулаке зажата муха, раскрывает ладонь. На ладони лежит скрюченный и размякший от пота листочек…
— Осень, — бормочет поэт, — скоро осень… Вот дети.
Потом он швыряет лист и глядит вслед далеко ушедшей учительнице и детям, точно собираясь что-то крикнуть им. Он даже открывает рот, но в эту минуту с такой отчетливой и явственной силой зреет полдень вокруг, такой давней и нерушимой встает тишина в садах, что Сулейман, невольно сосредоточиваясь, все ниже и ниже опускает голову. Глаза его наливаются туманом. Смутная созерцательность и раздумье, все время сквозившие в его взгляде, сменяются величавой скукой. Эта скука (или, может быть, умиротворенность) отныне овладевает им надолго.
Медленно повернувшись на месте и волоча за собой посох, придерживая рукой на груди цветы и письма, Сулейман поднимается тогда в саклю.
— На, старуха, — говорит он, бросив в подол старухе письма и цветы. — Мне некогда!
Старуха смотрит на него поверх очков. Она сидит у порога, штопая бешмет, и, как всегда за подобной работой, выглядит очень серьезной. Сулейман расстегивает ворот рубахи. Лицо его потно.
— Уф! — говорит он. — Где эти гости?
— Музафир повел их на родник, — отвечает старуха. — Ты что, в саду был?..
Сулейман молчит.
Старуха, видимо, полагая, что он разморен зноем, спокойно перекусив нитку, замечает:
— Хоть бы ветер, что ли, подул. И отчего такой покой? Голова прямо болит!
Сулейман грозно топает ногой.
— Это покой крепости, — говорит он с силой. — Крепости, где все на месте. Пушки стоят заряженные, хлеб засеян, дети накормлены! Ну-ка, старуха, не мешай! — и, хлопнув папахой оземь, садится на пороге.
Старуха встает. Она уже кончила штопать и, отряхнув бешмет, взяв его под мышку, собирает письма. Потом она что-то хочет возразить, но, глянув на замкнутое, величаво-спокойное лицо Сулеймана, уходит в саклю, забыв на ступеньках цветы.
…И вот наконец Сулейман сидит один на террасе. Тишина. За его спиной, перевешиваясь через перила, замерли желтые подсолнухи. Где-то под крышей пищат новорожденные птенцы. Зной. Сверкая крыльями, со двора залетают на террасу пчелы. Они гудят, перелетая через голову Сулеймана к подсолнухам. Сулейман неподвижно смотрит перед собой.
На дороге появляются арбы. Арбы нагружены доверху свежим июльским сеном, и на передней из них, на самом верху, сидит девушка, румяная от зноя. Ни колес, ни быков не видно — они скрыты сеном. Арбы движутся, медленно и плавно покачиваясь, и кажется, что девушка, сидящая наверху, не едет, а плывет одна по воздуху на зеленом фоне садов…
Сулейман провожает девушку долгим смутным взглядом, тем взглядом, каким он провожал мотылька. От скрипа колес просыпается спящая у ворот собака. Она не лает, а лишь, перейдя через дорогу в тень, безразлично опустив голову, смотрит вслед арбам.
…Сады молчат, сады дремлют, отягощенные плодами. В садах мерцает жаркий полдень. Сулейман шепчет что-то про себя.
Отсюда, с террасы, как на ладони видна далекая белоснежная вершина горы и выплывающие из-за нее облака. Облака заметно густеют. Меняя форму и тяжелея, они вскоре приобретают тот свинцовый блеск, который предвещает грозу. Сулейман, щурясь, смотрит вдаль.
Какая-то назойливая муха кружится над его головой. Она норовит сесть ему на темя. Сулейман тщетно отмахивается от нее обеими руками и наконец, недовольно уступив ей, переходит на другое место.
Теперь он сидит у края террасы, там, где недавно сидела старуха. У ног его валяется на ступеньках букет цветов.
Дружная стая воробьев с громким щебетом врывается на террасу, но, увидев Сулеймана, молниеносно улетает обратно. Сулейман, улыбаясь, смотрит им вслед…
Между тем свинцовые облака над горами уже подступают к селу, и на западе полнеба охвачено мрачной темной тучей. По сравнению с ней еще ярче и чище голубизна неба, еще отчетливей и свежей зелень садов. Природа притихла. Внезапно где-то за садами возникает шорох. Он нарастает. И вот, шагая по деревьям и шевеля листьями, со стрекотом и шумом надвигается на сады широкий летний дождь. Он идет при солнце. Сулейман сидит безмолвно, оглядывая двор. Прямые струи дождя образуют перед ним как бы сверкающий серебряный полог, и он смотрит сквозь него — умиротворенный, простой и мудрый. Все так же медленно и спокойно он достает из нагрудного кармана папиросу. Закуривает ее. Синие прозрачные клубы дыма уходят из-под навеса в дождь и остаются там нетронутыми, пока сами не рассеиваются в воздухе. На фоне умытой зелени садов они поражают своей синевой. Сулейман, глядя на дым, долго возит спичечной коробкой по груди, не попадая в карман.
— Дождь идет! — говорит он наконец про себя.
Старуха, которая вышла из сакли на шум дождя и так осталась стоять зачарованная, отвечает:
— Ну вот, гости наши намокнут. Это к счастью. И он сейчас перестанет.
— Откуда ты знаешь? — спрашивает Сулейман, не оглядываясь.
— Гром гремит, — отвечает старуха. — А знаешь, вот так же было однажды, когда шел дождь…
Сулейман поднимает руку, трясет ею над головой.
— Т-с-с! — говорит он, перебивая старуху. — Нашел, нашел…
Гром затихает, и что-то большое, светлое, как огонь, пробуждается в глазах Сулеймана. Он, широко вздохнув, встает.
— Моя золотая пуговица! — говорит он радостно. — Такой другой старухи, хоть на аэроплане ищи, — нету! Вот теперь говори все, что хочешь.
В эту минуту в глубине двора раздается жалобное мычание.
— Ах, бедный! — вскрикивает Сулейман. — Поди, поди, старуха. И что за народ! Сами счастливы, а буйволенок один в тюрьме. Кто его запер?
Старуха уходит. Сулейман, озабоченно шевеля бровями, садится на ступеньки и, не обращая внимания на дождь, медленно собирает в букет рассыпанные цветы. По лицу его стекают веселые струйки. Правым локтем он опирается на посох.
…И вдруг, как это часто бывает летом, дождь перестает. Становится легко и тихо вокруг. Умолкшие было на время дождя птицы вновь оглашают сад громким щебетом. Все та же собака, осторожно и прихрамывая, возвращается через дорогу во двор. Спинка и хвост ее намокли. Она оставляет за собой белые негативные следы, ибо дождь не успел до конца промочить дорогу, и лапки собаки, снимая верхний тонкий слой грязи, обнажают нетронутую пыль…
Из-за сакли, вытаращив синеватые глаза, выскакивает буйволенок с таким видом, будто все родные ушли, покинув его здесь одного.
— Танцуй! — вскрикивает Сулейман, топнув ногой.
Буйволенок шарахается в сторону и, подняв хвост палкой, обегает вокруг двора. Ноздри его расширены, милые глупые глаза смотрят на мир с детским недоумением. Потом он, вскидывая зад, делает несколько прыжков на месте и бросается вскачь к воротам.
— Лови! — кричит Сулейман, весело хохоча. — Держи его, старуха! Вот мы сейчас отдадим его Хан-Бубе на праздник.
У самых ворот буйволенок с разбегу останавливается как вкопанный. Он выгибает шею, точно готовясь к обороне. В ворота входят гости. Они идут босиком, держа в руках ботинки и весело переговариваясь меж собой.
Сулейман, роняя посох, шумно встает.
— Готово! — кричит он навстречу гостям, стоя на ступеньках и прижимая букет к груди.
Под крышей птенцы поднимают в эту минуту громкий писк: к ним прилетела мать.
— Готово, юноши! Вышла песня!
Это была песня о Красной Армии, оберегающей нашу жизнь.
Тишина такая в мире! Дни мои, сияйте!
Ручейки в садах, журчите! Мотыльки, порхайте!
Пусть под крышей не смолкает птичье щебетанье!
И шумят дожди при солнце в золотом сверканье!
Это вам, герои, слава! С вами мир наш вечен.
Полный жизни, полный света, радугой расцвечен.
Стерегите ж зорко, зорко! Вам доверив жизни,
Строит счастье люд свободный на родной отчизне!
Вижу ль дом заложен новый — вам, герои, слава!
Слышу ль гул пчелы медовой — вам, герои, слава!
Вспомню ль прошлого печали — вам, герои, слава!
Гляну ль в будущего дали — вам, герои, слава!
Так держите ж, не роняйте славы вашей знамя!
Пусть не меркнет в нашем доме милой жизни пламя!
1941
ЛЕОНИД СОБОЛЕВ
СОЛОВЕЙ[86]
На фронте под Одессой работал отряд разведчиков-моряков. По ночам они пробирались в тыл румынам, проползая на животе между минными полями, переходя по грудь в воде осеннего лимана, забираясь на шлюпке далеко за линию фронта. Они снимали часовых ударом штыка или кинжала, забрасывали гранатами хаты со штабами, сидели под обстрелом своих же батарей, корректируя огонь, — неуловимые, смелые, быстрые, «черные дьяволы», «черные комиссары», как с ужасом звали их румыны.
Среди них был электрик с миноносца «Фрунзе», красивый и статный моряк с гордыми усиками, которого за эти усики и за любовь к кавалерийским штанам прозвали «гусаром». Галифе, армейские гимнастерки и пилотки были вызваны необходимостью: не очень-то ловко ползать по болотам в широких морских штанах и флотских ботинках. Разведчики изменили морской форме, но «морская душа» — полосатая тельняшка — свято сохранялась на теле и синела сквозь ворот неоспоримым доказательством принадлежности к флоту, и на пилотке под звездочкой гордо поблескивал якорек.
В жаркий пыльный день шестеро разведчиков шли через Одессу из бани. Пить хотелось нестерпимо. Но пить в городе хотелось всем, и у ларьков толпились очереди. Моряки со вздохом прошли три ларька, поглядывая на часы. Стать в очередь у них не хватало времени. Внезапно им повезло: с неба раздался характерный жужжащий вой мины. Это было на краю города, куда мины порой залетали, и звук их — противный, Ноющий, длинный — был хорошо знаком одесситам. Очередь распалась, люди побежали от ларька под защиту каменных стен домов.
Но мина не взорвалась. Она проныла свою скверную песню и бесследно пропала. Зато у освободившегося ларька, откуда привычный ко всему продавец так и не ушел, уже стоял «гусар» и с наслаждением тянул содовую воду, приглашая остальных моряков.
Оказалось, что «гусар» одарен необыкновенной способностью к звукоподражанию. Из его розовых полных губ вылетали самые неожиданные звуки: свист снаряда, клохтанье курицы, визг пилы, вой мины, щелканье соловья, шипение гранаты, лай щенка, отдаленный гул самолета. И способности эти, едва они обнаружились, были немедленно обращены на пользу дела.
«Гусара» объявили «флагманским сигнальщиком», разработали целый код и понесли его на утверждение командиру. Клохтанье курицы означало, что у хаты замечен часовой, кряк утки — что часовых двое. Пулеметчик, замаскированный в кустах, вызывал жалобный посвист иволги. Место сбора ночью после налета на румын определялось долгим пением соловья, который с упоением артиста самозабвенно щелкал в кустах или у шлюпки.
Вечерами, когда разведчики отдыхали после опасного рейда, «гусар» устраивал в хате концерт. Моряки лежали на охапках сена, и он, закинув руки за голову, свистел.
В темной хате, где свежо и тонко пахло сеном, он свистел чисто и сильно, и верный, прозрачный его свист, которому аккомпанировали глухие, непрерывные гулы своих и чужих орудий и взрывов (постоянная симфония осажденной Одессы), звучал далекой мечтой о мирной, спокойной жизни, о ярком свете на улицах и в залах, о белых нарядных платьях и чистых руках, о забытом, утерянном спокойствии, уюте и доме. Моряки слушали молча, и, когда замирал последний, утончающийся и переходящий в хорошую, умную тишину звук, гигант-комендор тем глухим урчанием, которое иногда слышишь в могучей дымовой трубе линейного корабля, негромко басил:
— Ще давай… Гарно свистишь.
И моряки лежали на сене и думали о войне, судьбе и победе и о том, что будет еще — непременно будет! — жизнь с такой же тишиной и с мечтательной песней. И орудия за стенами хаты извергали металл и крошили тех, кто ворвался в нашу мирную жизнь.
В очередном походе в румынский тыл «гусар» остался в шлюпке в камышах — охранять это единственное средство возвращения к своим и, как обычно, быть «флагманским сигнальщиком». Ночью моряки натворили дел в тылу, сняли два пулемета, взорвали хату с румынским штабом и к шести утра возвращались к шлюпке. Крадучись, они подходили к камышам. Одного несли на руках — его ранило разрывной пулей в бедро, двоих товарищей недосчитывались. В камышах все прилегли отдохнуть и стали слушать ночь, чтобы определить, где находится шлюпка.
В ночи пел соловей. Он щелкал и свистел, но трели его были затруднены и пение прерывисто. Порой он замолкал. Потом пение возобновлялось, но такая тоска и тревога были в нем, что моряки оставили тяжелое тело раненого под охраной и кинулись на свист соловья.
«Гусар» лежал в шлюпке навзничь. В темноте не было видно его лица, но грудь его была в липкой крови. Автомат валялся на дне, все диски были пусты. В камышах моряки наткнулись на трупы румын. Очевидно, они обнаружили днем шлюпку, и здесь был неравный бой.
«Гусар» не узнавал родных голосов. Он лежал на спине и хрипел тяжко и трудно. Потом он набирался сил, и тонкий свист вылетал из-под его усиков сквозь непослушные, холодеющие губы. Не видя, не сознавая, что те, кому он должен был дать спасительный сигнал, уже вернулись к шлюпке, он продолжал свистеть. Он свистел даже тогда, когда все сели в шлюпку и, осторожно опустив весла, пошли по тихому темному морю.
И соловей — птица кустов и деревьев — пел и щелкал над морем. В шлюпке молчали, и только иногда шумно и долго вздыхал огромный комендор, лежавший рядом с «гусаром».
«Гусар» все свистел, замирая, отдыхая, трудно втягивал воздух. Он все свистел, и небо над морем стало розоветь, и щелканье соловья перешло в мелодию.
Оборванная, изуродованная, как и его тело, она металась над светлеющим морем, и моряки, прислушиваясь к ней, гребли яростно и быстро.
1941
ВАДИМ КОЖЕВНИКОВ
МАРТ — АПРЕЛЬ
Изодранный комбинезон, прогоревший во время ночевок у костра, свободно болтался на капитане Петре Федоровиче Жаворонкове. Рыжая патлатая борода и черные от въевшейся грязи морщины делали лицо капитана старческим.
В марте он со специальным заданием прыгнул с парашютом в тылу врага, и теперь, когда снег стаял и всюду копошились ручьи, пробираться обратно по лесу в набухших водой валенках было очень тяжело.
Первое время он шел только ночью, днем отлеживался в ямах. Но теперь, боясь обессилеть от голода, он шел и днем.
Капитан выполнил задание. Оставалось только разыскать радиста-метеоролога, сброшенного сюда два месяца назад.
Последние четыре дня он почти ничего не ел. Шагая в мокром лесу, голодными глазами косился на белые стволы берез, кору которых — он знал — можно истолочь, сварить в банке и потом есть, как горькую кашу, пахнущую деревом и деревянную на вкус…
Размышляя в трудные минуты, капитан обращался к себе, словно к спутнику, достойному и мужественному.
«Принимая во внимание чрезвычайное обстоятельство, — думал капитан, — вы можете выбраться на шоссе. Кстати, тогда удастся переменить обувь. Но, вообще говоря, налеты на одиночные немецкие транспорты указывают на ваше неважное положение. И, как говорится, вопль брюха заглушает в вас голос рассудка».
Привыкнув к длительному одиночеству, капитан мог рассуждать с самим собой до тех пор, пока не уставал или, как он признавался себе, не начинал говорить глупостей.
Капитану казалось, что тот, второй, с кем он беседовал, очень неплохой парень, добрый, душевный, все понимает. Лишь изредка капитан грубо прерывал его. Этот окрик возникал при малейшем шорохе или при виде лыжни, оттаявшей и черствой.
Но мнение капитана о своем двойнике, душевном и все понимающем парне, несколько расходилось с мнением товарищей. Капитан в отряде считался человеком малосимпатичным. Неразговорчивый, сдержанный, он не располагал и других к дружеской откровенности. Для новичков, впервые отправляющихся в рейд, он не находил ласковых, ободряющих слов.
Возвращаясь после задания, капитан старался избегать восторженных встреч. Уклоняясь от объятий, он бормотал:
— Побриться бы надо, а то щеки, как у ежа, — и поспешно проходил к себе.
О работе в тылу у немцев он тоже не любил рассказывать и ограничивался рапортом начальнику. Отдыхая после задания, валялся на койке; к обеду выходил заспанный, угрюмый.
— Неинтересный человек, — говорили о нем, — скучный.
Одно время распространился слух, оправдывающий его поведение. Будто в первые дни войны его семья была уничтожена фашистами.
Узнав об этих разговорах, капитан вышел к обеду с письмом в руках. Хлебая суп и держа перед глазами письмо, он сообщил:
— Жена пишет.
Все переглянулись. Многие разочарованно, потому что хотелось верить: капитан потому такой нелюдимый, что его постигло несчастье. А несчастья, оказывается, никакого и не было…
…Голый и мокрый лес. Топкая почва, ямы, заполненные грязной водой, дряблый, болотистый снег. Тоскливо брести по этим одичавшим местам одинокому, усталому, измученному человеку.
Но капитан умышленно выбирал эти дикие места, где встреча с немцами менее вероятна. И чем более заброшенной и забытой выглядела земля, тем поступь капитана была увереннее.
Вот только голод начинал мучить. Капитан временами плохо видел. Он останавливался, тер глаза и, когда это не помогало, бил себя кулаком в шерстяной рукавице по скулам, чтобы восстановить кровообращение.
Спускаясь в балку, капитан наклонился к крохотному водопаду, стекавшему с ледяной бахромы откоса, и стал пить воду, ощущая тошнотный, пресный вкус талого снега. Но он продолжал пить, хотя ему и не хотелось, — пить только для того, чтобы заполнить пустоту в желудке.
Вечерело. Тощие тени ложились на мокрый снег. Стало холодно. Лужи застывали, и лед громко хрустел под ногами. Мокрые ветки обмерзли; когда он отводил их рукой, они звенели. И как ни пытался капитан идти бесшумно, каждый шаг сопровождался хрустом и звоном.
Взошла луна. Лес засверкал. Бесчисленные сосульки и ледяные лужи, отражая лунный свет, горели холодным огнем.
Где-то в этом квадрате должен был находиться радист. Но разве найдешь его сразу, если этот квадрат равен четырем километрам? Вероятно, радист выкопал себе логовище не менее тайное, чем нора у зверя.
Не будет же он ходить и кричать в лесу: «Эй, товарищ! Где ты там?!»
Капитан шел в чаще, озаренной ярким светом; валенки его от ночного холода стали тяжелыми и твердыми, как каменные тумбы.
Он злился на радиста, которого так трудно разыскать, но еще больше разозлился бы, если бы радиста удалось обнаружить сразу.
Запнувшись о валежник, погребенный под заскорузлым снегом, капитан упал. И когда с трудом подымался, упираясь руками в снег, за спиной его раздался металлический щелчок пистолета.
— Хальт! — сказали ему тихо. — Хальт!
Но капитан повел себя странно. Не оборачиваясь, он растирал ушибленное колено. Когда, все так же шепотом, ему на немецком языке приказали поднять вверх руки, капитан обернулся и сказал насмешливо:
— Если человек лежит, при чем тут «хальт»? Нужно было сразу кидаться на меня и бить из пистолета, завернув его в шапку, — тогда выстрел будет глухой, тихий. А кроме того, немец кричит «хальт» громко, чтобы услышал сосед и в случае чего пришел на помощь. Учат вас, учат, а толку… — И капитан поднялся.
Пароль произнес одними губами. Когда получил отзыв, кивнул головой и, взяв на предохранитель, сунул в карман синий «зауэр».
— А пистолетик все-таки в руке держали!
Капитан сердито посмотрел на радиста.
— Ты что ж, думал, только на твою мудрость буду рассчитывать? — И нетерпеливо потребовал: — Давай показывай, где тут твое помещение!
— Вы за мной, — сказал радист, стоя на коленях в неестественной позе, — а я поползу.
— Зачем ползти? В лесу спокойно.
— Нога у меня обморожена, — тихо объяснил радист, — болит очень.
Капитан недовольно поморщился и пошел вслед за ползущим человеком. Потом он насмешливо спросил:
— Ты что ж, босиком бегал?
— Болтанка сильная была, когда прыгали. У меня валенок и слетел… еще в воздухе.
— Хорош! Как это ты еще штаны не потерял. — И добавил: — Выбирайся теперь с тобой отсюда!
Радист сел, опираясь руками о снег, и с обидой в голосе сказал:
— Я, товарищ капитан, и не собираюсь отсюда уходить. Оставьте провиант и можете отправляться дальше. Когда нога заживет, я и сама доберусь.
— Как же, будут тебе тут санатории устраивать! Засекли немцы рацию, понятно? — И вдруг, наклонившись, капитан тревожно спросил: — Постой, фамилия как твоя? Лицо что-то знакомое.
— Михайлова.
— Лихо! — пробормотал капитан не то смущенно, не то обиженно. — Ну ладно, ничего, как-нибудь разберемся. — Потом вежливо осведомился: — Может, вам помочь?
Девушка ничего не ответила. Она ползла, проваливаясь по самые плечи в снег.
Раздражение сменилось у капитана другим чувством, менее определенным, но более беспокойным. Он помнил эту Михайлову у себя на базе, среди курсантов. Она с самого начала вызывала у него чувство неприязни, даже больше — негодования. Он никак не мог понять, зачем она на базе — высокая, красивая, даже очень красивая, с гордо поднятой головой и ярким, большим, резко очерченным ртом, от которого трудно отвести взгляд.
У нее была неприятная манера смотреть прямо в глаза. Неприятная не потому, что видеть такие глаза противно, — напротив, большие, внимательные и спокойные, с золотистыми искорками вокруг больших зрачков, они были очень хороши. Но плохо то, что пристального взгляда их капитан не выдерживал. И девушка это замечала.
А потом эта манера носить волосы, пышные, блестящие и тоже золотистые, выпустив их за воротник шинели!
Сколько раз говорил капитан:
— Подберите волосы. Военная форма — это не маскарадный костюм.
Правда, занималась Михайлова старательно. Оставаясь после занятий, она часто обращалась к капитану с вопросами довольно толковыми. Но капитан, убежденный в том, что знания ей не пригодятся, отвечал кратко, резко, все время поглядывая на часы.
Начальник курсов сделал замечание капитану за то, что он уделяет Михайловой так мало внимания.
— Ведь она же хорошая девушка.
— Хорошая для семейной жизни. — И неожиданно горячо и страстно капитан заявил: — Поймите, товарищ начальник, нашему брату никаких лишних крючков иметь нельзя. Обстановка может приказать собственноручно ликвидироваться. А она? Разве она сможет? Ведь пожалеет себя! Разве можно себя, такую… — И капитан сбился.
Чтобы отделаться от Михайловой, он перевел ее в группу радисток.
Курсы десантников располагались в одном из подмосковных домов отдыха. Крылатые остекленные веранды, красивые дорожки внутри, яркая лакированная мебель — вся эта обстановка, не потерявшая еще прелести мирной жизни, располагала по вечерам к развлечениям. Кто-нибудь садился за рояль, и начинались танцы. И если бы не военная форма, то можно было подумать, что это обычный канун обычного выходного дня.
Стучали зенитки, и белое пламя прожекторов копалось в небе своими негнущимися щупальцами, но об этом можно было не думать.
После занятий Михайлова часто сидела на диване в гостиной, с поджатыми ногами и с книгой в руках. Она читала при свете лампы с огромным абажуром, укрепленной на толстой и высокой подставке из красного дерева. Вид этой девушки с красивым, спокойным лицом, ее безмятежная поза, волосы, лежащие на спине, и пальцы ее, тонкие и белые, — все это не вязалось с техникой подрывного дела или нанесением по тырсе ударов ножом с ручкой, обтянутой резиной.
Когда Михайлова замечала капитана, она вскакивала и вытягивалась, как это и полагается при появлении командира.
Жаворонков, небрежно кивнув, проходил мимо. Этот сильный человек с красным, сухим лицом спортсмена, правда, немного усталым и грустным, был жестким и требовательным и к себе самому…
Капитан предпочитал действовать в одиночку. Он имел на это право. Холодной болью застыла в сердце капитана смерть его жены и ребенка: их раздавили в пограничном поселке 22 июня железными лапами немецкие танки.
Капитан молчал о своем горе. Он не хотел, чтобы его несчастье служило побудительной причиной его бесстрашия. Поэтому он и обманывал своих товарищей. Он сказал себе: «Я такой же, как все. Я должен драться спокойно». Всю свою жизненную силу он сосредоточил на борьбе с врагом. Таких людей, гордых, скорбящих и сильных, немало на этой войне.
Добрый, веселый, хороший мой народ! Какой же бедой ожесточили враги твое сердце!
И вот сейчас, шагая за ползущей радисткой, капитан старался не размышлять ни о чем, что могло бы помешать ему обдумать свое поведение. Он голоден, слаб, измучен длинным переходом. Конечно, Михайлова рассчитывает на его помощь. Но ведь она не знает, что и он никуда не годится.
Сказать все? Ну нет! Лучше заставить ее как-нибудь подтянуться, а там он соберется с силами, и, может быть, как-нибудь удастся…
В отвесном скате балки весенние воды промыли нечто вроде ниши. Жесткие корни деревьев свисали над головой, то тощие, как шпагат, то перекрученные и жилистые, похожие на пучки ржавых тросов. Ледяной навес закрывал нишу снаружи. Днем свет проникал сюда, как в стеклянную оранжерею. Здесь было чисто, сухо, лежала подстилка из еловых ветвей. Квадратный ящик рации, спальный мешок, лыжи, прислоненные к стене.
— Уютная пещерка, — заметил капитан. И, похлопав рукой по подстилке, сказал: — Садитесь и разувайтесь.
— Что? — гневно и удивленно спросила девушка.
— Разувайтесь. Я должен знать, куда вы годитесь с такой ногой.
— Вы не доктор. И потом…
— Знаете, — сказал капитан, — договоримся с самого начала: меньше разговаривайте.
— Ой, больно!
— Не пищите, — сказал капитан, ощупывая ее ступню, вспухшую, обтянутую глянцевитой синей кожей.
— Да я же не могу больше терпеть.
— Ладно, потерпите, — сказал капитан, стягивая с себя шерстяной шарф.
— Мне не нужно вашего шарфа.
— Грязный носок лучше?
— Он чистый.
— Знаете, — снова повторил капитан, — не морочьте вы мне голову. Веревка у вас есть?
— Нет.
Капитан поднял руку, оторвал кусок тонкого корня, перевязал им ногу, обмотанную шарфом, и объявил:
— Хорошо держится!
Потом он вытащил лыжи наружу и что-то долго мастерил, орудуя ножом. Вернулся, взял рацию и сказал:
— Можно ехать.
— Вы хотите тащить меня на лыжах?
— Я этого, положим, не хочу, но приходится.
— Ну что же, у меня другого выхода нет.
— Вот это правильно, — согласился капитан. — Кстати, у вас пожевать что-нибудь найдется?
— Вот, — сказала она и вытащила из кармана поломанный сухарь.
— Маловато.
— Это все, что у меня осталось. Я уже несколько дней…
— Понятно, — сказал капитан. — Другие съедают сначала сухари, а шоколад оставляют на черный день.
— Можете оставить ваш шоколад себе.
— А я угощать и не собираюсь. — И капитан вышел, сгибаясь под тяжестью рации.
После часа ходьбы капитан понял, что дела его плохи. И хотя девушка, лежа на лыжах (вернее, на санях, сделанных из лыж), помогала ему, отталкиваясь руками, силы его покинули. Ноги дрожали, а сердце колотилось так, что было трудно дышать.
«Если я ей скажу, что никуда не гожусь, она растеряется. Если дальше буду храбриться, дело кончится совсем скверно».
Капитан посмотрел на часы и сказал:
— Не худо бы выпить горячего.
Выкопав в снегу яму, он прорыл палкой дымоход и забросал его отверстие зелеными ветвями и снегом. Ветви и снег должны были фильтровать дым, тогда он будет невидимым. Наломав сухих веток, капитан положил их в яму, потом вынул из кармана шелковый мешочек с пушечным полузарядом и, насыпав горсть пороха крупной резки на ветви, поднес спичку.
Пламя зашипело, облизав ветви. Поставив на костер жестяную банку, капитан кидал в нее сосульки и куски льда. Потом он вынул сухарь, завернул его в платок и, положив на пень, стал бить по сухарю черенком ножа. Крошки он высыпал в кипящую воду и стал размешивать. Сняв банку с огня, он поставил ее в снег, чтобы остудить.
— Вкусно? — спросила девушка.
— Почти как кофе «Здоровье», — сказал капитан и протянул ей банку с коричневой жижей.
— Я потерплю, не надо, — сказала девушка.
— Вы у меня еще натерпитесь, — сказал капитан. — А пока не морочьте мне голову всякими штучками, пейте.
К вечеру ему удалось убить старого грача.
— Вы будете есть ворону? — спросила девушка.
— Это не ворона, а грач, — сказал капитан.
Он зажарил птицу на костре.
— Хотите? — предложил он половину птицы девушке.
— Ни за что! — с отвращением сказала она.
Капитан поколебался, потом задумчиво произнес:
— Пожалуй, это будет справедливо. — И съел всю птицу.
Закурив, он повеселел и спросил:
— Ну, как нога?
— Мне кажется, я смогла бы пройти немного, — ответила девушка.
— Это вы бросьте!
Всю ночь капитан тащил за собой лыжи, и девушка, кажется, дремала.
На рассвете капитан остановился в овраге.
Огромная сосна, вывернутая бурей, лежала на земле. Под мощными корнями оказалась впадина. Капитан выгреб из ямы снег, наломал ветвей и постелил на них плащ-палатку.
— Вы хотите спать? — спросила, проснувшись, девушка.
— Часок, не больше, — сказал капитан. — А то я совсем забыл, как это делается.
Девушка начала выбираться из своего спального мешка.
— Это еще что за номер? — спросил капитан, приподымаясь.
Девушка подошла и сказала:
— Я лягу с вами, так будет теплее. И накроемся мешком.
— Ну, знаете… — возмутился капитан.
— Подвиньтесь, — сказала девушка. — Не хотите же вы, чтобы я лежала на снегу… Вам неудобно?
— Подберите ваши волосы, а то они в нос лезут, чихать хочется, и вообще…
— Вы хотите спать — ну и спите. А волосы мои вам не мешают.
— Мешают, — вяло сказал капитан и заснул.
Шорох тающего снега, стук капель. По снегу, как дым, бродили тени облаков.
Капитан спал, прижав кулак к губам, и лицо у него было усталое, измученное. Девушка наклонилась и осторожно просунула свою руку под его голову.
С ветви дерева, склоненного над ямой, падали на лицо спящего тяжелые капли воды. Девушка освободила руку и подставила ладонь, защищая его лицо. Когда в ладони скапливалась вода, она осторожно выплескивала ее.
Капитан проснулся, сел и стал тереть лицо ладонями.
— У вас седина здесь, — сказала девушка. — Это после того случая?
— Какого? — спросил капитан, потягиваясь.
— Ну, когда вас расстреливали.
— Не помню, — сказал капитан и зевнул. Ему не хотелось вспоминать про этот случай.
Дело было так. В августе капитан подорвал крупный немецкий склад боеприпасов. Его контузило взрывной волной, неузнаваемо обожгло пламенем. Он лежал в тлеющей, черной одежде, когда немецкие санитары подобрали его и вместе с пострадавшими немецкими солдатами отнесли в госпиталь. Он пролежал три недели, притворяясь глухонемым. Потом врачи установили, что он не потерял слуха. Гестаповцы расстреляли Жаворонкова вместе с тремя немецкими солдатами-симулянтами. Ночью тяжело раненный капитан выбрался изо рва и полз двадцать километров до места явки.
Чтобы прекратить разговор, он спросил:
— Нога все болит?
— Я же сказала, что могу идти сама, — раздраженно ответила девушка.
— Ладно, садитесь. Когда понадобится, вы у меня еще побегаете.
Капитан снова впрягся в сани и заковылял по талому снегу.
Шел дождь со снегом. Ноги разъезжались. Капитан часто проваливался в выбоины, наполненные мокрой снежной кашей. Было тускло и серо. И капитан с тоской думал о том, удастся ли им переправиться через реку, вероятно, поверх льда уже покрытую водой.
На дороге лежала убитая лошадь.
Капитан присел возле нее на корточки, вытащил нож.
— Знаете, — сказала девушка, приподымаясь, — вы все так ловко делаете, что мне даже смотреть не противно.
— Просто вы есть хотите, — спокойно ответил капитан.
Он поджарил тонкие ломтики мяса, насадив их на стержень антенны, как на вертел.
— Вкусно? — удивилась девушка.
— Еще бы! — улыбнулся капитан. — Жареная конина вкуснее говядины.
Потом он поднялся и сказал:
— Я пойду посмотрю, что там, а вы оставайтесь.
— Хорошо, — согласилась девушка. — Может, это вам покается смешным, но одной мне оставаться теперь очень трудно. Я уже как-то привыкла быть вместе.
— Ну-ну! Без глупостей, — пробормотал капитан.
Но это больше относилось к нему самому, потому что он смутился.
Вернулся он ночью.
Девушка сидела на санях, держа пистолет в руке. Увидев капитана, она улыбнулась и встала.
— Садитесь, садитесь, — попросил капитан тоном, каким говорил всем курсантам, встававшим при его появлении.
Он закурил и сказал, недоверчиво глядя на девушку:
— Штука-то какая. Немцы недалеко отсюда аэродром оборудовали.
— Ну и что? — спросила девушка.
— Ничего, — ответил капитан. — Ловко очень устроили. — Потом серьезно спросил: — У вас передатчик работает?
— Вы хотите связаться? — обрадовалась девушка.
— И даже очень, — сказал капитан.
Михайлова сняла шапку, надела наушники. Через несколько минут она спросила, что передавать. Капитан присел рядом с ней. Стукнув кулаком по ладони, он сказал:
— Одним словом, так: карта раскисла от воды. Квадрат расположения аэродрома определить не могу. Даю координаты по компасу. Ввиду низкой облачности линейные ориентиры будут скрыты. Поэтому пеленгом будет служить наша рация на волне… Какая там у вас волна, сообщите.
Девушка сняла наушники и с сияющим лицом повернулась к капитану.
Но капитан, сворачивая новую цигарку, даже не поднял глаз.
— Теперь вот что, — сказал он глухо. — Рацию я забираю и иду туда. — Он махнул рукой и пояснил: — Чтобы быть ближе к цели. А вам придется добираться своими средствами. Как стемнеет окончательно, спуститесь к реке. Лед тонкий, захватите жердь. Если провалитесь, она поможет. Потом доползете до Малиновки, километра три, там вас встретят.
— Очень хорошо, — сказала Михайлова. — Только рацию вы не получите.
— Ну-ну, — сказал капитан, — это вы бросьте.
— Я отвечаю за рацию и при ней остаюсь.
— В виде бесплатного приложения, — буркнул капитан. И, разозлившись, громко произнес: — А я вам приказываю.
— Знаете, капитан, любой ваш приказ будет выполнен. Но рацию отобрать у меня вы не имеете права.
— Да поймите же вы!.. — вспылил капитан.
— Я понимаю, — спокойно сказала Михайлова. — Это задание касается только меня одной. — И, гневно глядя в глаза капитану, она сказала: — Вот вы горячитесь и беретесь не за свое дело.
Капитан резко повернулся к Михайловой. Он хотел сказать что-то очень обидное, но превозмог себя и с усилием произнес:
— Ладно, валяйте действуйте. — И, очевидно, чтобы как-нибудь отомстить за обиду, сказал: — Сама додуматься не могла, так теперь вот…
Михайлова насмешливо сказала:
— Я вам очень благодарна, капитан, за идею.
Капитан отогнул рукав, взглянул на часы.
— Чего ж вы сидите? Время не ждет.
Михайлова взялась за лямки, сделала несколько шагов, потом обернулась.
— До свидания, капитан!
— Идите, идите, — буркнул тот и пошел к реке…
Туманная мгла застилала землю, в воздухе пахло сыростью, и всюду слышались шорохи воды, не застывшей и ночью. Умирать в такую погоду особенно неприятно. Впрочем, нет на свете погоды, при которой это было бы приятно.
Если бы Михайлова прочла три месяца назад рассказ, в котором герои переживали подобные приключения, в ее красивых глазах наверняка появилось бы мечтательное выражение. Свернувшись калачиком под байковым одеялом, она представляла бы себя на месте героини; только в конце, в отместку за все, она непременно спасла бы этого надменного героя. А потом он влюбился бы в нее, а она не обращала бы на него внимания.
В тот вечер, когда она сказала отцу о своем решении, она не знала о том, что эта работа требует нечеловеческого напряжения сил, что нужно уметь спать в грязи, голодать, мерзнуть, уметь тосковать в одиночестве. И если бы ей кто-нибудь обстоятельно и подробно рассказал о том, как это трудно, она спросила бы просто:
— Но ведь другие могут?
— А если вас убьют?
— Не всех же убивают.
— А если вас будут мучить?
Она задумалась бы и тихо сказала:
— Я не знаю, как я себя буду держать. Но ведь я все равно ничего не скажу. Вы это знаете.
И когда отец узнал, он опустил голову и проговорил хриплым, незнакомым ей голосом:
— Нам с матерью теперь будет очень тяжело, очень.
— Папа, — звонко сказала она, — папа, ну ты пойми, я же не могу оставаться!
Отец поднял лицо, и она испугалась: таким оно стало измученным и старым.
— Я понимаю, — сказал отец. — Ну что ж, было бы хуже, если бы у меня была не такая дочь.
— Папа, — крикнула тогда она, — папа, ты такой хороший, что я сейчас заплачу!
Матери они утром сказали, что она поступает на курсы военных телефонисток.
Мать побледнела, но сдержалась и только попросила:
— Будь осторожнее, деточка.
На курсах Михайлова училась старательно, во время проверки знаний волновалась, как в школе на экзаменах, и была очень счастлива, когда в приказе отметили не только число знаков передачи, но и ее грамотность.
Оставшись одна в лесу в эти дикие, холодные и черные дни, она первое время плакала и съела весь шоколад. Но передачи вела регулярно, и хотя ей ужасно хотелось иногда прибавить что-нибудь от себя, чтобы не было так сиротливо, она не делала этого, экономя электроэнергию.
И вот сейчас, пробираясь к аэродрому, она удивилась, как все это просто. Вот она ползет по мокрому снегу, мокрая, с отмороженной ногой. А когда раньше у нее бывал грипп, отец сидел у постели и читал вслух, чтобы она не утомляла глаза. А мать с озабоченным лицом согревала в ладонях термометр, так как дочь не любила класть его под мышку холодным. И когда звонили по телефону, мать шепотом расстроенно сообщала: «Она больна». А отец заталкивал в телефон бумажку, чтобы звонок не тревожил дочь. А вот если немцы успеют быстро засечь рацию, Михайлову убьют.
Убьют ее, такую хорошую, красивую, добрую и, может быть, талантливую. И будет лежать она в мокром, противном снегу. На ней меховой комбинезон. Они, наверное, сдерут его. И она ужасалась, представляя себя голой, в грязи. На нее, голую, будут смотреть отвратительными глазами фашисты.
А этот лес так похож на рощу в Краскове, где она жила на даче. Там были такие же деревья. И когда жила в пионерском лагере, там были такие же деревья. И гамак был подвязан вот к таким же двум соснам-близнецам.
И когда Димка вырезал ее имя на коре березы, такой же, как вот эта, она рассердилась на него, зачем он покалечил дерево, и не разговаривала с ним. А он ходил за ней и смотрел на нее печальными и поэтому красивыми глазами. А потом, когда они помирились, он сказал, что хочет поцеловать ее. Она закрыла глаза и жалобно сказала: «Только не в губы». А он так волновался, что поцеловал ее в подбородок.
Она очень любила красивые платья. И когда однажды ее послали делать доклад, она надела самое нарядное платье. Ребята спросили:
— Ты чего так расфрантилась?
— Подумаешь, — сказала она. — Почему мне не быть красивой докладчицей?
И вот она ползет по земле, грязная, мокрая, озираясь, прислушиваясь, и волочит обмороженную, распухшую ногу.
«Ну, убьют. Ну и что ж! Ведь убили же Димку и других, хороших, убили. Ну и меня убьют. Я лучше их, что ли?»
Шел снег, хлюпали лужи. Гнилой снег лежал в оврагах. А она все ползла и ползла. Отдыхая, она лежала на мокрой земле, положив голову на согнутую руку.
Влажный туман стал черным, потому что ночь была черная. И где-то в небе плыли огромные корабли. Штурман командирского корабля, откинувшись в кресле, полузакрыв глаза, вслушивался в шорохи и свист в мегафонах, но сигналов рации не было.
Пилоты на своих сиденьях и стрелок-радист тоже вслушивались в свист и визг мегафонов, но сигналов не было. Пропеллеры буравили черное небо. Корабли плыли все вперед и вперед во мраке ночного неба, а сигналов не было.
И вдруг тихо, осторожно прозвучали первые позывные. Огромные корабли, держась за эту тонкую паутинку звука, разворачивались; ревущие и тяжелые, они помчались в тучах. Родной, как песня сверчка, как звон сухого колоса на степном ветру, как шорох осеннего листа, этот звук стал поводырем огромным стальным кораблям.
Командир соединения кораблей, пилоты, стрелки-радисты, бортмеханики — и Михайлова тоже — знали: бомбы будут сброшены туда, на этот родной, призывный клич рации. Потому что здесь — самолеты врага.
Михайлова стояла на коленях в яме, в черной тинистой воде, и, наклонившись к рации, стучала ключом. Тяжелое небо висело над головой. Но оно было пустым и безмолвным. В мягкой тине обмороженная нога онемела, боль в висках стискивала голову горячим обручем. Михайлову знобило. Она подносила руку к губам — губы были горячие и сухие. «Простудилась, — тоскливо подумала она. — Впрочем, теперь это не важно».
Иногда ей казалось, что она теряет сознание. Она открывала глаза и испуганно вслушивалась. В наушниках звонко и четко пели сигналы. Значит, рука ее помимо воли нажимала рычаг ключа. «Какая дисциплинированная! Вот и хорошо, что я пошла, а не капитан. Разве у него будет рука сама работать? А если бы я не пошла, то была бы сейчас в Малиновке, и, может быть, мне дали бы полушубок… Там горит печь… и все тогда было бы иначе. А теперь уже больше никого и ничего не будет… Странно, вот я лежу и думаю. А ведь где-то Москва. Там люди, много людей. И никто не знает, что я здесь. Все-таки я молодец. Может быть, я храбрая? Пожалуй, мне не страшно… Нет, это оттого, что мне больно, потому и не так страшно… Скорее бы только! Ну, что они, в самом деле! Неужели не понимают, что я больше не могу?»
Всхлипнув, она легла на откос котлована и, повернувшись на бок, продолжала стучать. Теперь ей стало видно огромное тяжелое небо. Вот его лизнули прожекторы, послышалось далекое тяжелое дыхание кораблей. И Михайлова, глотая слезы, прошептала:
— Милые, хорошие! Наконец-то вы за мной прилетели. Мне так плохо здесь. — И вдруг испугалась: «Что, если вместо позывных я передала вот эти слова? Что же они тогда про меня подумают?»
Она села и стала стучать раздельно, четко, повторяя вслух шифр, чтобы снова не сбиться.
Гудение кораблей все приближалось. Застучали зенитки.
— Ага, не нравится?
Она поднялась. Ни боли, ничего. Изо всех сил она стучала по ключу, словно не сигналы, а крик: «Бейте, бейте!» — высекала из ключа.
Рассекая черный воздух, ахнула первая бомба. Михайлова упала на спину от удара воздуха. Оранжевые пятна отраженного пламени заплескались в лужах. Земля сотрясалась от глухих ударов. Рация свалилась в воду. Михайлова пыталась поднять ее. Визжащие бомбы, казалось, летели прямо к ней в яму.
Она вобрала голову в плечи и присела, зажмурив глаза. Свет от пламени проникал сквозь веки. Дуновением разрыва в яму бросило колья, опутанные колючей проволокой. В промежутках между разрывами бомб на аэродроме что-то глухо лопалось и трещало. Черный туман вонял бензиновым чадом.
Потом наступила тишина, замолкли зенитки.
«Кончено, — с тоской подумала она. — Теперь я снова одна».
Она пыталась подняться, но ее ноги…
Она их совсем не чувствовала. Что случилось? Потом она вспомнила. Это бывает. Ноги отнимаются. Она контужена. Вот и все. Она легла щекой на мокрую глину. Хоть бы одна бомба упала сюда! Как все было бы просто… И она не узнала бы самого страшного.
«Нет, — решительно сказала себе она, — с другими было хуже, и все-таки уходили. Ничего плохого не должно случиться со мной. Я не хочу этого».
Где-то ворчал автомобильный мотор, и белые холодные лучи несколько раз скользнули по черному кустарнику, потом прозвучал взрыв, более слабый, чем разрыв бомбы, и совсем близко — выстрелы.
«Ищут. А лежать так хорошо. Неужели и этого больше не будет?»
Она хотела повернуться на спину, но боль в ноге горячим потоком ударила в сердце. Она вскрикнула, попыталась встать и упала.
Холодные твердые пальцы дергали застежку ее ворота.
Она открыла глаза.
— Это вы? Вы за мной пришли? — сказала Михайлова и заплакала.
Капитан вытер ладонью ее лицо, и она снова закрыла глаза. Идти она не могла. Капитан ухватил ее рукой за пояс комбинезона и вытащил наверх. Другая рука у капитана болталась, как тряпичная.
Она слышала, как сипели полозья саней по грязи.
Потом она увидела капитана. Он сидел на пне и, держа один конец ремня в зубах, перетягивал свою голую руку, а из-под ремня сочилась кровь. Подняв на Михайлову глаза, капитан спросил:
— Ну как?
— Никак, — прошептала она.
— Все равно, — сквозь зубы сказал капитан, — я больше никуда не гожусь. Сил нет. Попробуйте добраться, тут немного осталось.
— А вы?
— А я здесь немного отдохну.
Капитан хотел подняться, но как-то застенчиво улыбнулся и свалился с пня на землю.
Он был очень тяжел, и она долго мучилась, пока втащила его бессильное тело на сани. Он лежал неудобно, лицом вниз. Перевернуть его на спину она уже не могла.
Она долго дергала постромки, чтобы сдвинуть сани с места. Каждый шаг причинял нестерпимую боль. Но она упорно дергала за постромки и, пятясь, тащила сани по раскисшей, мокрой земле.
Она ничего не понимала. Сколько это может еще продолжаться? Почему она стоит, а не лежит на земле, обессиленная? Прислонившись спиной к дереву, она стояла с полузакрытыми глазами и боялась упасть, потому что тогда ей уже не подняться.
Она видела, как капитан сполз на землю, положил грудь и голову на сани. Держась за перекладину здоровой рукой, сказал шепотом:
— Так вам будет легче.
Он полз на коленях, полуповиснув на санях. Иногда он срывался, ударяясь лицом о землю. Тогда она подсовывала ему под грудь сани, и у нее не было сил отвернуться, чтобы не глядеть на его почерневшее, разбитое лицо.
Потом она упала и снова слышала сипение грязи под полозьями. Потом услышала треск льда. Она задыхалась, захлебывалась, вода смыкалась над ней. И ей казалось, что все это во сне.
Открыла она глаза потому, что почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Капитан сидел на нарах, худой, желтый, с грязной бородой, с рукою, подвешенной к груди и зажатой между двумя обломками доски, и смотрел на нее.
— Проснулись? — спросил он незнакомым, добрым голосом.
— Я не спала.
— Все равно, — сказал он, — это тоже вроде сна.
Она подняла руку и увидела, что рука голая.
— Это я сама разделась? — спросила она жалобно.
— Это я вас раздел, — сердито сказал капитан. И, перебирая пальцы на раненой руке, объяснил: — Мы же с вами вроде как в реке выкупались, а потом я думал, что вы ранены.
— Все равно, — сказала она тихо и посмотрела капитану в глаза.
— Конечно, — согласился он.
Она улыбнулась и сказала:
— Я знала, что вы вернетесь за мной.
— Это почему же? — усмехнулся капитан.
— Так, знала.
— Глупости, — сказал капитан, — ничего вы не могли знать. Вы были ориентиром во время бомбежки, и вас могли пристукнуть. На такой аварийный случай я разыскал стог сена, чтобы продолжать сигналить огнем. А во-вторых, вас запеленговал броневичок с радиоустановкой. Он там всю местность прочесал, пока я ему гранату не сунул. А в-третьих…
— Что в-третьих? — звонко спросила Михайлова.
— А в-третьих, — серьезно сказал капитан, — вы очень хорошая девушка. — И тут же резко добавил: — И вообще, где это вы слышали, чтоб кто-нибудь поступал иначе?
Михайлова села и, придерживая на груди ворох одежды, глядя сияющими глазами в глаза капитану, громко и раздельно сказала:
— А знаете, я вас, кажется, очень люблю.
Капитан отвернулся. У него побледнели уши.
— Ну, это вы бросьте.
— Я вас не так, я вас просто так люблю, — гордо сказала Михайлова.
Капитан поднял глаза и, глядя исподлобья, застенчиво сказал:
— А вот у меня часто не хватает смелости говорить о том, о чем я думаю, и это очень плохо.
Поднявшись, он опять сурово спросил:
— Верхом ездили?
— Нет, — сказала Михайлова.
— Поедете, — сказал капитан.
— Гаврюша, партизан, — отрекомендовался заросший волосами низкорослый человек с веселыми прищуренными глазами, держа под уздцы двух костлявых и куцых немецких гюнтеров. Поймав взгляд Михайловой на своем лице, он объяснил: — Я, извините, сейчас на дворняжку похож. Прогоним немцев из района — побреюсь. У нас парикмахерская важная была. Зеркало — во! В полную фигуру человека.
Суетливо подсаживая Михайлову в седло, он смущенно бормотал:
— Вы не сомневайтесь насчет хвоста. Конь натуральный. Это порода такая. А я уж пешочком. Гордый человек, стесняюсь на бесхвостом коне ездить. Народ у нас смешливый. Война кончится, а они все дразнить будут.
Розовое и тихое утро. Нежно пахнет теплым телом деревьев, согретой землей. Михайлова, наклонясь с седла к капитану, произнесла взволнованно:
— Мне сейчас так хорошо. — И, посмотрев в глаза капитану, потупилась и с улыбкой прошептала: — Я сейчас такая счастливая.
— Ну еще бы, — сказал капитан, — вы еще будете счастливой.
Партизан, держась за стремя, шагал рядом с конем капитана; подняв голову, он вдруг заявил:
— Я раньше куру не мог зарезать. В хоре тенором пел. Пчеловод — профессия задумчивая. А теперь сколько я этих гитлеровцев порезал! — Он всплеснул руками. — Я человек злой, обиженный!
Солнце поднялось выше. В бурой залежи уже просвечивали радостные, нежные зеленя. Немецкие лошади прижимали уши и испуганно вздрагивали, шарахаясь от гигантских деревьев, роняющих на землю ветвистые тени.
Когда капитан вернулся из госпиталя в свою часть, товарищи не узнали его. Такой он был веселый, возбужденный, разговорчивый. Громко смеялся, шутил, для каждого у него нашлось приветливое слово. И все время искал кого-то глазами. Товарищи, заметив это, догадались и сказали, будто невзначай:
— А Михайлова снова на задании.
На лице капитана на секунду появилась горькая морщинка и тут же исчезла. Он громко сказал, не глядя ни на кого:
— Боевая девушка, ничего не скажешь. — И, одернув гимнастерку, пошел в кабинет начальника доложить о своем возвращении.
1942

Вадим Кожевников. «Март — апрель».
Художник П. Пинкисевич.
ЯАККО РУГОЕВ
ВСЯ ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ…
Не успел Алекси Васара привести себя в человеческий вид — подшить подворотничок к выданной после бани стираной гимнастерке, начистить сапоги и соскоблить с лица недельную щетину, — как в зеркальце рядом с выбритой левой щекой появилось знакомое лицо со щегольскими усиками — адъютант батальона! И место — на дне оврага у порожистого ручья, и день — в самом своем летнем накале, сверкающий солнечной радостью, не располагали к будничности. В мыслях, пришедших после десятичасового каменно-жесткого сна в землянке, было навести глянец и, отпросившись у помкомвзвода, пойти размягчить душу, задубевшую в долгодневных переходах по ту сторону фронта. Пойти, что ли, к телефонисткам за новостями?
Но Васара знал, что означает появление в разведвзводе этого человека с двумя кубиками на петлицах. Он с усилием стряхнул с себя благодушие. Вскочил с камня у ручья, обернулся к штабисту и замер, держа бритву в опущенной руке.
— Сиди, сиди, брейся, — успокоил его лейтенант, усмехаясь и, видимо, догадываясь о его состоянии. — Придешь в штаб в четырнадцать ноль-ноль. — И прибавил мягко, как бы извиняясь: — Что поделаешь, Васара, кроме тебя, никого ведь не осталось… из старичков.
И повернулся идти, но замялся, сунул руку в карман, достал треугольник письма и положил его на камень у зеркальца.
— Слушаюсь, товарищ лейтенант… — растерянно ответил Васара.
Алекси Васара сидел, уткнувшись в зеркальце, и, добривая намыленную щеку, скользил глазом по письму.
Письмо было от матери. Корявые строчки ползли, как в тумане. Слепило солнце. Голос матери заглушало рокотанье ручья. Алекси провел рукавом по глазам.
«…А еще я, сынок, видела сон, что ты вернулся домой и говоришь: „Мы пришли с задания, и нас наградили маленькими домиками…“ Хорошо, что ты смелый, сынок, но береги себя, вся жизнь у тебя впереди…»
И как будто уже не было по-мирному светлого летнего дня. Где-то там, куда убегал ручей, Алекси слышались рявканье пушек и дробные звуки пулеметных очередей. Даже минутные паузы, казалось, были напряжены до отчаяния, до предела насыщены ожиданием новых взрывов.
Группа сержанта Алекси Васары четвертые сутки ходила по тылам противника. Удачно миновали стыки на линии фронта, но на другой день, когда подслушивали телефонные разговоры финнов, напоролись на патруль из трех человек. Завязалась перестрелка, два вражеских солдата полегли, третий ушел. У одного убитого нашли планшет с картой. Но «языка» взять так и не удалось, да к тому же еще целых два дня пришлось петлять, скрываясь от наседавших преследователей. Провизия кончалась.
Совсем неожиданно набрели на озеро, просвечивавшее сквозь стволы сосен. Спустились к воде и тут только заметили рыболовов на том берегу. Два финских солдата как раз забрасывали блесну. Они тоже заметили их. Васара в первую минуту растерялся, но потом тихо сказал своим:
— Придется тоже… рыбачить.
— Кто там воду мутит?! — крикнули с того берега.
— Свои! Такие же Ерму,[87] как вы! — в тон им ответил Васара, прикрепляя леску к удилищу.
Разведчики как ни в чем не бывало принялись удить, косясь на противоположный берег. Там вдруг забеспокоились, стали подавать друг другу какие-то знаки. Высокий финн взял автомат, прислоненный к сосне, и крикнул:
— Идите сюда! Тут на горке варится кофе! Зажарим окуней…
Со склона горы в самом деле лез в небо тонкий дымок, и у костра перед котелком сидел третий солдат.
— Сейчас! — прокричал в ответ Алекси Васара. — Только вытащим несколько рыбешек!
Парни шли по берегу не торопясь, время от времени вытягивая из воды на кочки трепещущих окуней. Расстояние до финнов все сокращалось, напряжение нарастало.
Разведчики, в своих маскировочных костюмах и рыжих пиексах,[88] с автоматами «суоми» на ремнях, держались уверенно и спокойно, так что финские солдаты, видимо, поверили, что имеют дело со своими. Верзила с ленточками капрала снова повесил свой автомат на ветку сосны. Алекси оказался с ним нос к носу.
— Откуда и куда путь держите? — спросил капрал.
— Из интендантской шараги капитана Корхопена. Капитанишка послал поохотиться на лосей, они захаживают сюда щипать хвощ.
— Да, протоптали сюда тропу.
— А вы чем занимаетесь?
— Мы в полевом карауле. Говорят, Иван опять фронт перешел.
— Да ну вас! — рассмеялся Алекси. — Думаете, он придет с вами кофе пить?
— А нам и так хорошо тут филонить.
Все вместе отправились к костру. Капрал даже автомат забыл на ветке. Окуней, что покрупнее, почистили и положили на уголья.
Бородатый солдат напустил на себя благочестивый вид:
— Отче наш в офицерском мундире, смети с лица земли мои солдатские шмотки, не води нас в полевой караул, отпусти в гражданку! Прости нам наши просроченные отпуска, как и мы прощаем грехи тем, кто нас в землю вгоняет и портит наши желудки плохой жратвой…
— Жратва, солдат, что надо, конина наша отрада… — мурлыкал другой, складывая испеченных окуней на берегу.
Вскоре принялись за рыбу. Запивали ее густым кофейным суррогатом. Закурили дешевые тонкие папиросы и принялись ругать большое начальство. Алекси старался направлять разговор так, чтобы финны говорили о фронтовой жизни…
Бородатый солдат, недавно вернувшийся из отпуска, рассказывал, зло сплевывая:
— Невтерпеж стало, одно похабство в тылу. Немчура распутничает и ворует — все прячь. В отпуске купил ведро и поставил на крыльцо. Не успел зайти во двор, гляжу — нет. Аккурат два фрица проходили…
Солдат с дорогим перстнем на пухлом пальце, варивший кофейный суррогат, сухо возразил:
— Смешно осуждать солдата на чужбине за мелкие любовные грешки. Немцы наши союзники и ведут себя по-братски.
— И по-братски лапают твою девчонку, — издевался бородатый.
— Уж конечно, не без этого, — добавил Алекси и подмигнул капралу. — А что, кап, не податься ли нам в лесную гвардию?
— Что вы за дерьмо такое! А кто пограничные столбы на Урале будет ставить?! — вскочил тот, что был с перстнем.
— Спасибо за комплимент и угощение. А дерьмо не ворошите, чтобы вони не было!
Алекси Васара взял автомат наизготовку, его парни тоже, финские солдаты выронили кружки с кофе.
— Бросьте эти шутки!
— Идемте ставить пограничные столбы на Урале!
Капрал кинулся к автомату на сосне, но растянулся от подножки Алекси. Обладатель перстня рванул было с пояса гранату на длинной ручке. Один из разведчиков, Яковлев, не дал ему размахнуться, сгреб, отнял гранату. Бородатый поднял руки сразу.
Группа немедленно двинулась в путь. Прошли по какой-то тыловой дороге и снова встретили патруль. Началась погоня. Чтобы сократить время, Алекси выбрал путь напрямик к линии фронта.
Надо было пройти через узкий перешеек между двумя озерами. Впереди были свои.
Сзади раздался выстрел и залаяла собака.
Ускорили шаг. Бородатый, как видно, сильно устал. Перебегали цепочкой, тяжело дыша. Надо проскочить пустошь с редкими сосенками. Не успели разведчики миновать открытое место, как с опушки раздались автоматные очереди. Группа залегла и открыла ответный огонь.
— Лесосен, Карху, Егоров! Вот карта и планшет. Пленных и сведения доставить любой ценой! — Алекси коснулся плеча Карху, и тот оглянулся, осунувшийся, совсем мальчишка, если б не пышные усы до самых скул. — Назначаю тебя старшим. Яковлев останется со мной.
— Возьми и меня, Алекси, — проворчал Карху.
— Младший сержант Карху! Ступай! — хрипло отрезал Алекси.
Карху схватил планшет и подтолкнул капрала. Тот пополз к перешейку, стал перелезать через камень и вдруг, дернувшись, упал навзничь. Полоска крови темнела у него на виске. Оглушающе, под самым ухом, застрекотал автоматом Яковлев. Алекси поймал на мушку нечетко вырисовавшуюся серую фигуру на опушке…
Трое разведчиков и два пленных финна, накрытые огнем, уползали все дальше, раскачивая заросли вереска.
Судя по тому, что противник перенес весь огонь на них, Алекси и Яковлева, группа уже перебралась за перешеек. Пора было уходить и им.
Они отходили поодиночке — один полз, другой отстреливался. Пуля, рикошетом от камня, ранила Яковлева в подбородок. Он приложил к лицу пучок мха и продолжал стрелять. Когда Алекси пополз, послышались выстрелы слева, от озера. «Окружают», — мелькнуло у него в голове. Алекси бил из укрытия и по опушке, и в сторону озера, перебегая от камня к камню. Оглянулся на товарища. Вдруг почувствовал, что на голове нет пилотки. То ли потерял, то ли сорвало пулей…
У самого каменного гнезда, в котором уже укрылся Алекси, Яковлева ранило снова. Сержант вскочил и перетащил его в укрытие. «Мне каюк… Возьми гранаты», — простонал Яковлев. Через минуту он скончался.
Алекси отцепил мешочек с гранатами с пояса убитого, разбил его автомат о валун.
Прислушался. Тихо, не стреляют, только тяжело стучит собственное сердце.
И вдруг совсем рядом по-фински: «Рюсся, сдавайся, сбережешь кочан!» Примерно то же самое — на ломаном русском языке… Алекси достал из мешочка две оставшиеся гранаты и положил перед собой.
Кусты метрах в тридцати закачались.
— Где ты, червяк? Куда уполз? — послышался голос.
— У него вроде кончились патроны… — ответил ему другой.
— Сдавайся!
…Алекси помнил, как швырнул в кустарник одну и другую гранату. Тотчас несколько десятков пуль кипящими брызгами взметнулись над камнями. Вдруг откуда-то сбоку раздался треск автоматов, и обратный ливень понесся в финских солдат.
Алекси уже не видел, как отходили преследователи. К месту боя подоспели красноармейцы, встретившие Карху. Они обнаружили труп Яковлева, решили, что он-то и бросил гранаты. Стали искать сержанта Васару, но нашли только его пилотку.
…Алекси проснулся в ознобе. Он лежал в зарослях тростника, на бревнах, увязших в иле. Заходящее солнце еще освещало вершины деревьев. Шуршал тростник, над озером стелился туман.
Первой его мыслью было добраться до берега. Но стоило шелохнуться, как тупая боль свела мышцы, судорогой отозвалась в икре. Левой ногой еще можно было кое-как шевелить, хотя жгло колено. Правую он не чувствовал — как отрезали.
Он напрягся, приподнялся и тут же упал всем телом в неглубокую воду. Руки тонули в тине; после мучительных усилий он выволок онемевшее тело к берегу.
Перед глазами стояла красная пелена. Рука случайно нащупала куст брусники. Наклонившись, Алекси стал искать ягоды губами. Разжевал. Сочная кисловатая мякоть освежала горло, бодрила.
Потом он ощутил тяжесть на спине, закинул руку — автомат. Перетянул его на бок, осмотрел диск: ни одного патрона. Алекси вывернул карманы, и на мох выпали смятый спичечный коробок, два размокших сухаря и несколько патронов в табачной крошке. Вставил патроны в диск автомата, сухари завернул в платок и, едва поборов искушение сейчас же впиться в них зубами, сунул в карман. Попытался стащить сапог с онемевшей ноги, но от напряжения и боли едва не потерял сознание. Нога была, видимо, сломана. Тогда он мало-помалу дотянулся до ольхи, выломал две палки и, приложив к ноге, стянул ремнем.
Надо было решать, что дальше… На том берегу свои. Связать плот? Невозможно, у него не хватит сил… Ползти вдоль озера?
Оставаться здесь, на берегу, значило умереть. Алекси заскрипел зубами, руки его сжались в кулаки, и он посмотрел на них. Две здоровые руки! Закинул автомат за спину, ухватился за ближайший сосновый сук и подтянулся к нему. С каждым толчком, волоча по земле туловище и ноги, он отползал от берега.
Давно познавший лес и нелегкий промысел охотника и лесоруба, Алекси Васара отгонял от себя все, что могло вселить отчаяние. В это туманное утро он как бы постепенно входил в новый, медлительный, но неуклонный ритм. Там, за озером, свои… Ползти, ползти, ползти…
Порой приходилось поднимать голову, чтобы видеть, куда ползешь. Это изматывало. Он валился на мох, на истлевшие сучья, на жесткий ягель, покрывавший камни. Лежал, раскинув руки, и глотал воздух.
Где-то в полутьме леса он остро ощутил запах прели и еще чего-то горьковато-пряного, напоминавшего детство, мать с кошелем морошки. «Вся жизнь… впереди…» — беззвучно, одними губами повторил Алекси и сразу пополз, словно утолил жажду.
Вдруг он услышал шелест вереска и, подняв голову, почувствовал толчок. Глаза его расширились, рука потянулась к автомату. Около его ног лежал тот самый финский капрал! Он лежал на животе, и лопатки его вздымались от дыхания. Вот он повернул голову, узнал Алекси и, вздрогнув, вцепился ему в ногу. От страшной боли Алекси выпустил автомат и повалился навзничь.
— Отпусти, дьявол, или убей! — вскрикнул он, схватился за куст и вывернулся.
Теперь они лежали лицом к лицу. Лица их были искажены гримасой боли и ожесточения. Оба тяжело дышали, ни один не шевелился, собираясь с силами и сверля глазами недруга.
На щеках капрала была маска запекшейся крови, на виске — черная бороздка от пули.
«Значит, вчера этот черт только сознание потерял, — подумал Алекси. — Он плох… не держит голову прямо. Он не может стоять…»
Алекси стал подниматься на локтях. Капрал черепахой отполз в сторону, в вереск.
— Стой! — прохрипел Алекси.
— Слушай, разойдемся по-мирному, — выдохнул финн.
Алекси рванул из-за спины автомат.
— Это ты зря… Магазин потерял, — спокойно сообщил капрал.
Алекси провел ладонью по ложе и выругался.
Капрал успел отползти на целую сажень. Алекси резко, двумя рывками подволок себя к нему. Капрал пытался вырваться, тянул руку к кожаным ножнам, но финки не было. Наконец Алекси удалось обхватить его запястья. Оба задыхались.
Капрал успокоился немного, уткнулся подбородком в камень.
Алекси увидел его затылок, и руки его разжались, он тоже бессильно привалился к земле.
Слышно было, как где-то у берега на озере плеснулась крупная рыба. В вышине шумела сосна.
— Ну что? — спросил капрал, все еще припав ухом к земле и словно прислушиваясь. — Закурим? У меня, кажется, есть.
Алекси не ответил, глядя, как тот, пыхтя, выворачивает карман. Вытащил помятую коробку, спички и положил все перед сержантом. Зажег папиросу. У Алекси защекотало в носу. Невозможно было отказаться, и он тоже взял из коробки папиросу, последнюю. Табак оглушал и пьянил, но через минуту слабость прошла.
— Нам нечего делить, — заговорил капрал. — Разойдемся… каждый к себе.
— Ты пленный…
— Такой же, как ты…
— …и пойдешь, куда поведут.
— На распятие?
— У нас пленных не мучают.
— Знаем мы…
— Плохо знаете. — Алекси с трудом сел, махнув рукой. — Двигай…
— Не могу… Мочи нет…
— Пойдешь…
Огонек надежды, появившийся в глазах капрала во время перекура, погас.
— Не могу. Голова кружится.
— Ползи…
Капрал пополз, перебирая руками.
— Не торопись. Будешь помогать мне. — И Алекси вцепился пальцами в широкое голенище его сапога.
Так они ползли друг за другом. Несколько рывков — и отдых. Тяжелая одышка надолго приковывала к земле обоих. В эти минуты или часы Алекси начинало казаться, что за деревьями мелькают пестрые платья женщин и он их знает — они из его деревни. Они что-то собирают и все приближаются, и вот над ним иссеченное морщинами лицо, и чья-то рука подносит к его губам липпи[89] с водой… «Пей… Будешь жить…» — произносит женщина, и Алекси очнулся.
На какой-то поляне, где лежали истлевшие деревья, капрал вдруг замер. Алекси потряс его за ногу, но он не шелохнулся. Алекси поравнялся с ним и увидел, что капрал впал в забытье. Из раны на виске капала кровь. Над головой, опьяненная запахом крови, жужжала муха.
Алекси подполз к ольховому кусту, сорвал лист и заклеил им рану капрала. Сам вытянулся рядом. Силы были на исходе, невозможно было оторваться от земли…
Когда он проснулся, был поздний вечер. Тело словно налито свинцом, трудно даже повернуть голову.
Капрал лежал рядом на спине. Он был жив и тоже проснулся. Уставясь в небо мутным взглядом, он о чем-то думал.
Думал он, будто медлительно кому-то рассказывал, примерно так: «Стоит ли продолжать? Если узнают, что я из отряда лейтенанта Солкинуоры, этого достаточно. Убьют… Хотя я-то и не убивал никого… Убивал лейтенант Солкинуора. Вырезал пятиконечные звезды на живом теле, показывал всем отрубленную голову красного солдата… Это он… получил пулю в затылок. Пулю от своих. Из чьей винтовки? Не из моей ли „лайки“?[90] Об этом никто никогда не узнает. Но как же долго мы терпели эту тварь».
Услышав шорох, капрал повернул голову.
Алекси непослушными пальцами разминал суставы.
— Вставай, надо ползти.
— Не ходок я, прикончи уж сразу.
— Не болтай зря. Надо ползти, — сказал Алекси, сунул руку в карман и вытащил завернутые в платок два сухаря. Взял один и разломил пополам.
— Бери.
Капрал не откликнулся.
— Бери, бери.
— Зачем?
— Ешь.
Капрал взял. Оба медленно грызли сухарь. Капралу, видно, и жевать было трудно.
— Больно?
— В котелке вроде щель, хотя мозги еще не вытекли.
— Как зовут?
— Пекка Хювяринен.
— Откуда?
— Из Каяпи.
— Вот как… — Алекси хотел сказать, что туда, на ярмарку в Каяпи, карельские мужики когда-то возили подводы с дичью, но Хювяринен произнес:
— Плотник я.
— Рабочий?
— Разве не видно… — Капрал показал ладони.
— Какой же черт принес тебя сюда, в карельские леса? Что, своих мало?
— Солдата не спрашивают… Закон войны…
— Сколько наших убил? — зло спросил Алекси.
— Не считал.
— Г…к! А еще рабочий. Из тех же… задолизов Гитлера…
Капрал перестал жевать. Сорвал приставший к рапе листок и зашипел:
— Слушай, ты… полегче… — Русая щетина у него на подбородке дрожала. — У меня отца в восемнадцатом лахтари[91] убили… До сих пор дразнят красным…
Алекси помолчал. Потом медленно сказал:
— А моего они расстреляли… на собственной пашне… По эту сторону границы, в Карелии… И вот вы, сыновья красных, пришли сюда стрелять в нас, сыновей красных.
— Закон войны… Каждому жизнь дорога… Отпусти ты меня, парень… повидать бы жену, сына… Зачем ведешь на гибель…
— Ползи. Если жизнь дорога, — буркнул Алекси и усмехнулся. — На погибель… Кончилась для тебя война, кореш. Пайка русского хлеба и крыша над головой обеспечены. Если доползем, конечно…
И они снова начали свой тяжкий рабочий день. Вернее, не день, днем они спали, одурманенные солнечным теплом. К вечеру просыпались от холода, съедали по крохе сухаря и ползли. Усталое, изломанное тело часто отказывалось повиноваться, и тогда приходилось копить силы для двух-трех бросков вперед.
Алекси следил за берегом озера; озеро было вехой в пути. Потеряешь его и собьешься… Иногда казалось, что вообще осталось только одно чувство — зрение. Лишь когда Алекси приникал лицом к твердой земле, ему мерещились отзвуки далекой канонады.
Однажды в низине они уткнулись в родник. Алекси заметил его, когда при мягком свете белой ночи увидел в нем свое отражение.
Он вздрогнул: из воды смотрело на него незнакомое, искаженное болью лицо, глубоко запавшие глаза и ввалившиеся щеки. Тут упорно сдерживаемое отчаяние прорвалось в нем и заговорило своим змеиным, безжалостным языком: «Кто ты, мертвец? Куда ползешь? Зачем? Лес все равно станет твоей могилой. Истлеешь, как эти упавшие деревья. Смирись, дай отдых костям…»
Злым, исступленным взмахом кулака Алекси разбил зеркало воды. Лицо обдало брызгами, мутная пелена затянула родник, но вода вновь успокоилась, и то, что увидел он, уже не страшило. Напротив, вселяло надежду. Два человека, два изможденных, обросших щетиной человека тянулись к одной, бурлящей на дне лесной чаше. И губы его тотчас коснулись ледяной воды, и он пил медлительно, долго, втягивая ее, как олень.
А рядом с ним прильнул к роднику другой, такой же жаждущий человек, который в эту минуту уже ощутил себя как бы иным, готовым ползти и ползти за этим парнем и доверить ему себя всего.
Утолив жажду и отдышавшись, Пекка Хювяринен уже не думал о смерти. Ему жадно захотелось жить, жить и жевать свою пайку хлеба, и пусть этот хлеб называется русским хлебом, — он не осквернил его. Лишь бы пришло наконец время, когда он увидит свою Айникки и сына Маркку. Ему даже казалось, что он слышит голос бледного жестковолосого мальчишки, читавшего нараспев:
В наследство тебе оставляю, сынок,
отчизну, и домик рыбачий, и берег,
пустые карманы, быть честным зарок
и веру в создателя, крепкую веру…[92]
Перкеле![93] Тогда это тронуло его до слез. Не проронив ни слова, сидел он и слушал сына. Вот наваждение! У него никогда не было рыбачьего домика, не было берега, с которого он мог бы ловить рыбу… Берегов хватило бы всем, но была рыбная полиция и нещадно штрафовала — стоило лишь закинуть леску в чужие воды… Пустые карманы — это да, было… А потом… потом он оказался здесь, в карельских лесах… Закон войны?.. Кто его выдумал, не такой ли гад, как Солкинуора? Будь он проклят! Будь проклят и пусть сам отвечает за свои злодеяния, если есть на свете божья кара!
Мятежные мысли Хювяринена прервал стон задремавшего спутника. Капрал протянул руку и убрал камень у него из-под ноги. Алекси проснулся и приподнялся на локтях. Тянуло холодком родника. Берег озера просвечивал справа, слева шумел лес. Свои высоты виднелись впереди.
Алекси взглянул на Хювяринена.
— Пора в путь, Пекка.
Теперь Алекси полз впереди, Пекка за ним. Было много еще упорного нечеловеческого напряжения, и берег озера остался позади.
Когда сержант Алекси Васара выполз утром в полосе тумана прямо на свои позиции, он уже не узнавал людей. Позади него на болоте заметили еще одного оборванного человека в рыжих пиексах. Солдаты несли Алекси к землянке, а он в беспамятстве двигал руками и бормотал:
— Пекка, не отставай… заблудишься… Вся жизнь впереди…
1942–1967
КОНСТАНТИН СИМОНОВ
ПЕХОТИНЦЫ
Шел седьмой или восьмой день наступления. В четвертом часу утра начало светать, и Савельев проснулся. Спал он в эту ночь, завернувшись в плащ-палатку, на дне отбитого накануне поздно вечером немецкого окопа. Моросил дождь, но стенки окопа закрывали от ветра, и хотя было и мокро, однако не так уж холодно. Вечером не удалось продвинуться дальше, потому что вся лощина впереди покрывалась огнем неприятеля. Роте было приказано окопаться и ночевать тут.
Разместились уже в темноте, часов в одиннадцать вечера, и старший лейтенант Савин разрешил бойцам спать по очереди: один боец спит, а другой дежурит. Савельев, по характеру человек терпеливый, любил откладывать самое хорошее «напоследки» и потому сговорился со своим товарищем Юдиным, чтобы тот спал первым. Два часа, до половины второго ночи, Савельев дежурил в окопе, а Юдин спал рядом с ним. В половине второго он растолкал Юдина, тот поднялся, а Савельев, завернувшись в плащ-палатку, заснул. Он проспал почти два с половиной часа и проснулся оттого, что стало светать.
— Светает, что ли? — спросил он у Юдина, выглядывая из-под плащ-палатки не столько для того, чтобы проверить, действительно ли светает, сколько для того, чтобы узнать, не заснул ли Юдин.
— Начинает, — сказал Юдин голосом, в котором чувствовался озноб от утренней свежести. — А ты давай спи пока.
Но спать не пришлось. По окопу прошел их взводный, старшина Егорычев, и приказал подниматься.
Савельев несколько раз потянулся, все еще не вылезая из-под плащ-палатки, потом разом вскочил.
Пришел командир роты старший лейтенант Савин, он с утра обходил все взводы. Собрав их взвод, он объяснил задачу дня: надо преследовать противника, который за ночь отступил, наверное, километра на два, а то и на три, и надо опять его настигнуть. Савин обычно говорил про немцев «фрицы», но когда объяснял задачу дня, то неизменно выражался о них только как о противнике.
— Противник, — говорил он, — должен быть настигнут в ближайший же час. Через пятнадцать минут мы выступим.
Встав в окопе, Савельев старательно подогнал снаряжение. А было на нем, если считать автомат, да диск, да гранаты, да лопатку, да неприкосновенный запас в мешке, без малого пуд, а может, и пуд с малым. На весах он не взвешивал, только каждый день прикидывал на плечах, и, в зависимости от усталости, ему казалось то меньше пуда, то больше.
Когда они выступили, солнце еще не показывалось. Моросил дождь. Трава на луговине была мокрая, и под ней хлюпала раскисшая земля.
— Ишь какое лето паскудное! — сказал Юдин Савельеву.
— Да, — согласился Савельев. — Зато осень будет хорошая. Бабье лето.
— До этого бабьего лета еще довоевать надо, — сказал Юдин, человек смелый, когда дело доходило до боя, но склонный к невеселым размышлениям.
Они спокойно пересекли ту самую луговину, через которую вчера никак нельзя было перейти. Сейчас над всей этой длинной луговиной было совсем тихо, никто ее не обстреливал, и только частые маленькие воронки от мин, то и дело встречавшиеся на дороге, размытые и наполненные дождевой водой, напоминали о том, что вчера здесь шел бой.
Минут через двадцать, пройдя луговину, они дошли до леска, у края которого была линия окопов, оставленных немцами ночью. В окопах валялось несколько банок от противогазов, а там, где стояли минометы, лежало полдюжины ящиков с минами.
— Все-таки бросают, — сказал Савельев.
— Да, — согласился Юдин. — А вот мертвых оттаскивают. Или, может быть, мы никого вчера не убили?
— Быть не может, — возразил Савельев. — Убили.
Тут он заметил, что окоп рядом засыпан свежей землей, а из-под земли высовывается нога в немецком ботинке с железными широкими шляпками на подошве, и сказал:
— Оттаскивать не оттаскивают, а вот хоронить хоронят, — и кивнул на засыпанный окоп, откуда торчала нога.
Они оба испытали удовлетворение оттого, что Савельев оказался прав. Захватив немецкие позиции и понеся при этом потери, было бы досадно не увидеть ни одного мертвого врага. И хотя они знали, что у немцев имеются убитые, все-таки хотелось убедиться в этом своими глазами.
Через лесок шли осторожно, опасаясь засады. Но засады не оказалось.
Когда они вышли на другую опушку леса, перед ними раскинулось открытое поле. Савельев увидел: впереди, в полукилометре, идет разведка. Но ведь немцы могли ее заметить и пропустить, а потом ударить минами по всей роте. Поэтому, выйдя на поле, бойцы по приказанию старшего лейтенанта Савина развернулись редкой цепью.
Двигались молча, без разговоров. Савельев ждал, что вот-вот может начаться обстрел. Километра за два впереди виднелись холмы. Это была удобная позиция, и там непременно должны были сидеть немцы.
В самом деле, когда разведка ушла еще на километр вперед, Савельев сначала увидел, а потом услышал, как там, где находились разведчики, разорвалось сразу несколько мин. И тут же по холмам ударила наша артиллерия. Савельев знал, что, пока нашей артиллерии не удастся подавить эти немецкие минометы или заставить их переменить место, они не перестанут стрелять. И, наверное, перенесут огонь и будут пристреливаться по их роте.
Чтобы к этому моменту пройти как можно больше, Савельев и все остальные бойцы пошли вперед быстрее, почти побежали. И хотя до сих пор вещевой мешок оттягивал Савельеву плечи, сейчас, под влиянием начавшегося возбуждения боя, он почти забыл об этом.
Они шли еще минуты три или четыре. Потом где-то неподалеку за спиной Савельева разорвалась мина, и кто-то справа от него, шагах в сорока, вскрикнул и сел на землю.
Савельев обернулся и увидел, как Юдин, который был в одно и то же время бойцом и санитаром, сначала остановился, а потом побежал к раненому.
Следующие мины ударили совсем близко. Бойцы залегли. Когда они вновь вскочили, Савельев успел заметить, что никого не задело.
Так они несколько раз ложились, поднимались, перебегали и прошли километр до маленьких пригорков. Здесь притаилась разведка. В ней все были живы. Противник вел переменный, то минометный, то пулеметный огонь. Савельеву и его соседям повезло: там, где они залегли, оказались не то что окопы, но что-то вроде них (наверное, их тут начали рыть немцы, а потом бросили). Савельев залег в начатый окоп, отстегнул лопатку, подрыл немного земли и навалил ее перед собой.
Наша артиллерия все еще сильно била по холмам. Немецкие минометы один за другим замолкли. Савельев и его соседи лежали, каждую минуту готовые по команде двинуться дальше. До холмов, где находились немцы, оставалось метров пятьсот по совсем открытому месту. Минут через пять после того, как они залегли, вернулся Юдин.
— Кого ранило? — спросил Савельев.
— Не знаю его фамилии, — ответил Юдин. — Этого, маленького, который вчера с пополнением пришел.
— Сильно ранило?
— Да не так, чтобы очень, а из строя выбыл.
В это время над их головами прошли снаряды «катюш», и сразу холмы, на которых засели немцы, заволоклись сплошным дымом. Видимо, этой минуты и выжидал предупрежденный начальством старший лейтенант Савин. Как только прогремел залп, он передал по цепи приказание подниматься.
Савельев с сожалением поглядел на мокрый окоп и сдвинул с шеи ремень автомата. Несколько минут Савельев, как и другие, бежал, не слыша ни одного выстрела. Когда же до холмиков осталось всего метров двести, а то и меньше, оттуда сразу ударили пулеметы, сначала один — слева, а потом два других — из середины. Савельев с размаху бросился на землю и только тогда почувствовал, что он совсем задохнулся от тяжелого бега и сердце его колотится так, словно ударяет прямо о землю. Кто-то сзади (кто — Савельев в горячке не разобрал), не успевший лечь, закричал не своим голосом.
Над головой Савельева прошел сначала один, потом другой снаряд. Не отрываясь от земли, проведя щекой по мокрой траве, он повернул голову и увидел, что позади, шагах в полутораста, стоят наши легкие пушки и прямо с открытого поля бьют по немцам. Просвистел еще один снаряд. Немецкий пулемет, который бил слева, замолчал. И в тот же момент Савельев увидел, как старшина Егорычев, лежавший через четыре человека слева от него, не поднимаясь, взмахнул рукой, показал ею вперед и пополз по-пластунски. Савельев последовал за ним. Ползти было тяжело, место было низкое и мокрое. Когда он, подтягиваясь вперед, ухватывался за траву, она резала пальцы.
Пока он полз, пушки продолжали посылать снаряды через его голову. И хотя впереди немецкие пулеметы тоже не умолкали, но от этих своих пушечных выстрелов ему казалось, что ползти легче.
Теперь до немцев было рукой подать. Пулеметные очереди шевелили траву то сзади, то сбоку. Савельев прополз еще шагов десять и, наверное, так же как и другие, почувствовал, что вот сейчас пли минутой позже нужно будет вскочить и во весь рост пробежать оставшиеся сто метров.
Пушки, находившиеся позади, выстрелили еще несколько раз порознь, потом ударили залпом. Впереди взметнулась взлетевшая с бруствера окопов земля, и в ту же секунду Савельев услышал свисток командира роты. Скинув с плеч вещевой мешок (он подумал, что придет за ним потом, когда они возьмут окопы), Савельев вскочил и на бегу дал очередь из автомата. Он оступился в незаметную ямку, ударился оземь, вскочил и снова побежал. В эти минуты у него было только одно желание: поскорее добежать до немецкого окопа и спрыгнуть в него. Он не думал о том, чем его встретит немец. Он знал, что если он спрыгнет в окоп, то самое страшное будет позади, хотя бы там сидело сколько хочешь немцев. А самое страшное — вот эти оставшиеся метры, когда нужно бежать открытой грудью вперед и уже нечем прикрыться.
Когда он оступился, упал и снова поднялся, товарищи слева и справа обогнали его, и поэтому, вскочив на бруствер и нырнув вниз, он увидел там лежавшего ничком уже убитого немца, а впереди себя — мокрую от дождя гимнастерку бойца, бежавшего дальше по ходу сообщения. Он побежал было вслед за бойцом, но потом свернул по окопу налево и с маху наткнулся на немца, который выскочил навстречу ему. Они столкнулись в узком окопе, и Савельев, державший перед собой автомат, не выстрелил, а ткнул немца в грудь автоматом, и тот упал. Савельев потерял равновесие и тоже упал на колено. Поднялся он с трудом, опираясь рукой о скользкую, мокрую стенку окопа. В это время оттуда же, откуда выскочил немец, появился старшина Егорычев, который, должно быть, гнался за этим немцем. У Егорычева было бледное лицо и злые, сверкающие глаза.
— Убитый? — спросил он, столкнувшись с Савельевым и кивнув на лежавшего.
Но немец, словно опровергая слова Егорычева, что-то забормотал и стал подниматься со дна окопа. Это ему никак не удавалось, потому что окоп был скользкий, а руки у немца были подняты кверху.
— Вставай! Вставай, ты! Хенде нихт, — сказал Савельев немцу, желая объяснить, что тот может опустить руки.
Но немец опустить руки боялся и все пытался встать. Тогда Егорычев поднял его за шиворот одной рукой и поставил в окопе между собой и Савельевым.
— Отведи его к старшему лейтенанту, — сказал Егорычев, — а я пойду, — и скрылся за поворотом окопа.
С трудом разминувшись с немцем в окопе и подталкивая его, Савельев повел пленного впереди себя. Они прошли окоп, где лежал, раскинувшись, тот мертвый немец, которого, вскочив в окоп, увидел Савельев, потом повернули в ход сообщения, и глазам Савельева открылись результаты действия «катюш».
Все и в самом ходе сообщения, и по краям его было сожжено и засыпано серым пеплом; поодаль друг от друга были разметаны в траншее и наверху трупы немцев. Один лежал, свесив в траншею голову и руки.
«Наверное, хотел спрыгнуть, да не успел», — подумал Савельев.
Штаб роты Савельев нашел возле полуразбитой немецкой землянки, вырытой тут же, рядом с окопами. Как и все здесь, она была сделана наспех: должно быть, немцы вырыли ее только за вчерашний день. Во всяком случае, это ничем не напоминало прежние прочные немецкие блиндажи и аккуратные окопы, которые Савельев видел в первый день наступления, когда была прорвана главная линия немецкой обороны. «Не поспевают», — с удовольствием подумал он. И, повернувшись к командиру роты, сказал:
— Товарищ старший лейтенант, старшина Егорычев приказал пленного доставить.
— Хорошо, доставляйте, — сказал Савин.
В проходе землянки стояли еще трое пленных немцев, которых охранял незнакомый Савельеву автоматчик.
— Вот тебе еще одного фрица, браток, — сказал Савельев.
— Сержант! — окликнул в эту минуту старший лейтенант автоматчика. — Когда все соберутся к вам, возьмете с собой еще одного легкораненого и поведете пленных в батальон.
Тут Савельев увидел, что у автоматчика перевязана левая рука и автомат он держит одной правой рукой.
Савельев пошел обратно по окопам и через минуту отыскал Егорычева и еще нескольких своих. В отбитых окопах все уже приходило в порядок, и бойцы устраивали себе места для удобной стрельбы.
— А где Юдин, товарищ старшина? — спросил Савельев, беспокоясь за друга.
— Он назад пошел, там раненых перевязывает.
И в десятый раз за эти дни Савельев подумал, какая тяжелая должность у Юдина: он делает то же, что и Савельев, да еще ходит вытаскивать раненых и перевязывает их. «Может, он с усталости такой ворчливый», — подумал Савельев про Юдина.
Егорычев указал ему место, и он, вытащив лопатку, стал расширять себе ячейку, чтобы все приспособить поудобнее на всякий случай.
— Их тут не так много и было-то, — сказал Егорычев, занимавшийся рядом с Савельевым установкой пулемета. — Как их «катюшами» накрыло, видал?
— Видал, — сказал Савельев.
— Как «катюшами» накрыло, так их совсем мало осталось. Прямо-таки замечательно-удивительно накрыло их! — повторил Егорычев.
Савельев уже заметил, что у Егорычева была привычка говорить «замечательно-удивительно» скороговоркой, в одно слово, но говорил он это изредка, когда что-нибудь особенно восхищало его.
Савельев набрасывал лопаткой земляной бруствер, а сам все время думал, как хорошо было бы закурить. Но Юдин все еще не возвращался, а закурить одному было совестно. Однако едва успел он сделать себе «козырек», как вернулся и Юдин.
— Закурим, Юдин? — обрадовался Савельев.
— А высохла?
— Должна высохнуть, — весело отозвался Савельев и стал отпячивать крышку трофейной масленки, которую он накануне нашел в окопе и теперь приспособил под табак.
— Товарищ старшина, закурить желаете? — обратился он к Егорычеву.
— А что, махорка есть?
— Есть, только сыроватая.
— Давай, — согласился Егорычев.
Савельев взял две маленькие щепотки, насыпал по одной Егорычеву и Юдину, которые уже приготовили бумажки. Потом взял третью щепотку себе. Раздался вой снаряда и взрыв около самого окопа. Над их головой метнулась земля, и они все трое присели на корточки.
— Скажи пожалуйста! — удивился Егорычев. — Махорку-то не просыпали?
— Нет, не просыпали, товарищ старшина! — отозвался Юдин.
Присев в окопе, они стали свертывать цигарки, а Савельев, с огорчением посмотрев на свои руки, увидел, что весь табак, какой был у него на бумажке, просыпался наземь. Он посмотрел вниз: там стояла вода, и махорка совсем пропала. Тогда, открыв масленку, он с сожалением насыпал себе еще щепотку; он думал, что осталось на две завертки, а теперь выходило, что остается только на одну.
Едва они успели закурить, как опять начали рваться снаряды. Иногда комья земли падали в окоп, в стоявшую на дне воду.
— Наверное, заранее пристрелялись, — сказал Егорычев. — Рассчитывали, что не устоят тут.
Новый снаряд разорвался в самом окопе, близко, но за поворотом. Их никого не тронуло. Савельев, выглянув за бруствер окопа, посмотрел в немецкую сторону: там не было заметно никакого движения.
Егорычев вынул из кармана часы, посмотрел на них и молча спрятал обратно.
— Который час, товарищ старшина? — спросил Савельев.
— А ну, который? — в свою очередь, спросил Егорычев.
Савельев посмотрел на небо, но по небу трудно было что-нибудь определить: оно было совершенно серое, и по-прежнему моросил дождь.
— Да часов десять утра будет, — сказал он.
— А по-твоему, Юдин? — спросил Егорычев.
— Да уж полдень небось, — сказал Юдин.
— Четыре часа, — сказал Егорычев.
И хотя в такие дни, как этот, Савельев всегда ошибался во времени и вечер приходил всегда неожиданно, тем не менее он лишний раз удивился тому, как быстро летит время.
— Неужто четыре часа? — переспросил он.
— Вот тебе и «неужто», — ответил Егорычев. — С минутами.
Немецкая артиллерия стреляла еще довольно долго, но безрезультатно. Потом снова в самом окопе, но теперь поодаль, разорвался один снаряд, и оттуда сразу позвали Юдина. Юдин пробыл там минут десять. Вдруг снова просвистел снаряд, и там, где находился Юдин, раздался взрыв. Потом опять затихло, немцы больше не стреляли.
Спустя несколько минут к Савельеву подошел Юдин. Лицо его было совершенно бледное, ни кровинки.
— Что ты, Юдин? — удивился Савельев.
— Ничего, — спокойно сказал Юдин. — Ранило меня.
Савельев увидел, что рукав гимнастерки у Юдина разрезан во всю длину, рука заправлена за пояс и прибинтована к телу. Савельев знал, что так делают при серьезных ранениях.
«Пожалуй, перебита», — подумал Савельев.
— Как вышло-то? — спросил он Юдина.
— Там Воробьева ранило, — пояснил Юдин. — Я его перевязывал, и аккурат ударило. Воробьева убило, а меня… вот видишь…
Он присел в окопе, прежде чем уйти.
— Закури на дорожку, — предложил Савельев.
Он снова достал свою трофейную масленку и сначала хотел разделить щепотку, которая там оставалась, на две, но устыдился своей мысли, свернул из всего табака большую цигарку и протянул Юдину. Тот левой, здоровой рукой взял цигарку и попросил дать огня.
Немцы совсем не стреляли. Стояла тишина.
— Ну, пока не стреляют, я пойду, дружище, — сказал Юдин и поднялся.
Зажав цигарку в уголке рта, он протянул Савельеву здоровую руку.
— Ты это… — сказал Савельев и замолчал, потому что подумал: вдруг у Юдина отнимут руку.
— Что «это»?
— Ты поправляйся и обратно приходи.
— Да нет, — сказал Юдин. — Коли поправлюсь, так все одно в другую часть попаду. У тебя адрес мой имеется. Если после войны будешь через Поныри проезжать, слезь и зайди. А так — прощай. На войне едва ли свидимся.
Он пожал руку Савельеву. Тот не нашелся, что сказать ему, и Юдин, неловко помогая себе одной рукой, вылез из окопа и, немного сутулясь, медленно пошел по полю назад.
«Привык, наверное, я к нему», — глядя вслед, подумал Савельев, не понимая еще того, что он не привык к Юдину, а полюбил его.
Чтобы провести время, Савельев решил пожевать сухарь. Но только тут он вспомнил, что свой вещевой мешок бросил, не доходя до окопов. Он попросил разрешения у Егорычева, вылез из окопа и пошел туда, где, по его расчетам, лежал вещевой мешок. Впереди виднелась фигура Юдина, но Савельев не окликнул его. Что он мог ему еще сказать?
Минут через пять он отыскал свой мешок и пошел обратно.
Вдруг он увидел то, что наблюдатель, сидевший в окопе ниже его, увидел на несколько секунд позже. Впереди, левее леска, лежащего на горизонте, шли немецкие танки, штук десять или двенадцать. Увидев танки, хотя они еще не стреляли, Савельев захотел поскорее добежать до окопа и спрыгнуть вниз. Не успел он этого сделать, как танки открыли огонь, — не по нему, конечно, но Савельеву казалось, что именно по нему. Запыхавшись, он спрыгнул в окоп, где Егорычев уже приказывал готовить гранаты.
Боец Андреев, долговязый бронебойщик из их взвода, пристраивал в окопе поудобнее свою большущую «дегтяревку». Савельев отстегнул от пояса и положил перед собой на бруствер противотанковую гранату; она была у него только одна, вторую он дней пять назад, погорячившись, кинул в немецкий танк, когда тот был еще метров за сто от него. И, конечно, граната разорвалась совсем попусту, не причинив танку никакого вреда. В тот раз, заметив оплошность Савельева, Егорычев отругал его, да Савельеву и самому было неловко, потому что выходило, будто он струсил, а про себя он знал, что на самом деле не струсил, а только погорячился. И сейчас, отстегивая от пояса гранату, он решил, что, если танк пойдет в его сторону, он бросит гранату только тогда, когда танк будет совсем близко.
Но танки шли куда-то левее и дальше. Только два танка, самые крайние, отделились и, казалось, шли именно на них.
— Главное, сиди и жди, — сказал, проходя мимо, старший лейтенант Савин, который обходил окопы и всем так говорил. — Сиди и жди и бросай вслед ему, когда он пройдет. Будешь сидеть спокойно, ничем он тебя не возьмет.
Он прошел дальше, и Савельев слышал, как он теми же словами наставлял другого бойца.
Немецкие танки стреляли непрерывно на ходу. То над головой, то слева свистели их снаряды. Савельев слегка приподнялся над окопом. Один танк шел слева, другой — прямо на него. Савельев опять нырнул в окоп. И хотя танк, который шел слева, был больше — это был «тигр», — а тот, который шел на Савельева, — обыкновенный средний танк, но потому, что он был ближе, Савельеву показалось, что он самый большой. Он приподнял с бруствера гранату и прикинул ее на руке. Граната была тяжелая, и от этого ему стало как-то спокойнее.
В это время сбоку стал стрелять бронебойщик Андреев.
Когда Савельев выглянул еще раз, танк был уже в двадцати шагах. Едва успел он укрыться на дне окопа, как танк прогрохотал над самой его головой, на него пахнуло сверху чужим запахом, гарью и дымом и посыпалась с краев окопа земля. Савельев прижал к себе гранату, как будто боялся, что ее отнимут.
Танк перевалил через окоп. Савельев вскочил, подтянулся на руках, лег животом на край окопа, потом выскочил совсем и бросил гранату вслед танку, целясь под гусеницу. Он бросил гранату со всей силой и, не удержавшись, упал вперед на землю. А затем, зажмурясь, повернулся и спрыгнул в окоп. Лежа в окопе, он все еще слышал рев танка и подумал, что, наверное, промахнулся. Тогда его охватило любопытство; хотя было страшно, он приподнялся и выглянул из окопа. Танк, гремя, поворачивался на одной гусенице, а вторая, как распластанная железная дорожка, волочилась за ним. Савельев понял, что попал.
В этот момент над его головой просвистели один за другим два снаряда. Едва Савельев снова укрылся в окопе, как раздался оглушительный взрыв.
— Смотри, горит! — крикнул Андреев, который, поднявшись в окопе, поворачивал свою бронебойку в ту сторону, где находился танк. — Горит! — крикнул он еще раз.
Савельев, приподнявшись над окопом, увидел, что танк вспыхнул и весь загорелся.
Другие танки были далеко влево; один горел, остальные шли, но в эту минуту Савельев не мог бы сказать, вперед ли они идут или назад. Когда он бросал гранату и когда взорвался танк, все в голове у него спуталось.
— Ты ему гусеницу подбил, — сказал почему-то шепотом Андреев. — Он остановился, а она как вмажет ему!
Савельев понял, что Андреев имеет в виду противотанковую пушку.
Остальные танки ушли совсем куда-то влево и скрылись из виду. По окопам стали сильно бить немецкие минометы.
Так продолжалось часа полтора и наконец прекратилось. В окоп пришел старший лейтенант Савин вместе с капитаном Матвеевым, командиром батальона.
— Вот он подбил фашистский танк, — сказал командир роты, остановившись около Савельева.
Савельев удивился этим словам: он никому еще не говорил, что подбил танк, но старший лейтенант уже знал об этом.
— Ну что же, представим, — сказал капитан Матвеев. — Молодец! — и пожал руку Савельеву. — Как же вы его подбили?
— Он как надо мной прошел, я выскочил и кинул ему гранату в гусеницу, — сказал Савельев.
— Молодец! — повторил Матвеев.
— Ему еще медаль за старое причитается, — сказал старший лейтенант.
— А я принес, — сказал капитан Матвеев. — Я вам четыре медали в роту принес. Прикажите, чтобы бойцы пришли и командир взвода.
Старший лейтенант ушел, а капитан, присев в окопе рядом с Савельевым, порылся в кармане своей гимнастерки, вынул несколько удостоверений с печатями и отобрал одно. Потом он вынул из другого кармана коробочку и из нее медаль. К ним подошли старший лейтенант и старшина.
Савельев поднялся и, словно он находился в строю, замер, как по команде «смирно».
— Красноармеец Савельев, — обратился к нему капитан Матвеев, — от имени Верховного Совета и командования в награду за вашу боевую доблесть вручаю вам медаль «За отвагу».
— Служу Советскому Союзу! — ответил Савельев.
Он взял медаль задрожавшими руками и чуть не уронил.
— Ну вот, — сказал капитан, то ли не зная, что еще сказать, то ли считая дальнейшие слова ненужными. — Поздравляю и благодарю вас. Воюйте! — И он пошел дальше по окопу, в соседний взвод.
— Слушай, старшина, — сказал Савельев, когда все остальные ушли.
— Да?
— Привинти-ка.
Егорычев достал из кармана перочинный ножик на цепочке, не торопясь открыл его, расстегнул ворот гимнастерки Савельева, подлез рукой, проткнул повыше кармана ножом и прикрепил медаль к мокрой, потной, забрызганной грязью гимнастерке Савельева.
— Жаль, закурить нечего по этому случаю! — сказал Егорычев.
— Ничего, и так обойдется, — сказал Савельев.
Егорычев полез в карман, вытащил жестяной портсигар, открыл его, и Савельев увидел на дне портсигара немного табачной пыли.
— Для такого раза не пожалею, — сказал Егорычев. — На крайний случай берег.
Они свернули по цигарке и закурили.
— Что же это, затихло? — сказал Савельев.
— Затихло, — согласился Егорычев. — А ты давай сухарей пожуй. Нужно, чтобы все поели, — я приказание отдам. А то, может быть, как раз и пойдем. — И он отошел от Савельева.
Где-то впереди, слева, еще сильно стреляли, а тут было тихо — то ли немцы что-нибудь готовили, то ли отошли.
Савельев посидел с минуту, потом, вспомнив слова старшины, что, может быть, и правда они тронутся, вытащил из мешка сухарь и, хотя ему не хотелось есть, стал его грызть.
На самом деле происходило то, чего не знали ни Савельев, ни Егорычев.
Немцы не стреляли потому, что на левом фланге их сильно потеснили и они отошли километра на три, за небольшую заболоченную реку. В момент, когда Савельев сидел в тишине и грыз сухарь, в полку уже было дано приказание батальону двигаться вперед и выйти к самой реке, с тем чтобы ночью форсировать ее.
Прошло пятнадцать минут, и старший лейтенант Савин поднял роту. Савельев так же, как и другие, уложив снова вещевой мешок, закинул его за плечи, вышел из окопа и зашагал. До леска дошли благополучно. Уже начинало темнеть. Когда пересекли рощицу и выходили на ее опушку, Савельев увидел сначала сгоревший немецкий танк, а шагах в ста от него — наш, тоже сгоревший. Они совсем близко прошли мимо этого танка, и Савельев различил цифру «120». «Сто двадцать, сто двадцать», — подумал он. Эту цифру, казалось, он недавно видел перед собой. И вдруг он вспомнил, как позавчера, когда они, усталые, в пятый раз поднялись и пошли вперед, им попались стоявшие в укрытиях танки и на одном из танков была цифра «120». Юдин, у которого был злой язык, на ходу сказал танкистам, высунувшимся из люка:
— Что же, пошли в атаку вместе?
Один из танкистов покачал головой и сказал:
— Нам сейчас не время.
— Ладно, ладно, — сердито сказал Юдин. — Вот как в город будем входить, так вы туда и въезжайте, как гордые танкисты, и пусть вам девушки цветы дарят…
Он еще выругался тогда и пошел дальше. Савельеву тоже показалось в эту минуту обидным, что вот они идут вперед, а танкисты чего-то ждут.
Проходя мимо сожженного танка, он с огорчением вспомнил об этом разговоре и подумал, что вот они живы, а сидевшие в броне танкисты, наверное, погибли в бою. А Юдин, вероятно, идет, если уже не дошел, в медсанбат с перебитой рукой, перехваченной поясом.
«Такое дело — война, — подумал Савельев, — нельзя на ней людей обидным словом трогать. Сегодня обидишь, а завтра прощения попросить поздно».
В темноте они вышли на низкую луговину, которая переходила в болото. Река была совсем близко.
Как сказал старший лейтенант Савин, нужно было к 24.00 сосредоточиться и потом форсировать реку. Савельев вместе с другими уже шел по самому болоту, осторожно, чтобы не зашуметь, ступая в подававшуюся под ногами трясину. Он немного не дошел до берега реки, как вдруг над головой его провыла первая мина и ударилась в грязь где-то далеко за ним. Потом завыла другая и ударилась ближе. Они залегли, и Савельев стал быстро копать мокрую землю. А мины все шлепались и шлепались в болото то слева, то справа.
Ночь была темная. Савельев лежал молча, ему хотелось во что бы то ни стало поскорее переправиться через реку.
Под свист мин и хлюпанье воды ему приходили на память все события нынешнего дня. Он вспоминал то Юдина, который, может быть, все еще идет по дороге, то сгоревший танк, экипаж которого они когда-то обидели, то распластавшуюся, как змея, гусеницу подбитого им немецкого танка, то, наконец, взводного Егорычева и последнюю табачную пыль на дне его портсигара. Больше закурить сегодня не предвиделось.
Было холодно, неуютно и очень хотелось курить. Если бы Савельеву пришло в голову считать дни, что он воюет, то он бы легко сосчитал, что как раз кончался восьмисотый день войны.
ГАЛИНА НИКОЛАЕВА
ГИБЕЛЬ КОМАНДАРМА[94]
1
Когда с парохода выгрузили последнего раненого, врач Катерина Ивановна сразу ослабела от усталости. Цепляясь каблуками за обитые металлическими полосками края ступеней, она поднялась в свою каюту; не снимая халата, села на стул и с наслаждением сбросила туфли.
Узкая каюта была освещена оранжевым светом вечернего солнца. На второй полке золотисто поблескивал длинный ряд тарелок — завтрак, обед и ужин, поставленные санитарками.
Катерина Ивановна взяла одну из тарелок и попробовала гуляш с кашей. Каша липла к нёбу и пахла мазутом. Скинув халат, Катерина Ивановна легла в постель. Все тело ее гудело, в каждой мышце пульсировала застоявшаяся кровь, но, несмотря на усталость, на тяжелый рейс и выгрузку, ее не покидало чувство облегчения. Муж написал ей, что на полгода отозван с передовой в тыл, на учебу в родной город. За год войны и разлуки Катерина Ивановна привыкла к тревоге за мужа, казалось, даже перестала ощущать ее и, только прочитав письмо, по охватившему ее чувству радости поняла всю тяжесть гнета, под которым жила этот год.
Катерина Ивановна закрыла глаза, и сейчас же перед ней поплыли повязки. Перевязанные руки, ноги, головы, повязки шинные, гипсовые, простые с необыкновенной ясностью и отчетливостью плыли перед ее глазами.
Когда-то в детстве, после того как она ходила за грибами, грибы появлялись перед ней так же сами по себе, стоило только ей смежить веки.
Повязки плыли длинной вереницей, потом стали быстро разматываться, и сквозь головокружение пришел сон. Она спала недолго: ее разбудил голод.
Пароход вздрагивал и покачивался. Совсем рядом, у окна, голос, одновременно и усталый и возбужденный, говорил:
— Я гляжу, он, черт конопатый, мне на комбижир тару навешивает.
Другой голос самодовольно и авторитетно сказал:
— Это у них не документ. Штамп — не печать. Подбавь вишневого.
Это начпрод с бухгалтером пили чай на палубе.
Катерина Ивановна села и увидела неясные в сумерках, уплывающие дебаркадеры Казани и суетню маленьких черных людей, которая издали, с парохода, всегда казалась неоправданной и мелочной. На палубе у перил стояли сестры и санитарки, прощаясь с Казанью. Они еще не окончили уборку, у них были подоткнуты юбки, из-под юбок виднелись босые грязные ноги. Пустой пароход слегка кренило на сторону.
— С палубы разойдись! — донесся сверху властный и безразличный голос капитана. И сейчас же вслед за ним заверещало старческое сопрано капитанши, прозванной командой «Мы с капитаном»:
— Капитан говорит: с палубы разойдись. Не видите, палубу перекосило? И чего глядеть? Казань как Казань, который раз едем! Бомбило ее или она горела, чтобы на нее смотреть? Разойдись с палубы, капитан говорит! Нет у вас никакого понятия! Мы с капитаном тридцать лет по воде ходим, а таких безобразиев не видали. Это разве команда? Женчины!.. — заключила «Мы с капитаном» с таким глубоким презрением, как будто сама она была по меньшей мере мужчиной.
Это презрение относилось не ко всем женщинам вообще, но в частности к начальнику СТС[95] Евдокии Петровне. «Мы с капитаном» никак не могла примириться с тем, что здесь, на пароходе, над ее мужем есть начальник, а то, что начальник этот женщина, казалось капитанше личным оскорблением.
Евдокия Петровна — красавица с добрым и честным лицом — стояла тут же. Она прекрасно понимала, к кому относятся сентенции капитанши, и неслышно, добродушно посмеивалась. Катерина Ивановна представила себе обрюзгшее лицо капитанши на ее боевом посту — в окне капитанской каюты, — тихонько засмеялась и стала есть. Теперь каша ничем не пахла и показалась ей даже сладкой. Она съела гуляш, борщ, колбасу, компот и удивилась, зачем люди подогревают пищу, когда холодное гораздо вкуснее. Потом она разделась и уже окончательно легла спать. Но сон не приходил.
Ей вспомнился юноша-боец, у которого были выжжены оба глаза и сорвана нижняя челюсть так, что обрывок языка свободно лежал на изорванных мышцах. У юноши не было лица, но тем выразительнее были его руки. Красивые бледные кисти то тихо лежали вдоль тела, то слегка приподнимались зовущим движением, словно просили помощи. Длинные пальцы пытались ухватиться за воздух. Руки звали и кричали без звуков. И, точно отчаявшись, падали на одеяло. Воспоминание было так ужасно, что Катерина Ивановна застонала. С таким воспоминанием нельзя было жить — можно было только убивать или умирать. Убивать от ненависти или умирать от жалости. А сейчас, когда она бессильна и помочь и отомстить, — нельзя было помнить.
Чтобы прогнать мучительный образ, она стала вспоминать последнюю сводку. Враг неуклонно шел к Сталинграду. И на миг ее охватило чувство страшной безнадежности. Усталость, тяжелая атмосфера крови и муки, в которой она жила, жестокие слова сводок — все это словно душило ее, и она почувствовала близкие слезы. Надо было найти силы, чтобы не плакать, чтобы надеяться, чтобы жить. Источником этих сил, как всегда, было прошлое. Она позвала на помощь мысли о муже. Муж был красивый, смуглый, веселый. Он звал ее дочкой и любил укладывать спать. Для этого он стаскивал ей в кровать подушки со всех диванов и кушеток, укрывал ее двумя одеялами и сверху придавливал тяжелой медвежьей полстью. Упаковав ее так, что она едва дышала, он удовлетворенно оглядывал свою работу и со счастливым лицом садился заниматься. Он любил заниматься в той комнате, где она спала. Он был инженер и прораб, он не любил кабинетной работы и мог дышать только в атмосфере стройки. Кроме того, он был ругатель и плут. Первое она знала по рассказам, а во втором с горечью убедилась из личных наблюдений. Он не мог переносить вида плохо лежащих стройматериалов. Ему ничего не стоило погрузить и увезти какие-нибудь чужие трубы, оставленные без охраны. Когда она упрекала его, он утверждал, что забрать эти трубы ему «сам бог велел» и что таким образом он борется с разгильдяями. Она пыталась внушить ему, что при социализме нет чужих строек, что все стройки одинаково свои. Но, несмотря на привычку во всем соглашаться с ней, он категорически отказывался считать чужие стройки своими. «Своя» была только одна стройка, и она должна была быть самой лучшей.
Он слушал ее нравоучения, склонив голову набок, и поглядывал на нее добродушно и недоверчиво, как большой пес смотрит на щенят, потом, вздохнув, он говорил:
— Дочка, я же перевоспитался — не пью, не курю, ноги вытираю. Больше не надо меня перевоспитывать, ладно?
По его виду ей становилось ясно, что человеческое совершенство имеет свои пределы, и она со смехом начинала целовать смуглые прохладные щеки. При этом его мужское, грубоватое и красивое лицо приобретало такое младенческое счастливое выражение, что она готова была простить ему еще тысячу «пережитков капитализма» в его сознании.
Когда она уезжала в командировки, он писал ей длинные письма, полные строительных терминов, наивных нежностей и непритязательных шуток.
Когда она приезжала, он встречал ее на вокзале, и всегда он был самым большим и красивым мужчиной с самым большим и красивым букетом цветов на всем перроне. Он шагал по перрону, улыбаясь ей во всю ширину своего великолепного рта, и размахивал как придется букетом, который держал так, как держат веник — головками вниз. Цветы вылезали из букета и падали на перрон. Потом они ехали домой, и, осыпая ее вопросами и поцелуями, он то и дело говорил шоферу: «Ну-ка, Вася, подрули к грузовичку!» — и, поравнявшись с грузовиком, кричал: «Эй, борода, кому железо везешь?» — «На девяносто третий, Иван Петрович». — «Это все железо или еще есть?» Откинувшись на сиденье, он соображал: «Дочка, придется сообразить литра на полтора горючего. Иван Петрович крепкий мужик, его по-сухому не обойдешь». Она, вздохнув, кротко соглашалась. Она не любила этих выпивок с малокультурными, грубоватыми людьми, но он утверждал, что в строительстве «без горючего» нельзя, и она кротко терпела. Совсем разные люди, они были необходимы друг другу, как воздух. На первый взгляд любовь их могла показаться ребячливой и поверхностной. Но в действительности их привязанность была глубока, верность друг другу — абсолютна, взаимное понимание — совершенно, и связь их друг с другом была так же органична и нерушима, как связь матери и ребенка. И сейчас, как всегда, воспоминания о счастливом прошлом были для Катерины Ивановны тем живым родником, который возвращал силы. Освеженная ими, она вздохнула и неожиданно подумала: «Нет, мне не страшно умереть. Счастья, которое было у меня, другим хватило бы на сто лет». Она заснула легким сном. Пароход быстро и мерно шел к Горькому. Ночью она часто просыпалась. Каждый раз быстро съедала что-нибудь. К утру все тарелки были пусты.
Утром она проснулась от яркого света. Бесчисленные солнечные зайчики играли на стенах и на потолке каюты — это Волга лучилась за окном и наполняла каюту отблесками живых волн.
Катерина Ивановна заботливо посмотрела на себя в зеркало глазами мужа, — понравилось ли бы ему ее лицо. Лицо было заспанное, бледное, но смешное и милое. Верхняя губа маленького рта слегка находила на нижнюю. Эта пухлая верхняя губа и слегка поджатая нижняя придавали ее лицу выражение детской серьезности и наивности, и это было особенностью ее лица, которое любил ее муж. Накинув халат, Катерина Ивановна пошла в душевую. Дверь из коридора на противоположную сторону палубы была распахнута, за дверью толпились девушки. Катерина Ивановна подошла к двери. Мимо проплывали дома и дебаркадеры, удивительно похожие на казанские.
«Ей-богу, Казань!» — подумала Катерина Ивановна и, вытаращив сонные глаза, ткнула пальцем по направлению к берегу и спросила:
— Это что?
— Казань, — ответили ей девушки со странным, нарочитым смехом.
«С ума сошла, из Казани выехали, всю ночь ехали, в Казань приехали», — подумала Катерина Ивановна и, растерянно хлопая заспанными веками, совсем уже глупо спросила:
— А вчера что было?
— Рио-де-Жанейро, — ответили ей с тем же нарочитым смехом.
— Кончили курорт! — резко, даже зло сказала черная Вера, а спокойная, синеглазая Лена посмотрела на нее с жалостью и объяснила:
— Ночью на катере привезли приказ поворачивать и без остановок идти на Сталинград.
2
Танк трясло и качало на ухабах, но качка была мягкой, и беспокоила тишина. Деревья, дома, люди, отчетливо видимые, мелькали мимо, не оставляя следа в сознании.
Потом он снова оказался на Вороньей горе, и немецкие танки выползли из-за холма и пошли по шоссе к мосту. Тупорылые, они шли бесконечной вереницей. Ясно было, что здесь сосредоточены главные танковые силы немцев.
Сердце гулко ударило, и он подумал: «Вот оно!» Он глубоко вздохнул и почувствовал вкус речного воздуха и легкий освежающий запах тины. Не только умом и сердцем, но и всем телом он ощутил счастье с его внезапным холодом, с легким головокружением высоты, с желанием вдруг расхохотаться, гикнуть, закричать. Он испытывал властную потребность действия, подъем и сосредоточенность всех сил. Он открыл огонь. Танки вспыхивали один за другим, горели сразу, объятые белым праздничным пламенем. Вся равнина внизу была опоясана их огненной цепью. Их белый огонь отражался в реке, в отражении становясь красным, и река плавилась и текла, похожая на раскаленный металл…
— Ваша история болезни! Ваша история болезни! — настойчиво сказал в упор чей-то голос. Что-то пронеслось мимо него, и сразу все стало другим. Он увидел серые сходни, а под ними воду, покрытую перламутровой пленкой нефти.
В воде, остро блестя на солнце, покачивалась пустая консервная банка.
Это было случайно, не нужно, он не понял, что было сном, что явью, и снова захотел вернуться к тому ощущению счастья, которое испытал только что, но снова голос с навязчивой отчетливостью сказал:
— Больной не транспортабелен.
И кто-то ответил с ноткой отчаяния и усталости в голосе:
— Все равно!
Потом было что-то длинное и темное, вроде коридора. С одной стороны были двери, а с другой дыра, отгороженная металлическими поручнями. На краю дыры сидела с ног до головы выпачканная во что-то черное и маслянистое девушка в комбинезоне и ела яблоко, блекло-зеленое, странно чистое в ее черных руках. Одна из дверей противоположной стороны открылась, и там оказался повар с молодым длинным лицом и с бровями, черными и большими, как усы. Потом повеяло покоем и радостью, он увидел белые занавеси на окнах, а за ними Волгу — голубую, лучистую и, казалось, твердую. Пришла сестра и дала ему пить.
— Куда везут? — спросил он.
— До Казани. Вам удобно лежать?
Он не видел ее лица, но у нее была белая-белая, до блеска отутюженная косынка, и вид этой косынки приносил ему облегчение. Теперь он вспомнил все так, как оно было. Он подбил три танка. Это, конечно, не решило исхода сражения. Правда, танки больше не пошли на мост, они повернули к броду и пошли в том направлении, на котором их ожидали с вечера.
Ему захотелось узнать результат боя, и это желание было так нетерпеливо, что он приподнял голову и стал осматриваться.
— Что ты? Пить? — спросил сиплый голос, и толстое бабье лицо, блестя сплошным рядом металлических зубов, наклонилось над ним.
— Нет, — ответил он, откидываясь на подушку, и оглядел каюту с тем привычно-хозяйским интересом, который был ему свойствен всегда.
Человек с бабьим лицом был мужчиной. Лицо у него было неприятное. Маленький бесформенный нос, неестественно растянутые губы, металлические зубы — какая-то уродливая неподвижность всех черт, казавшихся дегенеративными, но из-под выпуклого лба маленькие глазки смотрели таким прямым, живым и пристальным взглядом, что Антон сразу поместил этого человека в разряд тех, кого он характеризовал одним словом «годится».
Рядом сидел молодой, сделанный из одних сухожилий парень. У него была та свободная, размашистая и в то же время сдержанная повадка, какой не бывает ни у танкистов, ни у пехотинцев, ни у летчиков и которая свойственна только кавалеристам-кадровикам. Кавалеристы всегда привлекали Антона. Не только в их внешнем облике, но и во всем строе их характера было что-то, что радовало его. И сейчас, как всегда, ему было приятно соседство кавалериста.
Четвертым в каюте был румяный лейтенант, который лежал на верхней полке. У него были высокие, круглые, надменные брови и маленький, пухлый, как у женщины, рот.
Антон почувствовал усталость и снова закрыл глаза. То, что было рядом, казалось ему далеким и чужим. Его жизнь была не здесь. Его жизнь во всей ее полноте, во всей ее кипучей напряженности осталась там, у Вороньей горы, у развороченных бомбой элеваторов, в том скоплении и движении людей и металла, каждая деталь которого была ему близка и понятна. И, закрыв глаза, он снова зажил этой назначенной ему жизнью.
Он вспомнил вчерашний вечер, когда, закончив необходимые приготовления к бою, танкисты легли спать, а он, обдумывая план боя, вышел из ложбины и пошел по дороге.
Он был всего только командиром танка, недавно окончившим танковую школу, но в нем всегда жило ощущение боя в целом и всегда у него было чувство его непосредственной ответственности за исход битвы.
Еще школьником, едва войдя в класс, он уже видел все неполадки в жизни класса.
— Чего гудите, ребята? Бином не поняли? — весело спрашивал он, переступая порог класса, и его звучный голос легко покрывал голоса одноклассников.
— А ну, садитесь по местам — объяснять буду. Быстро! У меня чтобы по-военному. Закройте двери! Дали тишину!
— Есть тишина! — отвечали ему смеющиеся голоса, и класс замирал. Быстро и отчетливо он объяснял непонятное и заканчивал объяснение:
— Еще вопросы есть? Вопросов нет? Все ясно? Еще десять минут наши. — И он первый выбегал на школьный двор и затевал такую буйную мальчишечью возню, на которую девочки и учителя смотрели с внешним превосходством и с внутренней завистью.
Везде, где бы Антон ни появлялся, люди подчинялись ему весело и охотно, и с такой же веселой естественностью он руководил ими.
Антону доставляли неизменную радость обостренность внимания и отчетливость мыслей, нужные для руководства людьми.
В танковой школе, куда он попал с первых дней войны, товарищи шутя звали его «командармом» и всерьез верили в его большое будущее.
Чувство ответственности за происходящие события и захватывающий интерес к ним и помешали ему спать в тот вечер. Он пошел бродить. Ему хотелось своими глазами увидеть ложбину, высоты и перелески, обозначенные на карте. Он бродил долго, но ничего интересного не увидел. На обратном пути он встретил десятилетнюю девочку, она побежала за ним, догнала, оробела и остановилась, переступая босыми ногами по росистой траве.
— Ты что? — спросил он ее.
— Гарбуз… — ответила она шепотом, вынула из мешка арбуз и протянула ему.
Они сели рядом и закусили арбузом.
— Где твой дом? — спросил он ее.
— Тамотка! — сказала она, указывая на запад маленьким грязным пальцем.
— А матка где?
— А матка тамотка, — указала она в противоположном направлении, — на бахчах. А хату немцы подпалили. И Дунька сгорела.
— Какая Дунька?
— Свинья. Поросая ходила. А мы с Вороньей горы глядели — там далеко видно.
Из разговора он выяснил, что Воронья гора стоит за мостом, что подход к ней возможен только с одной стороны, что по краю ее растет кустарник и идет каменный вал. По всем данным, пункт был очень удобен, но находился в тылу и гораздо восточнее предполагаемого удара.
С ночи танки ушли в указанном им направлении. Антон остался в резерве, а утром вылепилось, что немцы зашли в тыл и идут с юго-востока. Антон на своем танке был послан наперерез, прорвался к Вороньей горе и взял под обстрел мост. Ему удалось подбить три танка и заставить всю колонну повернуть к обрыву. Все люди экипажа его танка были тяжело ранены, а он сам потерял сознание и не помнил, что было дальше…
Он неподвижно лежал на койке, продолжая жить жизнью своей дивизии, и все время ощущал какую-то помеху. Сделав над собой усилие, он понял, что этой неустранимой на его пути помехой является его тело. Тяжелое, пронзенное болью, оно жило отдельной от него жизнью и мешало ему. Минутами он терял сознание, и ему казалось, что оно множилось, что у него было бесконечное количество тел, что они наполняли каюту, и все они болели, и всем им было неловко.
— Я один, и койка одна! — шептал он тогда, пытаясь убедить себя, что устроить одного человека на одной койке не так уж трудно.
Стараясь улечься поудобнее, он сделал резкое движение, и сейчас же нестерпимая боль рванула его. И сразу стало легче, пришло забытье. И снова он летел куда-то на своем танке, сумасшедше быстро и бесшумно. Он прорвался на высокую гору, внизу была необозримая синева, снова сердце дрогнуло от счастья, и он сказал: «Вот оно!»
Но сухой отчетливый голос произнес сильно и горько:
— Танки! Да что танки без самолетов! Самолетов у нас мало. Самолетов!..
Эта фраза хлестнула его, сразу вернув ему сознание.
Она говорила о том, что было для него болью и горем все последние месяцы.
В танковой школе он влюбился в танк. Он вступал в свой первый бой с ощущением радости, гордости и веры в себя и в свою машину.
А через день немецкие бомбардировщики разгромили танковую колонну. Исковерканные машины, беспомощные и неуклюжие, как перевернутые черепахи, громоздились на изрытом поле, а он лежал, уткнувшись лицом в землю, в бессильной злобе.
И день за днем при сигнале «воздух» он с безнадежной жаждой смотрел в небо: «Хотя бы один свой самолет! Хотя бы один!» Но свои самолеты появлялись редко — их было мало. А без них так бесполезно было все то, чем он обладал и гордился! Его охватывало чувство унижения. Из-за отсутствия самолетов снижались его собственные качества, ограничивались возможности и судьба становилась маленькой и ничтожной.
Но даже в самые горькие минуты он знал, что скоро все будет иначе. Его вера в будущее была непоколебима. Этой верой он жил, и когда ему становилось очень тяжело, он закрывал глаза и начинал думать о том, какими будут сражения через пять-шесть месяцев…
— У вас первое ранение? Мне кажется, я вас где-то видела, — спросил женский голос, такой свежий и мягкий, что, казалось, обладательница его должна быть обязательно с мокрыми волосами и с полотенцем за плечом.
Антон открыл глаза и увидел молодую женщину в халате и в белой шапочке. У нее было смугло-бледное полудетское лицо с коричневыми тенями под темными влажными глазами.
В лице, в голосе, в позе этой женщины было что-то удивительно мирное и домашнее. Она утомлена без нервозности, внимательна без напряжения. Она говорила с капитаном, у которого было бабье лицо.
— Я вас где-то видела, мне ваше лицо знакомо, — говорила она.
— Нет, вы меня не видели, — ответил тот, улыбаясь. — Это у меня не мое лицо. И нос не мой, и подбородок не мой, и зубы не мои. Я свое лицо в лепешку расшиб, а это мне доктора сделали. — Он улыбался, и уродливая улыбка человека с чужим лицом показалась Антону прекрасной.
— У него нос из бараньего хвоста сделан, — весело сказал кавалерист. — Ему сперва хотели из человечьего хряща делать, — не подошло. Не приживает. Взяли птичью кость — опять не подходит… Взяли бараний хвост, приставили — как раз подошло. Он носом и шевелить может, как баран хвостом.
Человек с чужим лицом засмеялся и пошевелил носом, что и на самом деле напоминало движение бараньего хвоста.
Все засмеялись, и Антон тоже улыбнулся.
— Проснулись, родной! Ну, как вы себя чувствуете? — спросила женщина. Антон хотел повернуться, но повернулись только голова и плечи, нижняя часть тела была тяжелой и неподвижной.
— Двинуться не могу! — сказал он с удивлением и вдруг почувствовал на спине что-то мокрое и горячее, и по простыне с краю поползло влажное пятно.
Он не понял, в чем дело, и растерянно оглядывался.
— Вот и хорошо, — ласково сказала женщина. — Сейчас простыни переменим. Вы не волнуйтесь, при ранениях позвоночника это бывает.
Он с трудом сообразил, в чем дело.
По особой нежности во взгляде женщины, по напряженным лицам своих соседей, по их вдруг остро блеснувшим и уклонившимся зрачкам Антон впервые понял глубину своего несчастья.
3
— Шесть, семь, восемь… девять! — сказал кто-то из раненых.
— Считать их еще! Давайте ногу! — раздраженно отозвалась Вера.
Катерина Ивановна была занята больным и не уловила смысла разговора. Только покончив с перевязкой, она заметила напряженные позы раненых, находившихся в перевязочной, и то острое любопытство, с которым они смотрели в окно. Взглянув по направлению их взглядов, она увидела группу немецких самолетов, летевших над Волгой.
Сейчас судьба людей, находящихся на беззащитном пароходе, зависела от прихоти немецких летчиков.
Много раз уже судно было под обстрелом и под бомбежкой и много раз плыло мимо обгорелых, полузатонувших судов. Этот рейс был особенно трудным. Три дня назад отвалили от Сталинграда, но шли в общей сложности всего восемь — десять часов. Остальное время путь был закрыт то минами, то десантами, и судно, замаскировавшись, стояло у берега.
Опасность уже стала привычной, и, глядя на самолеты, Катерина Ивановна утомленно думала: «Все равно. Скорее бы только!»
Она окинула взглядом перевязочную. Бросалось в глаза несоответствие между напряженными, побледневшими лицами мужчин и презрительно-спокойными лицами женщин. Мужчины впервые были безоружными и ничем не защищенными перед лицом опасности, а женщины шли в свой пятый сталинградский рейс. Самолеты приближались, и шум их усиливался.
— Почему в перевязочной нет спасательных поясов? Безобразие! — сказал розовощекий лейтенант, и щеки его стали медленно бледнеть.
— Держите ногу как полагается! — одернула его Вера.
Девушки работали спокойно.
Команда уже переболела страхом. Им переболели все, как все болеют корью, но у каждого эта болезнь протекала по-своему.
После того как пароход впервые попал под обстрел, «Мы с капитаном» сдала кастелянную (она работала кастеляншей судна) и со слезами и поцелуями, словно навек, простилась с командой. Плача и умоляя всех смотреть за капитаном, так как «он поврежденный от воды человек», она спускалась по сходням, рядом с ней шел худой, молчаливый капитан, а за ними матросы несли необъятную капитанскую укладку.
Укладка регулярно застревала во всех дверях, и матросы каждый раз при этом вспоминали родителей, что отлично помогало. Когда укладку наконец выгрузили на пристань, «Мы с капитаном» села на нее и зарыдала так бурно, что на пристань с берега повалил народ. Внезапно она стихла, объявила, что поедет еще в один рейс, после чего разом успокоилась и пошла обратно. Вслед за ней прежним способом двинулась укладка. История со злополучной укладкой в различных вариантах повторялась после каждой бомбежки.
После того как на глазах у команды затонуло, подорвавшись на мине, встречное судно, неожиданно напились непьющие повара. Всегда очень исполнительный и тихий повар-Яша, напившись, сел на горячую плиту и запел с выражением: «Я на бочке сижу, а под бочкой фрицы!» Яшу припекало, он подпрыгивал на плите, но упорно не покидал своей позиции.
В таком виде застала его начальник судна Евдокия Петровна, вызванная в кухню специально по этому поводу. Она пришла, метнула на повара молниеносный взор своих прекрасных синих глаз и приказала увести пьяных поваров на гауптвахту. На гауптвахте повара, обнявшись и притопывая, горько запели: «Девки-бабы дрянь, дрянь!» — в адрес Евдокии Петровны.
Катерина Ивановна тоже болела страхом. После острого начала наступил хронический период этого заболевания, выразившийся у нее в том, что она еще сильнее ушла мыслями в прошлое. Она добросовестно работала, но ни на минуту не переставала мысленно жить своей прежней домашней жизнью.
Она жила, раздваиваясь между работой и мыслями о доме, между страхом перед катастрофой и желанием скорее пережить ее и попасть домой.
Один из самолетов отделился от девятки и полетел к пароходу. Все яснее становилась его лягушиная окраска и тупое рыло. На миг все замерли. Потом розовощекий лейтенант, забыв о раненой ноге, рванулся к двери, но, прежде чем он добежал до нее, раздался сухой треск — самолет дал пулеметную очередь. Пуля разбила склянку на столе, и остро запахло йодом. Лейтенант выхватил подушку из-под головы лежавшего на перевязочном столе Антона, накрыл ею голову и присел у двери.
— Идите в тот простенок — там матрацы, — спокойно сказал Антон.
Все вспомнили о том, что за простенком на палубе сложены новые матрацы, и, собравшись у этого простенка, присели на корточки. Самолет дал вторую очередь. Звякнуло оконное стекло. Сбившись в кучу, прижавшись друг к другу в углу перевязочной, сидели полуголые раненые и женщины, одетые в белые халаты. Каждый из них старался сжаться в комок, тело другого являлось защитой, иной защиты не было. А над этими сбившимися в кучку людьми, над тазами, наполненными кровавыми и гнойными бинтами, на высоком перевязочном столе лежал юноша с запрокинутой назад головой и с плотно сжатыми губами, со спокойной линией длинных бровей.
«Ему уже нечего бояться. То, что с ним случилось, хуже смерти, — думала Катерина Ивановна. — Понимает ли он это?»
У него было еще совсем молодое лицо, серые глаза иногда смотрели по-детски открыто и вопросительно, но углы красивого длинного рта были плотно сжаты, и в них выражение какой-то навсегда принятой в себя скорби.
Ему было неудобно лежать.
— Дайте подушку, — сказала Катерина Ивановна лейтенанту, взяла ее, подошла к Антону и положила подушку ему под голову. — Вам так будет удобнее, — сказала она для того, чтобы сказать что-нибудь. — Может быть, положить вас на пол?
— Какая разница? — сказал он сухо. — Не стойте здесь. Сядьте.
Ей трудно было отойти от него, но стоять над ним было бессмысленно, и, отойдя к простенку, она послушно присела.
За три дня пути она второй раз послушалась этого раненого юношу. В первый раз это произошло так. Его ежедневно брали в перевязочную. В том, как он переносил унизительные и болезненные процедуры, была какая-то особая красота.
— Положите меня лицом к окну, — просил он и, отвернувшись от своего тела, пристально смотрел в окно, напряженно думая о чем-то, и ни звуком, ни движением не реагировал на те манипуляции, которые с ним производили. В сестрах он вызывал восхищение, а санитарка Фрося говорила:
— Да из чего же он сделан? Железо ковырять — и то скрипит!
Но однажды ему перевязку делала не Лена, а неуклюжая Ксеня. Он долго молча терпел, но потом сказал посеревшими губами:
— Уйдите отсюда, позовите Лену.
— Не капризничайте, больной, я знаю, что делаю, — ответила Ксения.
— Уйдите отсюда, я вам говорю! — повторил он с ненавистью.
— А я вам говорю, чтобы вы здесь не командовали. Много тут командиров.
— Уйди, ты… — хрипло сказал он и выругался.
— Я сама перевяжу вас, — быстро сказала Катерина Ивановна. Она сделала ему перевязку, которую он перенес с прежней окаменелостью.
Когда его выносили, он строго сказал Катерине Ивановне:
— Чтобы ее здесь больше не было.
Его поведение было недопустимым, но Катерина Ивановна не только не осудила его, но сама устыдилась, что поставила и перевязочную неловкую, неумелую сестру, и в тот же день сняла ее с перевязок.
Снова послышался неприятный нарастающий гул самолета, — сделав круг, он опять шел к пароходу. Снова в окне показался его силуэт.
Антону вдруг вспомнилась голубятня и детские мечты о том, чтобы держать на голубятне орлов. Большая серо-зеленая птица летела прямо на него и несла что-то в когтистых лапах. Ему захотелось рвануть на себе рубашку и подставить грудь, но он преодолел это желание. В душе он уже умер для себя. Он безошибочно знал, что его, прежнего, с прежним характером, с прежней судьбой, уже нет. А для того чтобы сделать себя нового, надо было сломить свою непреодолимую гордость, надо было смириться с новой, жалкой долей. Это было очень трудно. Он отгонял тяжелые мысли и боролся с желанием смерти. Сейчас гневно сказал себе: «Что трусишь? Закалка не та? Нет, жить будешь, никуда не денешься, жить будешь!»
Самолет дал еще одну очередь и ушел в сторону.
Женщина-врач, присев на корточки, неотрывно смотрела на Антона большими карими глазами. Она раздражала его. Когда ему становилось очень плохо, теряя сознание, он звал именно ее, а когда ему делалось лучше, ее присутствие было ему тяжело.
Сейчас, сидя на корточках, с выбившимися из-под шапочки черными кудрями, с полураскрытым в забывчивости ртом, с этим пристальным горячим и нежным взглядом, она была так привлекательна, что он невольно подумал: «Ах, хороша! Милая, смуглая, та самая… Да нет! Такая, наверное, как и все. Здорового ждет, с орденами». И ему стало тяжело от этих мыслей. Он уже замечал в себе странно злобное отношение к людям. Это унижало его.
И в этой борьбе ему неоткуда было ждать помощи. Несколько лет назад он потерял отца и мать; ни братьев, ни сестер, ни жены у него не было.
В его жизни была только одна женщина — красивая и умная студентка консерватории. Однажды она долго играла ему на рояле, а потом обняла его и сказала:
— Ну, Тоша, понимай меня, как знаешь, а я тебя люблю. И ничего мне от тебя не надо, а вот люблю я тебя одного, и все тут.
Он был счастлив с ней, считал ее замечательной женщиной. Даже теперь, когда она была женой другого, он думал о ней с благодарностью и уважением. Но никогда, даже в самые лучшие их часы, его не покидало ощущение, что это «не то», что все не так, как надо. «Не те» были поступки, слова, жесты.
А в этой чужой и незнакомой женщине все казалось ему именно таким, как надо, поэтому в ее присутствии он с особой остротой ощущал свою неполноценность и раздражался.
Стих шум самолетов, и женщина подошла к нему.
— Сейчас я все вам сделаю, — сказала она виновато. — Вы, наверное, устали здесь лежать?
А в перевязочную уже вносили бойцов, только что пострадавших от обстрела.
4
К вечеру у Антона обычно поднималась температура, и сквозь лихорадочное полузабытье все краски казались ему особенно яркими, голоса — особенно звучными. Он слышал, как розовощекий лейтенант говорил тонким вибрирующим голосом:
— У нас не хватает грелок — это безобразие! У меня опять кошмарные боли. Я страдаю гипоацидным катаром желудка, а меня здесь кормят черным хлебом. Я и в окружении не ел такого хлеба.
— Да, — отозвался кавалерист, прищуривая глаза, — мы тоже были в окружении. Мы тоже там такого хлеба не ели. Мы там такой хлеб коням отдавали.
Он внезапно перестал щуриться и закончил другим топом:
— У нас вместо хлеба махорка была, а у коней вместо овса — что? Коню вместо овса самокрутку в морду не всунешь.
— Мы с вашими ребятами две ночи рядом ночевали, — сказал капитан с чужим лицом. — Хорошие попались ребята.
— У них плохих не бывает, — с веселым возбуждением вступил в беседу захмелевший от боли и лихорадки Антон. — В кавалерии плохому человеку нельзя. Плохого кони не носят. Конь человека чует. Жена мужа так не понимает, как конь седока.
— Да, — подтвердил кавалерист. — Коня не проведешь. Это тебе не танк. У коня — душа! И сколько я раз замечал: как попадается к нам барахляный человечишка, так до первой атаки. Плохого седока конь не бережет.
Утомившись, Антон задремал. Внезапно рядом ударили орудия, кавалерист повалился на бок, а из горла у него высоким фонтаном брызнула кровь.
— Доктора! — закричал капитан и, не дожидаясь ответа, схватил кавалериста на руки и понес его в операционную.
Розовощекий лейтенант моментально спрыгнул с верхней полки и присел на пол, стягивая матрац с постели себе на голову.
— Где шлюпка для тяжелораненых? — спросил он пробегавшую мимо их каюты сестру.
— Обе шлюпки разбило, комиссара разорвало, — ответила она на бегу.
Антон с трудом приподнял голову и увидел совсем рядом на берегу ясно различимые в буйно-зеленых кустах жерла орудий.
— Немецкий десант на берегу, — сказал он. Фарватер проходил у самого берега, и орудия били в упор.
Пароход стал круто заворачивать и остановился на полповороте. На палубе метались люди. Белокурая санитарка выбежала на палубу и сразу упала…
— Почему остановились? — спросил кто-то в коридоре.
Ответили отчетливо и спокойно:
— Повреждена машина, и перебита цепь рулевого управления.
А фашисты словно только и ждали остановки парохода. Едва он стал неподвижен, они хлестнули по бортам огнем утроенной силы. Каюту пробило сразу в нескольких местах. Лейтенанту оцарапало щеку, и он, тихо взвизгнув, бросился к умывальнику, совал с него фарфоровую в цветах раковину, надел ее себе на голову и с раковиной на голове заметался по каюте.
— Пояс надень, дурак! — с отвращением крикнул ему Антон. Лейтенант очнулся, бросил раковину, схватил сперва один спасательный пояс, потом другой и с двумя поясами выбежал из каюты.
Поясов не хватало, и люди бросали в воду столы, скамьи, двери и доски от перегородок. Грохот орудий смешивался с криком раненых и с треском отдираемого дерева.
— Комиссар приказал тяжелораненых грузить в шлюпку. Ох, господи боже мой, что же это?! Давай носилки! — донесся плачущий голос сестры Веры, и через несколько минут она с санитарками прошла мимо, неся на носилках раненого. Они пронесли еще нескольких раненых и направились к Антону, когда кто-то позвал их:
— Сюда, сюда, сестрица, возьмите меня…
Они ушли и надолго исчезли.
Из соседней каюты вышел начальник судна. Евдокия Петровна шла, прижав обе руки к груди, лицо у нее было бескровным, а губы в забывчивости твердили:
— Что же теперь делать? Леночка, Леночка!
Антон не знал, что это было имя ее дочери.
— Товарищ начальник! — позвал он ее. Она подошла к нему и посмотрела на него невидящими глазами.
— Товарищ начальник, где у вас то оружие, которое вы отобрали у комсостава? — спросил ее Антон, стараясь говорить отчетливее и громче, как говорят с бредящим человеком.
— В несгораемом шкафу.
— Надо раздать оружие тяжелораненым, тем, которые не могут плыть.
— Зачем раздавать оружие? — спросила она, словно просыпаясь.
— Когда пароход опустеет, мы будем отстреливаться.
— Ключи от несгораемого шкафа у комиссара. Сейчас я принесу.
Она ушла быстро, казалось, ее обрадовала возможность каких-то разумных действий.
Она вернулась очень скоро, и при взгляде на нее он подумал, что она смертельно ранена.
— В верхних карманах ключей нет, а нижняя половина тела упала за борт, — сказала она, словно отрапортовала. Она смотрела на него вопросительно и все время глотала и не могла проглотить клубка, который катался у нее в горле.
— Доктора! — закричали рядом, и она быстро ушла на зов.
Прикованный к койке и забытый всеми, Антон лежал один и не отрываясь смотрел в окно.
На палубе уже не было людей. Антон видел серое низкое небо, густую зелень прибрежных кустов и спокойную плотную воду.
Он столько раз звал смерть, а сейчас, когда она была близка и неизбежна, он вдруг понял, что вот эта зелень, это небо и вода и есть счастье и что это удивительное счастье, исчезнув, уже не возвратится никогда. И он согласен был на любые страдания, лишь бы не утратить этого куска неба, зелени и воды.
Капитан с чужим лицом быстро вошел в каюту, снял с полки два пояса, один надел сам, а другой стал надевать Антону.
— Поплывем, друг, — быстро говорил он. — Пароход и горит и тонет, спасаться надо!
— Оставь… Не дотянешь, у тебя рука ранена! — сказал Антон, с жадностью и надеждой глядя в лицо капитану.
— А пояса на что? — возразил тот. — Была бы у меня рука цела, я бы тебя и без пояса вытянул.
Он застегивал пояс на груди Антона, когда осколок мины вошел ему в плечо. Вторая рука его повисла плетью, лицо приняло беспомощное выражение, и, покачнувшись, он вышел из каюты.
Антон остался одни.
Приподняв голову, он мог видеть, как немцы бегали по берегу. Они махали руками и кричали:
— Рус! Рус! Плыви сюда! Сюда стрелять не буду, туда буду!
Орудия били неторопливо сверху вниз, слева направо.
«Вот она, смерть!» — думал Антон. Он редко думал о смерти, но, когда думал, ему казалось, что он умрет либо на поле боя под грохот атаки, либо еще очень не скоро, седовласым старцем, в кругу печальных родственников и друзей. Но не было ни радостного грохота наступления, ни торжественной печали родных. Была невзрачная каюта, неприбранные постели, скомканные одеяла из серой байки, брошенная на пол раковина от умывальника да жуткая пустота оставленного людьми парохода.
Умереть безоружному, в одиночестве, без человеческого участия, без славы, без памяти, без могилы… И, не в силах совладать с собой, он застонал и, собрав все свои силы, попробовал приподняться. Его руки искали оружие, глаза искали человеческих глаз. Но пусто было на исковерканном пароходе, только орудия все ленивее щелкали по бортам и откуда-то снизу тянуло гарью.
5
Когда начался обстрел, Катерина Ивановна работала в перевязочной. Узнав, что стреляет береговой десант, она подумала: «Слава богу, не бомба, не самолет, не мина». Ей казалось, что стоит отплыть немного — и опасность останется позади. Но пароход не двигался с места. Снаряды то и дело рвались рядом, раненые переполняли перевязочную, а на палубе шла небывалая суматоха. Потом палуба опустела, раненых стало меньше, пришла Вера и сказала, что и начальник и комиссар убиты.
Перевязав последнего раненого, Катерина Ивановна взяла санитарную сумку и спустилась вниз. Там несколько минут назад, в начале обстрела, раненые из третьего и четвертого классов и из трюмов, оборудованных под палаты, бросились к пролетам парохода, стремясь прыгнуть в воду. В пролетах образовалась пробка из сотен людей, и на них сосредоточили огонь немецкие орудия.
Когда Катерина Ивановна спустилась, она увидела кучу окровавленных человеческих тел. Горела кухня, и короткие языки пламени лениво лизали стены. Около машинного отделения, вытянувшись, закинув голову и как-то хитро опустив ресницы, лежал капитан, а на его груди, словно закрывая его собой, лежала «Мы с капитаном». Оба были мертвы.
Из глубины третьего класса прямо к Катерине Ивановне шел повар Яша. Устремив неподвижный, пристальный взор на Катерину Ивановну, он пробирался к ней, ступая в лужи крови, равнодушный к свистящим вокруг него осколкам и ко всему окружающему. Подойдя к Катерине Ивановне, он остановился, посмотрел на нее блестящим жадно-тоскующим взглядом и сказал:
— А Фросю-то мою сейчас миной убило.
Фрося была его женой и работала санитаркой.
Катерина Ивановна перевязывала раненого и ничего не ответила Яше.
Он молча постоял над ней несколько мгновений, потом повернулся и медленно побрел дальше.
Еще несколько раз она видела его одинокую фигуру. Он безучастно бродил по опустевшему пароходу, но стоило ему где-нибудь увидеть человека, как лицо Яши освещалось надеждой, и, не замечая ни огня, ни крови, он устремлялся туда, для того чтобы взглянуть тем же тоскующим взглядом и повторить ту же фразу: «А Фросю мою сейчас миной убило».
Он жаждал хотя бы слова участия, хотя бы одного из тех вежливых и пустых слов, которые люди так охотно расточают друг другу. Но люди едва смотрели на него непонимающими дикими глазами, каждый был занят собой, и никто не сказал ему того слова, которое было ему нужнее жизни. И, постояв в бесплодном ожидании, Яша медленно отходил и бесцельно брел дальше.
Кто-то схватил Катерину Ивановну за ногу.
— Доктор, сделайте милость, — попросил ее человек с развороченным животом. И она сделала то, что запрещали законы и этика, — она ввела ему большую дозу морфия. Она сделала еще несколько перевязок.
Пароход медленно тонул, трюмы уже были залиты водой, пламя из кухни перебросилось в соседнее помещение. Пожар на пароходе всегда казался Екатерине Ивановне страшным бедствием, но теперь, среди ужасов этого часа, он был самым незначительным из них, и люди входили в горящие двери, перешагивали через огненные пороги, не обращая внимания на пламя. Несколько раз Катерина Ивановна думала о том, чтобы взять пояс и прыгнуть в воду, но какое-то непонятное чувство удерживало ее и приказывало ей оставаться здесь до конца. И только оглянувшись и не увидев ни одного человека, Катерина Ивановна неторопливо, хотя перила лестницы уже горели, поднялась наверх и направилась в каюту за спасательным поясом. Но дверь в ее каюту была сорвана, и пояса там не было.
Катерина Ивановна почти не умела плавать, но она так отупела от всего виденного и пережитого, что ее не испугало отсутствие пояса. Она посидела немного в каюте, вслушиваясь в странную тишину, — убедившись в том, что пароход пуст, немцы перестали стрелять. Потом она пошла по коридору, рассчитывая найти что-нибудь, что помогло бы ей держаться на воде.
— Доктор, доктор! — прозвучал знакомый голос. Из ближней каюты на нее смотрели блестящие, напряженные и одновременно очень спокойные глаза раненого танкиста. Казалось, он смотрел издалека, было в его взгляде непередаваемое спокойствие уже все решившего человека. Она подошла к нему.
— У вас нет пояса! Возьмите мой.
Он с трудом вытянул из-за спины пробковый пояс, подал ей и приказал:
— Плывите!
Она смотрела на его бледное лицо с плотно сжатыми углами длинного рта, широко открытыми блестящими глазами, и ей казалось, что никто в мире не был ей роднее, чем этот юноша.
— Я не поплыву одна. Мы поплывем вместе на одном поясе, — сказала она с отчаянием, не веря своим словам.
Его лицо озарилось такой благодарностью, таким светом радости и гордости за нее, словно он ждал этих слов и боялся не услышать их. Но голос его звучал ровно:
— Мне не доплыть, доктор, я не могу шевелиться. Не стойте здесь. Прощайте.
Он протянул большую, розовую от вечернего света, теплую и такую живую руку. Она взяла ее и, вместо того чтобы уйти, села к нему на постель и с силой сжала его пальцы.
Тишина, сорванные двери, брошенная на пол раковина, невытертая кровь, стянутые с полки матрацы — все уже было мертво здесь. Только они двое были живыми на тонущем пароходе, и юноша, окликнувший ее в свой смертный час, был ей бесконечно дорог.
— Доктор, у вас нет оружия? — спросил он, оживляясь и приподняв голову.
— Нет.
— Неужели на пароходе ни у кого не было оружия?
— Была винтовка у вахтенного.
— Доктор, принесите мне ее.
Она снова спустилась вниз, обойдя полпарохода, с трудом отыскала винтовку и принесла ее Антону. Он нетерпеливо схватил ее, пересчитал патроны и попросил:
— Помогите мне повернуться.
Она помогла ему лечь так, чтобы можно было стрелять.
Он глубоко, как перед прыжком, вздохнул и сказал Катерине Ивановне:
— Ну, прощайте. Плывите. Когда вы отплывете, я буду стрелять.
Но у нее не хватило сил на то, чтобы уйти. Беспомощным женским движением она прильнула щекой к его плечу.
Превозмогая боль, он осторожно гладил ее по голове. Он утешал ее, словно не он, а она оставалась умирать на пароходе. Он был благодарен ей. Своим беспомощным жестом она дала ему радость еще раз почувствовать себя сильным, смелым, мужественным. Он не ошибся: в ней было удивительное свойство без слов угадывать и поступать так, как ему было нужно. И сейчас она делала самое лучшее из того, что могла, — она помогала ему умирать так, как должен умирать мужчина. Он смотрел на нее с нежностью, и пальцы его перебирали ее прохладные тонкие волосы.
Все сильнее пахло гарью и дымом.
— Плывите, — сказал Антон. — Пора.
И, для того чтобы облегчить ей уход и утешить ее, добавил, печально улыбнувшись:
— Ведь скоро стемнеет, может быть, вы и успеете приехать за мной на шлюпке.
Она знала, что это невозможно, она понимала, что ему хочется утешить ее, но инстинктивно, обманывая себя, она ухватилась за эту мысль и стала надевать пояс.
— Возьмите, — сказал он и подал ей бумажник. — Это документы.
Она спрятала бумажник в резиновую сумочку для документов, которую носила на шее.
Она надела пояс, хотела встать, снова не смогла и прижалась к его рукам мокрыми щеками.
— Я вернусь. Я приеду за вами, — повторяла она. Ей было тяжело оторваться от него.
Наконец она встала, задохнувшись, не нашла в себе силы на последний взгляд и, как слепая, вытянув вперед руки, вышла из каюты.
Когда в дверях скрылась тонкая черноволосая женщина — последний человек в его жизни, — он закрыл глаза и долго лежал неподвижно. Он был рад, что именно она пришла к нему в этот час. Тепло ее щек еще согревало его ладони. Он еще видел ее исчезавшую гибкую фигуру в белом халате.
Ему захотелось позвать ее, но он не знал ее имени. Тогда губы сами тоскливо шепнули: «Мама, мама!» Но он сжал их и замер в неподвижности.
Ему казалось, что он очень спокоен, а на самом деле все силы его уходили на то, чтобы не закричать, не забыться в тоске. Выждав время, достаточное для того, чтобы она отплыла, он стал вглядываться в то, что происходило на берегу. Уверенные в своей безопасности, немцы свободно ходили по берегу.
Он выждал некоторое время и, когда увидел двух немцев, перед которыми все другие стали навытяжку, выстрелил в одного из них. Немец вскинул руки и упал.
— Так, паразит! — сказал Антон, загораясь жестокой радостью. Он уложил второго немца и стал стрелять в тех, кто подбежал к упавшим.
По пароходу ударили минометы. Осколки свистели над Антоном, пробивали стены, рвали постель, а он лежал, словно заговоренный.
На корме разгоралось пламя, и при перемене ветра клубы дыма наполняли каюту. Вода была уже близко — пароход сильнее и сильнее погружался в воду. Антон израсходовал все патроны, кроме одного. Но когда, успокоенные его молчанием, немцы снова вышли из-за кустов, он не выдержал.
— Пусть будет так, — сказал он и израсходовал свой последний патрон. Немцы снова подняли бешеную стрельбу.
Теперь оставалось только ждать. Он откинулся на подушку.
Что первым настигнет его? Огонь или вода? Если бы пуля! Но и огонь и вода лучше, чем непоправимый ужас страшного увечья.
Антон теперь сам искал пули, стараясь приподняться и показать свою голову тем, на берегу. «Не болезнь, не вода, не огонь — все-таки пуля!» Ему пробило висок.
Катерина Ивановна не помнила, как она прыгнула за борт, не почувствовала холода воды и поплыла вперед почти бессознательно. Только через несколько минут она стала яснее воспринимать окружающее и увидела впереди себя плывущих людей. Она плыла больше часа, тело ее застыло и онемело от усталости и холода, она несколько раз теряла сознание, но, когда волны начинали захлестывать ее, она, захлебываясь, снова приходила в себя и снова обретала силы.
Наконец она достигла берега, вышла на отмель и только тогда оглянулась. До этого она не позволяла себе оглядываться, инстинктивно оберегая себя, боясь увидеть то ужасное, что было неизбежно, и обессилеть от горя.
Все было кончено. Всюду расстилалась необъятная, ровная и плотная гладь Волги. Парохода не было. И сейчас у Катерины Ивановны исчезли все ощущения, кроме камнем опустившейся на нее тоски.
Что пережил за этот час тот, чьи руки дали ей пояс и послали ее жить? Как пришла к нему смерть? Вода ли захлестнула или огонь сжег его живое тело?
Горе женщины было так велико, что она не могла шевелиться, не хотела видеть людей и слышать их голоса. Она легла на берег, ей казалось, что только эта огромная, серая, мокрая земля может разделить с ней ее горе. Она вдавливалась в землю всем телом, и колючий мокрый песок прилипал к ней, а волны мерно бились о ее руки.
— Встань-ка, девонька. Встань, голубка. — Старик с ведром в руке тряс ее за плечо.
Она поднялась и покорно пошла за ним. Ее мокрое, насквозь промерзшее тело застывало на холодном осеннем ветру, но она не чувствовала холода. Ноги ее одеревенели от утомления, она шла неверной, заплетающейся походкой, но не чувствовала усталости.
Обогнув береговой холм, старик привел ее к костру, горевшему в ложбине. Она огляделась вокруг. Был ветреный, ненастный осенний вечер. Недоброе, багровое у горизонта небо было покрыто тучами. В ложбине стояло стадо коров.
Коровы задирали кверху больные красноглазые морды и надрывно мычали.
Вокруг костра сидели несколько бойцов и сестер с парохода. Катерину Ивановну увели за кусты и одели в сухое платье. Потом она безмолвно легла у костра. Кто-то дал ей горячего молока, кто-то укрыл шинелью. Было тихо, и только худая женщина говорила неторопливо и мерно:
— Третий день они не доены. Двоих перегонщиков убило, а мне всех не передоить. Вымя у них нагрубли, сами ревут, мочи нет.
Она говорила спокойно и, казалось, думала о чем-то совсем другом. Руки ее быстро и споро чистили картофель, а по неподвижному спокойному лицу одна за другой непрерывно текли слезы. Они мешали ей, она смахивала их, а они набегали снова.
— Катерина Ивановна, вас не ранило? — спросила Лена.
— Нет.
— Счастье наше такое, — удивленно и безрадостно сказала Лена и, желая подбодрить себя и Катерину Ивановну, продолжала: — Значит, через два дня домой попадем. Я с мамой увижусь, а вы с мужем. Господи, да неужто это может быть — дом?!
Вот он, тот миг, которого в глубине души так долго ждала Катерина Ивановна. Окончен страшный путь. Она спаслась! Она может ехать домой!
Она закрыла глаза, и перед ней возникли ее уютная и чистая квартира, паркетный пол, голубые вазы на белых салфетках. Она увидела радостное лицо мужа, его сильные теплые плечи. Но сейчас перед ней встало другое лицо. Оно смотрело глазами брата, друга, командира.
Короткая встреча с человеком, который остался умирать на пароходе, стала самой значительной встречей в ее жизни. Она знала, что никогда ее не забудет.
Все стало другим за этот день. Давно уже она была на фронте и дышала воздухом войны, но до сегодняшнего дня мир войны был чужд ей. Всеми мыслями, всею своей сущностью она продолжала жить в милом домашнем миру. Она была женщиной, посланной на фронт, но не была бойцом.
Раньше она жила на фронте, но сердце ее было дома. Теперь, даже если она уедет домой, сердце ее останется здесь.
И странно, ничего ободряющего не произошло за этот день, наоборот, он был насыщен ужасами, но никогда раньше у Катерины Ивановны не было такой твердости и такой абсолютной уверенности в победе. Ее состояние можно было сравнить с состоянием женщины, которая, задыхаясь в родовых муках, ни на минуту не теряет уверенности в том, что ребенок появится на свет, что он уже рождается.
Катерина Ивановна села и сказала сестрам:
— Мне дал свой пояс танкист, у которого было ранение позвоночника. Он остался на пароходе и стрелял в немцев из винтовки вахтенного.
Девушки ничего не ответили ей, только лица их стали суровее. Они молча обматывали босые ноги бинтами из сансумки, каким-то чудом попавшей сюда.
Катерина Ивановна вынула бумажник Антона и открыла его. Она увидела комсомольский билет, несколько писем и фотографическую карточку. На ней была изображена красивая черноглазая девушка. На обороте она прочла: «Будущему командарму от будущего маэстро».
Катерина Ивановна спрятала бумажник и стала тщательно забинтовывать свои застывшие босые ноги. Неподвижность была непереносима. Только действие могло облегчить ее. Она встала, затянула бинтом отсыревшую тяжелую шинель и сказала:
— Я буду пробираться к Сталинграду. Мы там нужнее. Кто со мной?
— А там не подумают, что мы шпионки? — спросила Лена.
— Меня знают в эвакопункте.
— Мы выйдем на шоссе, там нас подвезут на машине, — сказала Лена, вставая.
Когда они поднялись на холм, из ложбины навстречу им вышли розовощекий лейтенант и Яша. Лейтенант возбужденно и быстро говорил что-то, он энергично жестикулировал. Следом за ним шел безразличный ко всему Яша.
— Не в ту сторону! Не в ту сторону! — закричал лейтенант, увидя женщин. — Поворачивайте обратно. Идем с нами. В пятнадцати километрах районный центр, оттуда идут машины на север. Я уже сговорился с одним человеком, через три дня будем в Саратове.
Катерина Ивановна молча прошла мимо, а Лена, обернувшись, бросила:
— Мы идем к Сталинграду.
Лейтенант, остановившись, смотрел им вслед.
Был сумрачный вечер. Холодный ветер трепал мокрые ветви низкорослого кустарника.
Две женщины с босыми, обмотанными марлей ногами, одетые в большие мокрые шинели, шли к Сталинграду. И, когда они отошли уже далеко, Яша, словно спохватившись, побежал за ними.

Галина Николаева. «Гибель командарма».
Художник П. Пинкисевич.
КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ
ДОЖДЛИВЫЙ РАССВЕТ[96]
В Наволоки пароход пришел ночью. Майор Кузьмин вышел на палубу. Моросил дождь. На пристани было пусто, — горел только один фонарь.
«Где же город? — подумал Кузьмин. — Тьма, дождь — черт знает что!»
Он поежился, застегнул шинель. С реки задувал холодный ветер. Кузьмин разыскал помощника капитана, спросил, долго ли пароход простоит в Наволоках.
— Часа три, — ответил помощник. — Смотря по погрузке. А вам зачем? Вы же едете дальше.
— Письмо надо передать. От соседа по госпиталю. Его жене. Она здесь, в Наволоках.
— Да, задача! — вздохнул помощник. — Хоть глаз выколи! Гудки слушайте, а то останетесь.
Кузьмин вышел на пристань, поднялся по скользкой лестнице на крутой берег. Было слышно, как шуршит в кустах дождь. Кузьмин постоял, чтобы глаза привыкли к темноте, увидел понурую лошадь, кривую извозчичью пролетку. Верх пролетки был поднят. Из-под него слышался храп.
— Эй, приятель, — громко сказал Кузьмин, — царство божие проспишь!
Извозчик заворочался, вылез, высморкался, вытер нос полой армяка и только тогда спросил:
— Поедем, что ли?
— Поедем, — согласился Кузьмин.
— А куда везти?
Кузьмин назвал улицу.
— Далеко, — забеспокоился извозчик. — На горе. Не меньше как на четвертинку взять надо.
Он задергал вожжами, зачмокал. Пролетка нехотя тронулась.
— Ты что же, единственный в Наволоках извозчик? — спросил Кузьмин.
— Двое нас, стариков. Остальные сражаются. А вы к кому?
— К Башиловой.
— Знаю, — извозчик живо обернулся. — К Ольге Андреевне, доктора Андрея Петровича дочке. Прошлой зимой из Москвы приехала, поселилась в отцовском доме. Сам Андрей Петрович два года как помер, а дом ихний…
Пролетка качнулась, залязгала и вылезла из ухаба.
— Ты на дорогу смотри, — посоветовал Кузьмин. — Не оглядывайся.
— Дорога действительно… — пробормотал извозчик. — Тут днем ехать, конечно, сробеешь. А ночью ничего. Ночью ям не видно.
Извозчик замолчал. Кузьмин закурил, откинулся в глубь пролетки. По поднятому верху барабанил дождь. Далеко лаяли собаки. Пахло укропом, мокрыми заборами, речной сыростью. «Час ночи, не меньше», — подумал Кузьмин. Тотчас где-то на колокольне надтреснутый колокол действительно пробил один удар.
«Остаться бы здесь на весь отпуск, — подумал Кузьмин. — От одного воздуха все пройдет, все неприятности после ранения. Снять комнату в домишке с окнами в сад. В такую ночь открыть настежь окна, лечь, укрыться и слушать, как дождь стучит по лопухам».
— А вы не муж ихний? — спросил извозчик.
Кузьмин не ответил. Извозчик подумал, что военный не расслышал его вопроса, но второй раз спросить не решился. «Ясно, муж, — сообразил извозчик. — А люди болтают, что она мужа бросила еще до войны. Врут, надо полагать».
— Но, сатана! — крикнул он и хлестнул вожжой костлявую лошадь. — Нанялась тесто месить!
«Глупо, что пароход опоздал и пришел ночью, — подумал Кузьмин. — Почему Башилов — его сосед по палате, когда узнал, что Кузьмин будет проезжать мимо Наволок, попросил передать письмо жене непременно из рук в руки? Придется будить людей, бог знает что еще могут подумать!»
Башилов был высокий насмешливый офицер. Говорил он охотно и много. Перед тем как сказать что-нибудь острое, он долго и беззвучно смеялся. До призыва в армию Башилов работал помощником режиссера в кино. Каждый вечер он подробно рассказывал соседям по палате о знаменитых фильмах. Раненые любили рассказы Башилова, ждали их и удивлялись его памяти. В своих оценках людей, событий, книг Башилов был резок, очень упрям и высмеивал каждого, кто пытался ему возражать. Но высмеивал хитро — намеками, шутками, — и высмеянный обыкновение только через час-два спохватывался, соображал, что Башилов его обидел, и придумывал ядовитый ответ. Но отвечать, конечно, было уже поздно.
За день до отъезда Кузьмина Башилов передал ему письмо для своей жены, и впервые на лице у Башилова Кузьмин заметил растерянную улыбку. А потом ночью Кузьмин слышал, как Башилов ворочался на койке и сморкался. «Может быть, он и не такой уж сухарь, — подумал Кузьмин. — Вот, кажется, плачет. Значит, любит. И любит сильно».
Весь следующий день Башилов не отходил от Кузьмина, поглядывал на него, подарил офицерскую флягу, а перед самым отъездом они выпили вдвоем бутылку припрятанного Башиловым вина.
— Что вы на меня так смотрите? — спросил Кузьмин.
— Хороший вы человек, — ответил Башилов. — Вы могли бы быть художником, дорогой майор.
— Я топограф, — ответил Кузьмин. — А топографы по натуре — те же художники.
— Почему?
— Бродяги, — неопределенно ответил Кузьмин.
— «Изгнанники, бродяги и поэты, — насмешливо продекламировал Башилов, — кто жаждал быть, но стать ничем не смог».[97]
— Это из кого?
— Из Волошина. Но не в этом дело. Я смотрю на вас потому, что завидую. Вот и все.
— Чему завидуете?
Башилов повертел стакан, откинулся на спинку стула и усмехнулся. Сидели они в конце госпитального коридора у плетеного столика. За окном ветер гнул молодые деревья, шумел листьями, нес пыль. Из-за реки шла на город дождевая туча.
— Чему завидую? — переспросил Башилов и положил свою красную руку на руку Кузьмина. — Всему. Даже вашей руке.
— Ничего не понимаю, — сказал Кузьмин и осторожно убрал свою руку. Прикосновение холодной руки Башилова было ему неприятно. Но чтобы Башилов этого не заметил, Кузьмин взял бутылку и начал разливать вино.
— Ну и не понимайте! — ответил Башилов сердито. Он помолчал и заговорил, опустив глаза: — Если бы мы могли поменяться местами! Но, в общем, все это чепуха! Через два дня вы будете в Наволоках. Увидите Ольгу Андреевну. Она пожмет вам руку. Вот я и завидую. Теперь-то вы понимаете?
— Ну что вы! — сказал, растерявшись, Кузьмин. — Вы тоже увидите вашу жену.
— Она мне не жена! — резко ответил Башилов. — Хорошо еще, что вы не сказали «супруга».
— Ну, извините, — пробормотал Кузьмин.
— Она мне не жена! — так же резко повторил Башилов. — Она — всё! Вся моя жизнь. Ну, довольно об этом!
Он встал и протянул Кузьмину руку:
— Прощайте. А на меня не сердитесь. Я не хуже других.
Пролетка въехала на дамбу. Темнота стала гуще. В старых ветлах сонно шумел, стекал с листьев дождь. Лошадь застучала копытами по настилу моста.
«Далеко все-таки!» — вздохнул Кузьмин и сказал извозчику:
— Ты меня подожди около дома. Отвезешь обратно на пристань…
— Это можно, — тотчас согласился извозчик и подумал: «Нет, видать, не муж. Муж бы наверняка остался на день-другой. Видать, посторонний».
Началась булыжная мостовая. Пролетка затряслась, задребезжала железными подножками. Извозчик свернул на обочину. Колеса мягко покатились по сырому песку. Кузьмин снова задумался.
Вот Башилов позавидовал ему. Конечно, никакой зависти не было. Просто Башилов сказал не то слово. После разговора с Башиловым у окна в госпитале, наоборот, Кузьмин начал завидовать Башилову. «Опять не то слово?» — с досадой сказал про себя Кузьмин. Он не завидовал. Он просто жалел о том, что вот ему сорок лет, но не было у него еще такой любви, как у Башилова. Всегда он был один.
«Ночь, дождь шумит по пустым садам, чужой городок, с лугов несет туманом, — так и жизнь пройдет», — почему-то подумал Кузьмин.
Снова ему захотелось остаться здесь. Он любил русские городки, где с крылечек видны заречные луга, широкие взвозы, телеги с сеном на паромах. Эта любовь удивляла его самого. Вырос он на юге, в морской семье. От отца осталось у него пристрастие к изысканиям, географическим картам, скитальчеству. Поэтому он и стал топографом. Профессию эту Кузьмин считал все же случайной и думал, что если бы родился в другое время, то был бы охотником, открывателем новых земель. Ему нравилось так думать о себе, но он ошибался. В характере у него не было ничего, что свойственно таким людям. Кузьмин был застенчив, мягок с окружающими. Легкая седина выдавала его возраст. Но, глядя на этого худенького, невысокого офицера, никто не дал бы ему больше тридцати лет.
Пролетка въехала наконец в темный городок. Только в одном доме, должно быть, в аптеке, горела за стеклянной дверью синяя лампочка. Улица пошла в гору. Извозчик слез с козел, чтобы лошади было легче. Кузьмин тоже слез. Он шел, немного отстав, за пролеткой и вдруг почувствовал всю странность своей жизни. «Где я? — подумал он. — Какие-то Наволоки, глушь, лошадь высекает искры подковами. Где-то рядом — неизвестная женщина. Ей надо передать ночью важное и, должно быть, невеселое письмо. А два месяца назад были фронт, Польша, широкая тихая Висла. Странно как-то! И хорошо».
Гора окончилась. Извозчик свернул в боковую улицу. Тучи кое-где разошлись, и в черноте над головой то тут, то там зажигалась звезда. Поблестев в лужах, она гасла.
Пролетка остановилась около дома с мезонином.
— Приехали! — сказал извозчик. — Звонок у калитки, с правого боку.
Кузьмин ощупью нашел деревянную ручку звонка и потянул ее, но никакого звонка не услышал — только завизжала ржавая проволока.
— Шибче тяните! — посоветовал извозчик.
Кузьмин снова дернул за ручку. В глубине дома заболтал колокольчик. Но в доме было по-прежнему тихо, — никто, очевидно, не проснулся.
— Ох-хо-хо! — зевнул извозчик. — Ночь дождливая — самый крепкий сон.
Кузьмин подождал, позвонил сильнее. На деревянной галерейке послышались шаги. Кто-то подошел к двери, остановился, послушал, потом недовольно спросил:
— Кто такие? Чего надо?
Кузьмин хотел ответить, но извозчик его опередил.
— Отворяй, Марфа, — сказал он. — К Ольге Андреевне приехали. С фронта.
— Кто с фронта? — так же неласково спросил за дверью голос. — Мы никого не ждем.
— Не ждете, а дождались!
Дверь приоткрылась на цепочке. Кузьмин сказал в темноту, кто он и зачем приехал.
— Батюшки! — испуганно сказала женщина за дверью. — Беспокойство вам какое! Сейчас отомкну. Ольга Андреевна спит. Вы зайдите, я ее разбужу.
Дверь отворилась, и Кузьмин вошел в темную галерейку.
— Тут ступеньки, — предупредила женщина уже другим, ласковым голосом. — Ночь-то какая, а вы приехали! Обождите, не ушибитесь. Я сейчас лампу засвечу, — у нас по ночам огня нету.
Она ушла, а Кузьмин остался на галерейке. Из комнат тянуло запахом чая и еще каким-то слабым и приятным запахом. На галерейку вышел кот, потерся о ноги Кузьмина, помурлыкал и ушел обратно в ночные комнаты, как бы приглашая Кузьмина за собой.
За приоткрытой дверью задрожал слабый свет.
— Пожалуйте, — сказала женщина.
Кузьмин вошел. Женщина поклонилась ему. Это была высокая старуха с темным лицом. Кузьмин, стараясь не шуметь, снял китель, фуражку, повесил на вешалку около двери.
— Да вы не беспокойтесь, все равно Ольгу Андреевну будить придется, — улыбнулась старуха.
— Гудки с пристани здесь слышно? — вполголоса спросил Кузьмин.
— Слышно, батюшка! Хорошо слышно. Неужто с парохода да на пароход! Вот тут садитесь, на диван.
Старуха ушла. Кузьмин сел на диван с деревянной спинкой, поколебался, достал папиросу, закурил. Он волновался, и непонятное это волнение его сердило. Им овладело то чувство, какое бывает всегда, когда попадаешь ночью в незнакомый дом, в чужую жизнь, полную тайн и догадок. Эта жизнь лежит, как книга, забытая на столе на какой-нибудь шестьдесят пятой странице. Заглядываешь на эту страницу и стараешься угадать: о чем написана книга, что в ней?
На столе действительно лежала раскрытая книга. Кузьмин встал, наклонился над ней и, прислушиваясь к торопливому шепоту за дверью и шелесту платья, прочел про себя давно забытые слова:
И невозможное возможно,
Дорога дальняя легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка…[98]
Кузьмин поднял голову, осмотрелся. Низкая теплая комната опять вызвала у него желание остаться в этом городке.
Есть особенный простодушный уют в таких комнатах с висячей лампой над обеденным столом, с ее белым матовым абажуром, с оленьими рогами над картиной, изображающей собаку около постели больной девочки. Такие комнаты вызывают улыбку — так здесь все старомодно, знакомо и давно позабыто.
Все вокруг, даже пепельница из розовой раковины, говорило мирной и долгой жизни, и Кузьмин снова подумал о том, как хорошо было бы остаться тут и жить так, как жили обитатели старого дома, — неторопливо, — в чередовании труда и отдыха, зим, весен, дождливых и солнечных дней.
Но среди старых вещей в комнате были и другие. На столе стоял букет полевых цветов — ромашки, медуницы, дикой рябинки. Букет был собран, должно быть, недавно. На скатерти лежали ножницы и отрезанные ими лишние стебли цветов.
И рядом — раскрытая книга Блока. И черная женская маленькая шляпа на рояле, на синем плюшевом альбоме для фотографий. Совсем не старинная, а очень современная шляпа. И небрежно брошенные на столе часики в никелевом браслете. Они шли бесшумно и показывали половину второго. И всегда немного печальный, особенно в такую позднюю ночь, запах духов.
Одна створка окна была открыта. За ней, за вазонами с бегонией, поблескивал от неяркого света, падавшего из окна, мокрый куст сирени. В темноте перешептывался слабый дождь. В жестяном желобе торопливо стучали тяжелые капли.
Кузьмин прислушался к стуку капель. Веками мучившая людей мысль о необратимости каждой минуты пришла ему в голову именно сейчас, ночью, в незнакомом доме, откуда через несколько минут он уйдет и куда никогда не вернется.
«Старость это, что ли?» — подумал Кузьмин и обернулся.
На пороге комнаты стояла молодая женщина в черном платье. Очевидно, она торопилась выйти к нему и плохо причесалась. Одна коса упала ей на плечо, и женщина, не спуская глаз с Кузьмина и смущенно улыбаясь, подняла ее и приколола шпилькой к волосам на затылке. Кузьмин поклонился.
— Извините, — сказала женщина и протянула Кузьмину руку. — Я вас заставила ждать.
— Вы Ольга Андреевна Башилова?
— Да.
Кузьмин смотрел на женщину. Его удивили ее молодость и блеск глаз — глубокий и немного туманный.
Кузьмин извинился за беспокойство, достал из кармана кителя письмо Башилова, подал женщине. Она взяла письмо, поблагодарила и, не читая, положила его на рояль.
— Что же мы стоим! — сказала она. — Садитесь! Вот сюда, к столу. Здесь светлее.
Кузьмин сел к столу, попросил разрешения закурить.
— Курите, конечно, — сказала женщина. — Я тоже, пожалуй, закурю.
Кузьмин предложил ей папиросу, зажег спичку. Когда она закурила, на лицо ее упал свет спички, и сосредоточенное это лицо с чистым лбом показалось Кузьмину знакомым.
Ольга Андреевна села против Кузьмина. Он ждал расспросов, но она молчала и смотрела за окно, где все так же однотонно шумел дождь.
— Марфуша, — сказала Ольга Андреевна и обернулась к двери. — Поставь, милая, самовар.
— Нет, что вы! — испугался Кузьмин. — Я тороплюсь. Извозчик ждет на улице. Я должен был только передать вам письмо и рассказать кое-что… о вашем муже.
— Что рассказывать! — ответила Ольга Андреевна, вытащила из букета цветок ромашки и начала безжалостно обрывать на нем лепестки. — Он жив — и я рада.
Кузьмин молчал.
— Не торопитесь, — просто, как старому другу, сказала Ольга Андреевна. — Гудки мы услышим. Пароход отойдет, конечно, не раньше рассвета.
— Почему?
— А у нас, батюшка, пониже Наволок, — сказала из соседней комнаты Марфа, — перекат большой на реке. Его ночью проходить опасно. Вот капитаны и ждут до света.
— Это правда, — подтвердила Ольга Андреевна. — Пешком до пристани всего четверть часа. Если идти через городской сад. Я вас провожу. А извозчика вы отпустите. Кто вас привез? Василий?
— Вот этого я не знаю, — улыбнулся Кузьмин.
— Тимофей их привез, — сообщила из-за двери Марфа. — Было слышно, как она гремит самоварной трубой. — Хоть чайку попейте. А то что же — из дождя да под дождь.
Кузьмин согласился, вышел к воротам, расплатился с извозчиком. Извозчик долго не уезжал, топтался около лошади, поправлял шлею.
Когда Кузьмин вернулся, стол уже был накрыт. Стояли синие старинные чашки с золотыми ободками, кувшин с топленым молоком, мед, начатая бутылка вина. Марфа внесла самовар.
Ольга Андреевна извинилась за скудное угощение, рассказала, что собирается обратно в Москву, а сейчас пока что работает в Наволоках, в городской библиотеке. Кузьмин все ждал, что она наконец спросит о Башилове, но она не спрашивала. Кузьмин испытывал от этого все большее смущение. Он догадывался еще в госпитале, что у Башилова разлад с женой. Но сейчас, после того как она, не читая, отложила письмо на рояль, он совершенно убедился в этом, и ему уже казалось, что он не выполнил своего долга перед Башиловым и очень в этом виноват. «Очевидно, она прочтет письмо позже», — подумал он. Одно было ясно: письмо, которому Башилов придавал такое значение и ради которого Кузьмин появился в неурочный час в этом доме, уже ненужно здесь и неинтересно. В конце концов Башилову Кузьмин не помог и только поставил себя в неловкое положение. Ольга Андреевна как будто догадалась об этом и сказала:
— Вы не сердитесь. Есть почта, есть телеграф, — я не знаю, зачем ему понадобилось вас затруднять.
— Какое же затруднение! — поспешно ответил Кузьмин и добавил, помолчав: — Наоборот, это очень хорошо.
— Что хорошо?
Кузьмин покраснел.
— Что хорошо? — громче переспросила Ольга Андреевна и подняла на Кузьмина глаза. Она смотрела на него, как бы стараясь догадаться, о чем он думает, — строго, подавшись вперед, ожидая ответа.
Но Кузьмин молчал.
— Но все же, что хорошо? — опять спросила она.
— Как вам сказать, — ответил, раздумывая, Кузьмин. — Это особый разговор. Все, что мы любим, редко с нами случается. Не знаю, как у других, но я сужу по себе. Все хорошее почти всегда проходит мимо. Вы понимаете?
— Не очень, — ответила Ольга Андреевна и нахмурилась.
— Как бы вам объяснить, — сказал Кузьмин, сердясь на себя. — С вами тоже так, наверное, бывало. Из окна вагона вы вдруг увидите поляну в березовом лесу, увидите, как осенняя паутина заблестит на солнце, и вам захочется выскочить на ходу из поезда и остаться на этой поляне. Но поезд проходит мимо. Вы высовываетесь из окна и смотрите назад, куда уносятся все эти рощи, луга, лошаденки, проселочные дороги, и слышите неясный звон. Что звенит — непонятно. Может быть, лес или воздух. Или гудят телеграфные провода. А может быть, рельсы звенят от хода поезда. Мелькнет вот так, на мгновение, а помнишь об этом всю жизнь.
Кузьмин замолчал. Ольга Андреевна пододвинула ему стакан с вином.
— Я в жизни, — сказал Кузьмин и покраснел, как обычно краснел, когда ему случалось говорить о себе, — всегда ждал вот таких неожиданных и простых вещей. И если находил их, то бывал счастлив. Ненадолго, но бывал.
— И сейчас тоже? — спросила Ольга Андреевна.
— Да!
Ольга Андреевна опустила глаза.
— Почему? — спросила она.
— Не знаю точно. Такое у меня ощущение. Я был ранен на Висле, лежал в госпитале. Все получали письма, а я не получал. Просто мне не от кого было их получать. Лежал, выдумывал, конечно, как все выдумывают, свое будущее после войны. Обязательно счастливое и необыкновенное. Потом вылечился, и меня решили отправить на отдых. Назначили город.
— Какой? — спросила Ольга Андреевна.
Кузьмин назвал город. Ольга Андреевна ничего не ответила.
— Сел на пароход, — продолжал Кузьмин. — Деревни на берегах, пристани. И очертевшее сознание одиночества. Ради бога, не подумайте, что я жалуюсь. В одиночестве тоже много хорошего. Потом Наволоки. Я боялся их проспать. Вышел на палубу глухой ночью и подумал: как странно, что в этой огромной, закрывшей всю Россию темноте, под дождливым небом спокойно спят тысячи разных людей. Потом я ехал сюда на извозчике и все гадал, кого я встречу.
— Чем же вы все-таки счастливы? — спросила Ольга Андреевна.
— Так… — спохватился Кузьмин. — Вообще хорошо.
Он замолчал.
— Что же вы? Говорите!
— О чем? Я и так разболтался, наговорил лишнего.
— Обо всем, — ответила Ольга Андреевна. Она как будто не расслышала его последних слов. — О чем хотите, — добавила она. — Хотя все это немного странно.
Она встала, подошла к окну, отодвинула занавеску. Дождь не стихал.
— Что странно? — спросил Кузьмин.
— Все дождь! — сказала Ольга Андреевна и обернулась. — Такая вот встреча. И весь этот наш ночной разговор, — разве это не странно?
Кузьмин смущенно молчал.
В сыром мраке за окном, где-то под горой, загудел пароход.
— Ну что ж, — как будто с облегчением сказала Ольга Андреевна. — Вот и гудок!
Кузьмин встал. Ольга Андреевна не двигалась.
— Погодите, — сказала она спокойно. — Давайте сядем перед дорогой. Как в старину.
Кузьмин снова сел. Ольга Андреевна тоже села, задумалась, даже отвернулась от Кузьмина. Кузьмин, глядя на ее высокие плечи, на тяжелые косы, заколотые узлом на затылке, на чистый изгиб шеи, подумал, что если бы не Башилов, то он никуда бы не уехал из этого городка, остался бы здесь до конца отпуска и жил бы, волнуясь и зная, что рядом живет эта милая и очень грустная сейчас женщина.
Ольга Андреевна встала. В маленькой прихожей Кузьмин помог ей надеть плащ. Она накинула на голову платок.
Они вышли, молча пошли по темной улице.
— Скоро рассвет, — сказала Ольга Андреевна.
Над заречной стороной синело водянистое небо. Кузьмин заметил, что Ольга Андреевна вздрогнула.
— Вам холодно? — встревожился он. — Зря вы пошли меня провожать. Я бы и сам нашел дорогу.
— Нет, не зря, — коротко ответила Ольга Андреевна.
Дождь прошел, но с крыш еще падали капли, постукивали по дощатому тротуару.
В конце улицы тянулся городской сад. Калитка была открыта. За ней сразу начинались густые, запущенные аллеи. В саду пахло ночным холодом, сырым песком. Это был старый сад, черный от высоких лип. Липы уже отцветали и слабо пахли. Один только раз ветер прошел по саду, и весь он зашумел, будто над ним пролился и тотчас стих крупный и сильный ливень.
В конце сада был обрыв над рекой, а за обрывом — предрассветные дождливые дали, тусклые огни бакенов внизу, туман, вся грусть летнего ненастья.
— Как же мы спустимся? — спросил Кузьмин.
— Идите сюда!
Ольга Андреевна свернула по тропинке прямо к обрыву и подошла к деревянной лестнице, уходящей вниз, в темноту.
— Дайте руку! — сказала Ольга Андреевна. — Здесь много гнилых ступенек.
Кузьмин подал ей руку, и они осторожно начали спускаться. Между ступенек росла мокрая от дождя трава.
На последней площадке лестницы они остановились. Были уже видны пристань, зеленые и красные огни парохода. Свистел пар. Сердце у Кузьмина сжалось от сознания, что сейчас он расстанется с этой незнакомой и такой близкой ему женщиной и ничего ей не скажет — ничего! Даже не поблагодарит за то, что она встретилась ему на пути, подала маленькую крепкую руку в сырой перчатке, осторожно свела его по ветхой лестнице, и каждый раз, когда над перилами свешивалась мокрая ветка и могла задеть его по лицу, она тихо говорила: «Нагните голову!» И Кузьмин покорно наклонял голову.
— Попрощаемся здесь, — сказала Ольга Андреевна. — Дальше я не пойду.
Кузьмин взглянул на нее. Из-под платка смотрели на него тревожные, строгие глаза. Неужели вот сейчас, сию минуту, все уйдет в прошлое и станет одним из томительных воспоминаний и в ее и в его жизни?
Ольга Андреевна протянула Кузьмину руку. Кузьмин поцеловал ее и почувствовал тот же слабый запах духов, что впервые услышал в темной комнате под шорох дождя.
Когда он поднял голову, Ольга Андреевна что-то сказала, но так тихо, что Кузьмин не расслышал. Ему показалось, что она сказала одно только слово: «Напрасно…» Может быть, она сказала еще что-нибудь, но с реки сердито закричал пароход, жалуясь на промозглый рассвет, на свою бродячую жизнь в дождях, в туманах.
Кузьмин сбежал, не оглядываясь, на берег, прошел через пахнущую рогожками и дегтем пристань, вошел на пароход и тотчас же поднялся на пустую палубу. Пароход уже отваливал, медленно работая колесами. Кузьмин прошел на корму, посмотрел на обрыв, на лестницу — Ольга Андреевна была еще там. Чуть светало, и ее трудно было разглядеть. Кузьмин поднял руку, но Ольга Андреевна не ответила.
Пароход уходил все дальше, гнал на песчаные берега длинные волны, качал бакены, и прибрежные кусты лозняка отвечали торопливым шумом на удары пароходных колес.
1945
ВЛАДИМИР ФОМЕНКО
ПАСЕЧНИК
Не достав ни подводы, ни проводника, я расспросил дорогу и поздним вечером пошел на пасеку Григория Смирдова. Плутать пришлось долго, чуть ли не полночи, и, когда наконец показались белеющие при луне ульи, я сел на землю передохнуть.
Место вокруг было открытое, привольное. Стояла тишина, и только где-то, может, за километр, выкрикивал перепел свое извечное: «Пить по-дем! Пить по-дем?», а другой, совсем возле меня, коротко, в одно слово, отвечал: «Питьподем!» — и было слышно, как он, задевая былки, перебегал в сухой придорожной траве.
Мальчишка лет тринадцати, с берданкой в руках, подозрительно осмотрел меня при зыбком ночном свете и, успокоившись, сказал, что он здесь сторожует, а хозяин уехал в колхоз за подкурочной серой и к утру вернется.
Яркая белая луна висела над головой; в ее свете ульи темнели продолговатыми отверстиями летков. Было росно. Нудный дневной ветер улегся, и кусты лесополосы застыли над вытянутой, точно шнур, дорогой. Мальчик, говоривший вначале хриповатым басом (должно быть, от испуга и чтоб напугать меня), теперь заговорил своим, детским голосом:
— Вы, дядя, аж из района?.. Ого!.. Вы ложитесь да спите. До колхоза четырнадцать километров, куда вам деться! Смирдов приедет — не заругает…
Прямо меж ульями стояли два жиденьких дощатых топчана. Мальчик сел на один и, немного подержав берданку (видимо, опять возникло опасение: «Что оно за человек?»), положил ее в головах. Я с наслаждением лег на другой топчан, вытянул усталые ноги и через минуту заснул.
Когда меня разбудили легкие, быстрые шаги, на дворе светало. Перед топчаном, придерживая за руль велосипед, стоял стройный, как веточка, паренек в кубанке, лихо брошенной с затылка на правую бровь.
— Здравствуйте! — сказал он. — Вы кто будете?
Я назвал себя.
— Очень приятно! Я пасечник Смирдов.
С представлением о пасечнике мог быть связан любой человек, только не этот парень, который стоял сбоку, поблескивая из-под кубанки бедовыми глазами.
— Здорово ночевалось?
По фигуре и по выговору он напоминал нижнедонского казачка с близкого к районному центру хутора. Говорил он на резкое «г» и вместо «идет» смачно произносил «идеть», был мал ростом, сух в стане и широк в груди, украшенной медалями.
— Вы по какому вопросу прибыли?.. А-а, насчет получки дополнительной оплаты пасечникам! — Он свистнул. — В нашем колхозе получишь! «Два белых, третий как снег…» Во время качки и все правление, и сам председатель тут. Пока едят мед, покупают языками и краску и лесоматериал для пасеки. Кончилась качка — ни одного днем с огнем не найдешь.
Он положил наземь велосипед, привычным движением заправил гимнастерку под широкий офицерский ремень.
— Ставлю им вопрос: «Хватит брехать. Стыдно». Не понимают. Такие… — Он было открыл рот, но сдержался, начал откручивать краник бака над пчелиной поёнкой.
Проложенные внизу дощечки с ровчиками за ночь высохли и теперь впитывали в себя медленную капель. Покончив с краником, он все-таки мастерски выругался и легкой походкой пошел к контрольному улью, стоящему на весах. Откинув назад голову, расставив ноги в коротких «цыганских» сапожках, он взвешивал улей, пощелкивая ногтем по никелированному балансу.
— Тэ-эк…
Пригляделся к термометру, висящему здесь же на столбике:
— Тепло. Должно, подходящий будет взяток.
И, посвистывая, стал оглядывать тучки, застывшие на бледном горизонте. Края неба были хмарными, неясными.
Было часа четыре, но рассвет словно задержался. Яркие при луне, ульи теперь казались расплывчатыми, водянисто-серыми, воздух был мягок и беззвучен. Неожиданно ветерок тронул махры придорожного шалфея, качнул их и замер, и уже далеко от нас пошел вдоль дороги, шевельнув пушины осота, даже не подняв улегшейся за ночь пыли.
Мальчишка-сторож заворочался на топчане, поежился открытой спиной и еще плотнее намотал на голову засаленный кожушок.
Влажно, тихо… Вдруг над нами что-то прожужжало и будто горстью крошек сыпануло по ближнему улью. Смирдов нагнулся, быстро притянул меня за рукав. Еще и еще жвикнуло мимо уха, и на прилетную доску упало сверху несколько пчел. Они казались толстыми и неуклюжими от пушистой пыльцы, ножки их были облеплены крупными комками.
— Видали?.. — почему-то шепотом спросил Смирдов. — Одно слово — десятый вулик! — Он произнес не «улик», а «вулик», осторожно присел к упавшим пчелам. — Это вчерась они, уже свечерело, не выдержали, еще раз подались за взятком. Нагрузились, а тут ночь. Где-то под листом перебыли и вот вертаются…
И еще падали пчелы, качая брюшками, заползали в леток.
— Герои! — Смирдов, хлопнув ладонями по коротеньким щегольским голенищам, подтянул их и пошел меж ульев, позвякивая медалями.
— Вы кем служили, товарищ Смирдов?
— Гвардии старшиной. Командиром отделения разведки.
Через плечо на узком ремешке, лихо заброшенная назад, висела планшетка, целлулоидный воротничок плотно обтягивал розовую шею. Видно, старшина любил и умел одеваться с тем особым неуставным шиком, который отличает конников сверхсрочной службы. Его энергичное, начисто безбровое лицо было насмешливо, а когда он говорил, под тонкой кожей играли мускулы.
Пасечник… Это никак не вязалось с четкой строевой выправкой старшины, с вызывающе молодым лицом.
Он обошел ульи, снова остановился у десятого, поманил меня глазами:
— Ч-ш-ш… Слышите?
В улье словно рождалось тихое, торжественное гудение.
— Гляньте! — беззвучно зашевелил старшина губами. — Когда еще солнце встанет, а у них уж подъем. Сейчас побудка происходит… — Он на цыпочках отступил в сторону и только там трубно высморкался. — Это семья! Все четыре килограмма — рекордисты!
— Как «четыре килограмма»?
— Ну, четыре килограмма пчелы. Сорок тысяч работников. Я им еще граммов триста добавлю. И в первом улике рекордисты. Тоже подъем играют…
Прислушиваясь, он, как петух, поворачивал голову набок.
— Зато в сороковом… Ну, с-симулянты проклятые! Солнце вон аж куда подымется, светит им прямо в леток, а они еще спят, хоть каблуком по крыше бей! И работу бросают чуть не в обед… — Старшина злобно сплюнул. — Я из-за них со всеми соседями переругался. Все настаивают, что семьи от природы выводятся — какая работящая, а какая лодырь. А я настаиваю, что — кровь с носу! — можно причины раскрыть и на свой вкус делать семьи! Пчеловоды мне тычут в нос практику. Верно, на практике при всех одинаковых условиях одни семьи — рекордисты, другие — лодыри. Я это сам испытал, а не верю… Какие — еще не скажу, а должны быть причины. Что хотишь, это диалектика!
Заря давно занялась, но лучи не могли пробиться через хмарь, степь светлела в мягком, расплывшемся тумане. Может, к дождю.
Сильно и приторно тянуло цветущим подсолнухом. Пчелы просыпались, одна за другой гудели в воздухе и, сделав над пасекой облетный круг, уходили по-над дорогой.
Все было так мирно, покойно, что глаза невольно искали сгорбленного, беззубого деда в валенках, в дырявой войлочной шляпе. Вот он уже полчаса раздумчиво почесывает седую грудь старой рукой; пчела ползет по морщинам руки, а дед глядит, все глядит рассветное поле и всей устоявшейся душой понимает и утро, и сток, раскрывший лепестки навстречу утру, и пчелу, летящую на этот цветок…
Старшина вскинул руку, щелкнул ногтем по стеклышку часов:
— Без трех пять.
Я не выдержал:
— Товарищ Смирдов! Как вы, такой молодой, отписались на пасеку?
Он движением головы бросил кубанку на глаза, поиграл ремешком планшетки.
— Вы, конечно, не обижайтесь… у вас отстающие взгляды, читаете: «Подумаешь, улики — большое дело!..» А вы, — ноздри старшины стали резкими, — вы лучше б поинтересовались, чего нового в нашей технике да за какие задачи мы боремся. А то даже удивительно…
— Вы напрасно, товарищ Смирдов…
— Чего напрасно? Считаете, что раз пасека — чухайся помаленьку! А что мы природу реконструируем, этим интересовались? — Раздражаясь, он хлопнул по одному, по другому карману бриджей, выдернул прозрачный плексигласовый портсигар, но, забыв, не открыл его. — Например, поинтересовались, что пчелы тыщи лет роились, когда им надумывалось? Что за сколько дней до роения работали абы как, все митинговали. Как в Лондоне!.. А теперь мы указываем — выделяем семьи, когда нам требуется. А не требуется — пр-ресекаем роевое настроение!
Он открыл портсигар, стал было набирать табак и снова не набрал.
— И во внутреннем распорядке пчелы берем руководство! Считалось, что матка в семье — единственная, нераздельная царица; соседскую матку до пчел не то что близко, на дух не подноси — убьют: природный закон… А у нас свой закон! Достигли, что по две матки живут в одном вулике, — вдвое размножают кадры! И культурную гигиену ввели пчеле — дезинфекцию, вентиляцию! И в производство ее вникли — массовым порядком ставим ей искусственную вощину.
Отсюдова и результаты. Не буду хвастать, а что взял двести пудов меду, то взял! Это еще у нашего руководства наплевательство на пасеку, — не достали семян фацелии, а то б засеял, привез пчелу на цветы, с закрытыми б глазами взял пятьсот пудов. Я всем глотки поперерву, а на будущий год засею фацелию!..
Старшина наконец скрутил папиросу, чиркнул зажигалкой.
— А вы все считаете: пасека — тишь да гладь… Вы ж не проверяли наш план по воску? Не проверяли.
Затягиваясь, он понемногу отходил, говорил спокойнее и тише.
— Проверьте… А ведь воск необходим и в авиации, и в автоделе, и в электрификации, и еще в тридцати семи производствах, и в пятилетнем плане выполняет роль! Скажите, так?
— Ну, так.
— Извиняюсь, зачем «ну»? Просто «так»! Вот… мы с этим, — он кивнул на спящего мальчишку, — из пятидесяти семей выводим еще двадцать, обязуемся, что с весны семьдесят полетят за взятком!
— Выполните?
— Это не постановка: «Выполните, не выполните»… По углю спущен план — Донбассу другое в голову не придет. Так и по чугуну, по стали. А по пчеле иначе решать? Что, пчела уголь не роет? Брехня! Без урожая и шахтеру, и кому угодно не обойтись. А кто способствует урожаю? Пчела! Мед — дело пятое, надо дальше носа смотреть: пчела как опылитель — бог в повышении урожая!
Погода разгуливалась. Влажные тучи, нависшие с утра, испарялись, солнце съедало последние остатки тумана, и сухой ветер начинал рябить метелки устоявшегося за ночь бурьяна.
— Бог! — повторил старшина и, потрогав термометр, разбудил мальчишку: — Петя, накоси травы, поскладай на улики. Видишь, днем припечет.
На пасеке рос гул. Пчелы выползали из летков, взвивались, плетя на солнце золотую пряжу.
Старшина взвесил контрольный улик.
— Ушло семьсот двадцать граммов…
— А сколько надо?
— Столько и надо. Летом, в разгар цветения, уходит по два килограмма, половина семьи.
— Что ж остальные делают?
— Мало ли дел?! Кормилицы (это из молодых, что еще в поле не летали) кормят детку: три дня молочком, три медом с пыльцой, на шестой печатают детку крышками, а матке — той все время молочко; уборщицам за помещение ответственность: крошка воску оборвалась, либо пчела померла, присохла — убери. И не у порога кидай, а вынеси за территорию. Другие тянут вощину; третьи, когда жара, стоят коло летка, производят крыльями вентиляцию; какие несут караул; а граммов пятьдесят, полтыщи штук — исключительно при матке. Она червит — за ней печатай ячейки, создавай обстановку… Приемщицы — на приемке нектара. Встреть прилетную пчелу, с ее зоба перекачай в свой и лей в соты: какую ячейку запакуй медом, какую пергой,[99] или оставь порожней — для детки.
Невольно открыл я рот, слушая о давно известной великой работе пчел.
— Здорово это у них!
— Да, постановочка крепкая, — соглашается старшина, — а все ж подходи критически, поправляй пчелу.
— В чем же?
— Во многом. Требуется новые семьи выделять организованно, не допускать самотека; воровство меда между уликами пресекать. Воровство, как и у нас, слабый участок — туды его в резинку!.. И с трутнями слабый. С них же работы ноль, а жрут впятеро. Матке требуется один трутень, чтоб раз в жизни ее оплодотворить — и все. А в семьях без соображения кладут и кладут трутовые яички — вроде их на базар везти. Надо ж вмешаться. Сейчас буду их в четырнадцатом срезать — посмотрите.
Он шагнул к улью.
— Сетки я не держу, так что вы уж так стойте. Не обмахивайтесь, если какая торкнется…
Он взялся за крышку, чуть наддал вверх и, отведя в сторону, снял. Возросшее в первую секунду гуденье спало, я заглянул в кипящий сорока тысячами жителей пчелиный дом. Пчелы ходили по рамкам и стенам, к моему удивлению, довольно спокойно кружились в воздухе. На обрез стены выползла пара толстых, медлительных трутней.
— Разъели морды на даровых харчах…
Нагруженные нектаром работницы прилетали с поля и, хотя улей был открыт сверху, влезали через леток.
— Дисциплинка! — залюбовался старшина. — Знают, куда лезть.
Он вынул, поднял перед собой усаженную пчелами восковую рамку. Желто-белая, она светилась рядами геометрически выточенных шестигранных ячеек. Часть их была залита медом и просвечивала на солнце, часть темнела в центре маленькими пятнами.
— Это и есть детка — будущая работница. Упаковочка, опечаточка… Культура!
Верхний же ряд ячеек, прилепленный к самой раме, отличался крупной величиной и неправильной формой.
— А вот это трутовые…
Старшина отнес рамку к раскладному столику, около которого с парующим чайником стоял Петька, и, окунув в кипяток нож, провел по «трутовому» ряду.
— Гитлер капут.
Пчелы облепили пальцы старшины, одна продолжала жужжать, ходила по лицу, но не жалила.
— Что, они вас знают?
— Пчеле не дано знать человека. Просто стой по команде «смирно», даже по глазу ползет — не моргни, и все дело.
— А ведь говорят, что кому пчела дается, а кому нет.
— То симулянты говорят! Загубят, сволочи, пасеку и оправдываются.
Старшина загнутым на конце шильцем вытащил резаных трутней, поставил рамку на место, вынул другую, густо облепленную пчелами, и вдруг зашипел:
— Ч-ш-ш! Гляньте, гляньте, матка червит…
Сперва я ничего не понял. На рамке шевелился, полз живой клубок.
— Да вот же она, посередке…
Наконец я увидел. Раза в полтора крупнее обычной пчелы, с длинным туловищем и маленькими крыльями, матка, не обращая внимания на нас, людей, ходила по сотам среди густой свиты. Быстро шевеля крылышками, она заглядывала в пустую ячейку и, оборотясь, запускала туда свое заостренное брюшко, шла к следующей — «засевала» соты. Окружающие пчелы, все повернувшись к ней головами, вытягивали в ее сторону язычки, тихо жужжали. Пройдя несколько ячеек, матка остановилась, вытянула язычок. Тотчас ближняя из свиты пчела поспешно сунула свой хоботок матке, покормила ее, дабы хозяйка не утруждалась, сама не брала мед из сотов.
Прилетевшая с поля облепленная пыльцой пчела, гуднув в воздухе, села рядом с маткой, поползла было, но, увидев матку, мгновенно, с прыжка, повернулась к ней головой, подобострастно быстро затрепетала крыльями.
Старшина аккуратно опустил рамку на место.
— Видали? Вот она, жажда умножаться! Как они перед маткой вытанцовывают, когда она червит! А эта, полевая, развернулась — и под козырь: «Извините, не заметила…» А ведь перестань матка червить — враз всей семьей убьют: «Даешь новую, да такую, чтоб в день тыщи две расплода закладывала!» Эта матка, которую смотрели, ручная, живет второй год. А других рамок и трогать не будем: там червит молодая, пугливая, я ее недавно пчелкам дал.
Щурясь светлыми нагловатыми глазами, он хвастливо сообщил, что запасных маток у него ни много ни мало, а все двадцать пять! При каждой по три сотни рядовых. Для личного ее обслуживания.
— Выводил я этих маток способом Целлера. Теперь хочу спытать что-либо другое.
— Разве эти плохо вывелись?
— Зачем? Неплохо. А может, по-другому будет лучше.
Сдвинув на глаза кубанку, он поскреб затылок.
— Понимаете, я без доверия к старому… Ну, не доверяю! — Он туго заправил гимнастерку. — Все мучит меня мысль: пасеки существовали тогда еще, когда люди тележного скрипа пугались, пасеки и теперь существуют, когда самолеты управляются по радио. Раз все идет в гору, обязана ж и пасека идти! Потому я и смотрю на рамку старой конструкции — вроде она меня… вдарит. Не доверяю ей! Что, если вместо нее дать что другое? Так же с матками…
Солнце поднималось, начинало обходить ульи, и мне только теперь бросилось в глаза, что летки смотрели не на юг, как заведено, а на северо-восток, почти на север. Освещенные с утра, они заходили сейчас в тень.
— Вот! Вот я об этом и говорю! — заметил старшина мое недоумение. — Пускай это не вредительство, когда улики у людей повернуты на пекло, а просто она же, проклятая бездумность! Нема соображения, что весной и осенью хорошо леток солнцем заливать, а летом скверно. Летом холодок нужен, а пчеле создают баню, потому что, дескать, летки тыщи лет глядели на юг.
Мы стояли у десятого улья, у того самого, который сегодня поднялся до солнца, и я наблюдал редкое зрелище. Из потока пчел, летящих с поля, падала, не долетая до улья, то одна, то другая перегруженная медом. Упавшие минуту лежали и, передохнув, добирались до улья уже ползком.
Опять на лице старшины появилась та же ухмылка, что утром:
— От так всегда жмут! Но как объяснить, что именно в нем, в десятом, такие отличники? Какое условие их схформировало?.. Эх, слаб еще умом наш брат, царь природы!
— М-да…
— То-то оно, что «м-да», — подтвердил старшина, обернулся назад, на стук колес. По дороге, запряженная парой красно-рыжих скачущих в намет лошадей, громыхала бричка. Две девахи стояли в бричке в полный рост, одна правила лошадьми, держась за натянутые вожжи, другая вцепливалась в плечо подруги, и у них, с трудом балансирующих, хохочущих, вспрыгивали на толчках щеки, груди, зады и здоровенные икры, напеченные солнцем.
— Девчата-а-а! — заорал старшина. — Завертайте до нас мед на мед менять.
Бричка пролетела, завеса пыли пошла над ульями, в этой серой завесе, едва не сбивая нас, шарахнувшись, проскакал отставший жеребенок.
— Вот так, — подвел итог старшина, сгоняя с лица неположенные на посту чувства, с тоской глядя вслед умчавшемуся видению. — Что ж, пошли подзавтракаем… Гляньте — двадцать три девятого.
В лесополосе, скрытой ветвями диких абрикос, стоял на двойных тяжелых баллонах немецкий штабной вагончик. Его бока были пробиты пулями и теперь зашпаклеваны, вероятно, колхозным печником. На дверце, ниже никелированной ручки, красовалась марка аугсбургского завода и дата: 1936 год.
Старшина хмыкнул:
— С тридцать шестого года дожидался, когда попадет на мою пасеку!..
В вагончике стояли солнечные воскотопки, медогонка, дымарь, а над ними висел газетный лист с надписью: «Нет плохого года для хорошего пчеловода».
Я засмеялся:
— На практике-то, выходит, есть. Взять вас: завидный у вас медосбор, а все ж суховей не дал взять с улья по центнеру.
— Ну так что же? Плохой год виноватый? Суховей помешал, что колхоз фацелию не сеял? За недобор меда оправдываться в суде надо!
Старшина достал из погребка, вырытого под вагоном, глечик простокваши, армейскую алюминиевую флягу с медом и три пышки (одну отложил для Петьки). Мы позавтракали.
Ветер, бежавший над равниной, не прохватывал лесополосу, и здесь парило, словно в бане. Мои руки и лицо стали влажными. Я еще раз удивился подтянутости старшины. Он сидел в суконных бриджах, в диагоналевой тщательно выутюженной гимнастерке; несмотря на духоту, воротник был застегнут на все пуговицы, туго обтягивал крепкую шею.
Сквозь деревья виднелась жаркая, уже с утра обожженная степь; до самого горизонта переваливались с бугра на бугор желтые массивы отцветающего подсолнуха.
Видимо, над нашими головами проходила основная пчелиная трасса. Пчелы с пасеки летели на подсолнух, другие — обратно, и воздух колыхался от ровного напряженного гула.
Перед нами на стебель кашки упала пчела. Она была облеплена комками перги, спинка, крылышки, даже глаза — все было пушисто и желто от подсолнечного жирного цветения. Перегруженная взятком, пчела тяжело дышала. Секунду передохнув, она с усилием оторвалась от стебля, но не улетела, не смогла улететь от услышанного в цветке меда, а, сделав круг, снова прицепилась к цветку и, раздвигая головой лепестки, жадно всосалась в венчик. Мы видели только подрагивающий темный кончик брюшка. Наконец пчела подалась назад и, тяжело загудев, низко над землей полетела к пасеке.
— Что?! — крутнулся ко мне старшина. — Ну! Ну, как мы хлопаем ушами, такую красавицу упускаем! Не закрепляем ее в природе!
Звякнув медалями, он вскочил с земли.
— Это с десятого вулика. Я ж знаю — с десятого! И так нагрузилась по завязку — нет, мало, дай еще возьму! И вся семья такая. Скажите, ведь нельзя, чтоб это было без причины: просто хорошая пчелка — и все? Ведь нельзя же? Нет, вы скажите, нас же презирать надо, если не расчухаем, отчего эта семья так работает; гнать нас надо, если всех такими не сделаем!..
Пчелы все летели и летели в синем воздухе.
— Эх, лазиим в природе, как слепые кошата… Ладно, еще глянем кто кого!!
Подтянув голенища, он встал, хлопнул дверцей вагончика.
Я тоже стал собираться.
— Берите мой велосипед, — распорядился старшина. — В правлении оставите счетоводу.
Мы простились. Проехав до поворота, я обернулся. Парень шагал к пасеке, между ветками мелькал красный верх его кубанки.
1947
ЮОЗАС БАЛТУШИС
НОЧЬ ПЕРЕД БОЛЬШОЙ ПАХОТОЙ
Если бы не Бенис, этот вечный заводила, все могло бы оставаться по-прежнему. Ведь злосчастное поле Пауры пустует с самого конца войны. Простояло бы еще и этой осенью. Но куда там! До тех пор надоедал Бенис, пока не прожужжал отцу все уши, пока тому жизнь не опостылела. Пришлось уступить. В который уж раз! Беда теперь с молодежью, хоть с родными детьми. Все чего-нибудь выдумывают, все старых в спину подталкивают: то, мол, сделай и это сделай. Целую осень не давали покоя с поставками: дескать, выведем Алёнскую апилинку на первое место. А теперь — с этим полем. Октябрьские, мол, на носу, отметим их, запашем бодяк, по которому ветры в пятнашки играют. Мыслимая ли это штука — ни с того ни с сего чужие пашни пахать? Деды-прадеды такого не слыхивали! Но поди попробуй уломай молодых! Земля-де теперь всей стране принадлежит, и нельзя ей пустовать — всем убыток. И такую тебе проповедь закатят — нехотя замолчишь.
Коли начистоту — правда на их стороне: нехорошо, когда земля по лемеху плачет. Этот Паура — чтоб его волки схватили и не кинули — с конца войны глаз не кажет. Одни говорят — с немцами удрал. Возможно. С оккупантами он шел рука об руку, слезы людские гитлеровцам пригоршнями таскал. А другие твердят — засел он в Жвербленской чаще, по ночам зверствует. Тоже возможно. Куда ему еще деваться, коли подошвы горят от чужой крови и слез? Вот и пустует земля. Взяла ее под свою опеку земельная комиссия, одному предлагала, другому, но кому ее высватать, когда тут же делят поместье Омпене да еще окрестных богатеев пашни вымеряют! Брали люди, где кому поудобнее, а сюда заявились всего двое — Алешюнас и Шалтонис. Дескать, оба мы у Пауры много лет батрачили, оба возьмем по восьми гектаров. По восьми — оно конечно, хорошо, а куда же остальные тридцать восемь девать? За два лета так все заросло бодяком и полынью, что мимо без слез не пройдешь. Земля как масло — хоть на хлеб ее мажь. А тут… черт подери, одним словом!
И еще Бенис по целым дням зудит:
— Созовем, тятя, собрание, договоримся о совместной обработке. Ты в этом году прежде всех сдал поставки, сам волостной председатель тебя другим в пример приводит, скажи только слово на сходке — все пойдет без задоринки!
Что же оставалось делать? Как с ним не согласиться?
Вайшнис поднял голову над хомутом, зажатым между коленями. Сразу же после собрания он заторопился домой и, как добрый хозяин, принялся осматривать все, с чем завтра утром на пахоту. Башка прямо раскалывалась от услышанных споров. Одни — «за», другие, особенно Жельвис, — «против». Третьи все колебались и говорили: толку не будет, все передерутся в первый пахотный день, а уж будущей осенью, когда урожай делить, — и подавно! К этим пристал и Паурис, вечный мямля. Четвертые — с ними и сосед Рузгис — соглашались участвовать, только если примут в компанию кулаков Сточкуса и Алаушаса. И все набивали трубки, палили самосад так, что к концу сквозь клубы дыма ни черта не стало видно. Только совсем под вечер разошлись, обещав наутро взяться за плуги, и теперь, должно быть, тоже готовят хомуты и постромки, как и он, а может, еще лошадей кормят и даже чистят их.
При мысли об этом у Вайшниса екнуло под самым сердцем, что, коли в самом деле другие придут с конями, начищенными до блеска, в самой лучшей упряжи, какая только нашлась на усадьбе? Есть ведь такие задавалы, которые так и норовят другим пыль в глаза пустить. Сразу тебе нос утрут!
— Нет, погоди… — заворчал Вайшнис, снова нагибаясь над хомутом. — Меня отродясь никто не обгонял!
Хомут был хорош, только уж очень почернел от пота. Это, конечно, пустяковина. И если бы не порвалась хомутина, то упряжь, можно сказать, отличная — только несколько соломинок вылезает.
«Выдержит! — решил Вайшнис. — Ну, а постромки?»
Но тут его взгляд привлекло широкое пятно, рыжевшее с правой стороны. Он вспомнил, как летом пахал, не подогнав упряжи, натер лошади холку и искровенил хомут. Это, конечно, не диковинка, нечего было за голову хвататься. У коня холка зажила, да и омут уже пообтерся. Но как теперь быть? И еще эти соломинки лезут… Вайшнис еще раз повертел в руках хомут и отложил в сторону.
— Нет уж, — молвил он, подходя к кровати, где спала жена. — Мать, а мать! — потряс он ее за плечо. — Дай-ка ты мне кусок рядна! Слышишь? Рядна, говорю, давай!
— А? — сонными глазами оглянулась Вайшнене, отрывая голову от угревшейся подушки. — Бенис где шатается?
— На сходке остался с парнями еще про что-то потолковать. А ты мне отрежь кусок рядна. Слышь, того, толстого.
— Какого рядна? — совсем уже очухалась Вайшнене. — Чего ночью пристал? На что тебе рядно?
— Хомутину перетянуть. Понимаешь? Совсем сносилась, а завтра чем свет пахать выходим. Говорю тебе — вставай.
— Святый боже! — уселась Вайшнене в постели. — День-деньской бегаешь, духа не переведешь, а только глаза закроешь — опять он тебя языком как плетью хлобыстнет! Обалдел ты с этим хомутом? — крикнула она, обозлившись. — Всю жисть пахал, — хорош был хомут, а теперь, на ночь глядя, пристал как леший… Не дай господи!
Вайшнис почувствовал накипавшую в сердце обиду.
— Баба бабой и останется! — пробормотал он свое любимое присловье. — Будь ты неладна! — повысил он голос. — Весь свой век я у себя под кустиками пахал, а там меня разве только пес разглядит, коли мимо сиганет. А тут! Тут всем на глаза надо показаться, понятно тебе? Ничего тебе, бабе, не понятно!
— Велика беда! — огрызнулась Вайшнене, не трогаясь с места. — Разок-другой шилом по дырке — и крышка! Станет кто в твой хомут носом тыркаться!
— Даешь или нет?
— Отвяжись от моей горемычной головушки! — снова улеглась Вайшнене. — Тебе нужно — сам и бери! — добавила она, укрываясь.
Вайшнис постоял-постоял и отвернулся. Ему был хорошо знаком каждый закоулок и дома и во дворе. Молча впотьмах отправился в сарай, нашарил рядно, на обратном пути прихватил из-под навеса пшеничной соломы. Все принес домой и сразу так углубился в работу, что не заметил, как вернулся Бенис.
— Не спишь, тятя?
— Как же, уснешь в такую пору!
Сын пригляделся, заметил хомут и широко улыбнулся.
— К завтрему, тятя?
— Не твое дело!
— А на сходке ты, тятя, здорово высказался, — немного помолчав, заговорил сын. — Коли хоть пядь земли останется невспаханной, так мы не хозяева, а… как это ты там сказанул? Помнишь, все захлопали?
Вайшнис, сопя, загонял солому в хомутину. Притворился, что не слышит.
— И Пауриса отлично отбрил, — продолжал сын. — И тех подкулачников. Мол, хвост никого еще вперед не вывел и не выведет! Так, что ли, тятя? Ха-ха… Паурис так и залез за чужие спины!
— А ты бы помог! — пряча в усы усмешку, сурово упрекнул Вайшнис. — Один я до самого утра проманежусь!
Минутку оба работали молча.
— Хотел я тебя попросить, тятя, — снова обратился Бенис. — Позволь мне взять новую пару постромок. Ладно? Которые мы осенью свили…
— А тебе на что? В озере воду мутить?
Сын ухмыльнулся:
— Завтра увидишь, тятя.
Понуро плелся Паурис со сходки. Путь и так не близкий, а хорошо бы, чтобы еще растянулся! Сердце сосала горькая обида, а вместе и острый стыд, от которого Паурис останавливался, озирался по полям в поисках утешения.
«Черт меня потянул за язык! — размышлял он, стискивая и опять распуская кулаки. — Вот и огреб… и огреб… Вся изба от Вайшнисовых слов заржала…»
Еще горше только что пережитой неприятности угнетала мысль, что это уже не впервой. Выставил себя на посмешище и с вывозкой леса, и с севом, и с поставками… И почему всегда так получается, что везде он — последний? Работает, кажется, не ленится, а все в хвосте да в хвосте. Даже пословицу сложили в округе: «Спешит, как Паурис, задом наперед!» И этим присловьем, будто кнутом, хлещут всех отстающих.
Он опять остановился на обочине дороги. Ветер тихо шуршал в порыжелой ржаной стерне. Сумрак собирался по оврагам, а оттуда поднимался в гору, укрывая все своими серыми крыльями. Где-то мычало стадо, которое гнали с пастбища. Лаяла собака. Неподалеку, все глубже уходя в темноту, маячили эти треклятые бодяки, из-за которых сегодня весь сыр-бор загорелся.
«Завтра тут все соберутся, — с горечью подумал Паурис. — А может, и не все? Ведь и Жельвис против выступал, и Рузгис… Их-то наверняка не будет…»
Эта мысль его отчасти утешила. Не он один завтра глаз не покажет. Но облегчения хватило ненадолго. Что Жельвис не выйдет — понятно. На всех косится, все ожидает каких-то перемен. Опять же Рузгис — коня у Алаушаса одалживает, на Сточкусовой телеге ездит… Не осмелится. Неужто и ему, Паурису, с ними заодно?..
«А коли идти, то с чем?» — продолжал он свои раздумья, плетясь дальше.
Вспомнил, что, когда запахивали картофельное поле, он бросил плуг в конце пашни. Опять же хомут. Не то под навесом возле телеги, не то в сарае, где картошка для свиней, а может, и в стойле остался. А постромки — узелок на узелке, сплести бы новые. Пока все приладишь, пока выберешься — уж и полдник.
И он представил себе — завтра явится в поле, а другие уже десятую борозду ведут. Все обернутся с ухмылкой, а кто-нибудь, как всегда, подденет:
— О! И Паурис из сонной деревни пожаловал! Как всегда, как всегда…
На глаза набегали тяжелые, горячие слезы обиды. Паурис до боли стиснул руки.
— Вот так… — зашептал он. — И завтра так, и послезавтра, и…
И вдруг выпрямился во весь рост, вскинул кверху кулаки.
— Ну, погодите! — погрозил он кому-то невидимому, глотая слезы. — Я вам еще покажу! Всем покажу!..
Четырнадцать лет прожила Рузгене со своим мужем, а еще никогда не видела его таким неразговорчивым, как в тот вечер. Слонялся из угла в угол, щупал вещи словно чужими руками, а на вопросительные взгляды домочадцев отвечал какой-то диковинной ухмылкой.
— Не заболел ли, Повилас? — затревожилась жена. — Может, липового цвета отварить? Что с тобой?
— Ничего, — тихо, словно виновато, отвечал Рузгис, — не тревожься. Все в порядке…
Жена минутку помолчала, следя за странно изменившимся мужем и обдумывая его рассказ про сходку.
— Стало быть, Алаушаса со Сточкусом так и не принимают?
— Нет… А чего Алаушас заходил?
— Звал ржаное жнивье запахивать. Тебе бы с ним поговорить, Повилас. Как же это?
— Толковал я с ним. Какое еще жнивье? Я все отработал.
— Говорит — за семена, что весной брали. Но послушай, Повилас, коли Алаушаса не приняли, так и тебе нельзя идти. Еще обозлится… И, как нарочно, звал завтра на жнивье. Бог весть что подумает.
— А я и не собираюсь…
— Вот и хорошо, вот и хорошо, пусть и другие знают! Чего ж не принимать? Разве это не люди? Алаушас нам семян дал, Сточкус телегу одалживал, а тут вдруг… Что бы ты без них делал? Не ходи — и все!
Рузгис стоял у окошка, вглядывался в темноту.
— Семян-то они дали, мать, — заговорил, не оборачиваясь. — И телегу одалживали. Но ты рассчитай, сколько мы бились за эти семена. И сено я косил, и рожь, а ты чуть не неделю картошку копала, теперь еще стерню… Горькие ихние подарочки! От таких подарков пот градом по затылку катится…
— Что поделаешь, Повилас, — вздохнула Рузгене. — Не выходит у нас иначе…
— А почему у других выходит? — обернулся к ней Рузгис. — Почему другие, глянь-ка, и семена получили из волости, и землю им вспахали по договору, и все прочее? Все ты меня уговариваешь! — начал он уже злиться. — Все на месте, дескать, семян возвращать не придется, можно отработать, — и прочие райские сладости! А от этой сладости свою зябь не лущили, ничего на зиму не приготовили. Обособились мы от людей, будто волки, ни с кем не поладим, ровно дикие! Завтра все на пахоту, а я? А я-то что? Всей деревне наперекор Алаушасу стерню запахивать буду?
— Чего на меня разорался? — отрезала жена. — Я тебя неволю? Не хочешь — не ходи. Только чтоб потом не раскаиваться. Алаушас обозлится — сам знаешь… А на других нам смотреть нечего. Коли охота, пусть хоть трясину Кайрабале вспахивают, а нам-то что? Мы и потихоньку проживем.
Рузгис разинул было рот, хотел что-то сказать, но только рукой махнул — и опять к окошку.
— Неправильная наша жизнь, мать, — произнес он, немного помолчав. — И думы у нас неправильные…
Вайшнис встрепенулся уже с третьими петухами. С большим трудом поднял веки. Пока вчера перетянул хомут, пока вставил новые постромки, было уже за полночь. И потом долго ворочался, раздумывал о завтрашнем дне, о невиданных делах, которые на свете творятся, и о том, чтоб, сохрани боже, не проспать. А теперь, чувствуя тяжесть во всем теле, поспешил накинуть тулуп и будить Бениса.
Но Бенис уже встал и, посвечивая фонарем, чистил в стойле лошадь.
— Сена бы свежего подбросить, — промолвил, входя, Вайшнис.
— Все сделано, тятя. Расчешу гриву коню — и бегом. Сердись не сердись, а в поле тебе одному придется выходить. Ладно? Только не опаздывай. Кругом, слышно, уже на всех дворах возятся, того и гляди, обскачут!
— Ну, ну… сам знаю!
В белесом утреннем свете все отчетливее выступали деревья, выбеленные заморозком кровли и заборы. Минутка-другая — и перед глазами раскрылись поля, полные звонкой тишины, бугорки с побелевшими макушками, лес, подернутый голубой дымкой.
Уперев лемех в жердь, Вайшнис размахивал кнутом. Ему все казалось, что лошадь плетется медленно, что уже поздно, что он всех застанет в поле, а ведь первый выступал вчера. И еще как выступал!
— Н-но, задери тебя волки! — причмокивая губами, снова замахнулся он кнутом.
Вдруг из-за бугра, где дорога спускается к речке, показалась конская голова, потом и вся лошадь, а за ней — человек, державшийся за ручки плуга. Вайшниса даже в пот бросило. Обернулся налево — оттуда спешили даже два пахаря!
— Обгонят, черти немазаные, чтоб им ни дна ни покрышки! — выругался Вайшнис и сам улыбнулся своему волнению: «Чего это я, как дите малое?!»
А кругом появлялись все новые и новые землепашцы, со всех сторон приближаясь к заросшему бодяком полю, словно солдаты на приступ крепости. Кольцо все сужалось и сужалось. Уже послышались приветствия, прозвучали возгласы, рассыпался веселый смех.
И вдруг все замерли, уставившись на залежь. По самой середке, приближаясь к собравшимся, равномерно вышагивали три пахаря, выворачивая дымящиеся борозды черной земли.
— Ребята! — вскрикнул один из собравшихся. — Да ведь кто первый-то, ешь тебя мухи с комарами?! Паурис! Паурис!
— Скажи-ка!
— Ах он скот неподкованный!
— Быть того не может… А за ним кто?
— Чудеса, мужики! Паурис прежде всех?
— А кто же те другие? И лошади какие-то неизвестные…
— Ну, крышка, ребята, Паурис всем нос утер!
А Паурис довел плуг до лужка, вывернул, поглядел на всех так, будто он ни при чем, и повернул лошадь на новую борозду. Только уже основательно продвинувшись вперед, не выдержал и исподтишка, через плечо бросил взгляд на земляков, которые чуть не оцепенели от подобного поведения. То ли ветер занес ему пылинку в глаз, то ли прохладный воздух резанул по ресницам, только Паурис заморгал и отвернулся.
Вайшнис даже назад отпрянул, увидев, что, кроме Пауриса, на пашне — его Бенис.
— Ты как? Чей конь?
— Комсомольская бригада, тятя, — усмехнулся сын. — В честь тридцатилетия Октября. Ну, становись за мной, — опоздал!
— Опоздал, — буркнул Вайшнис, понукая лошадь.
Поднявшееся солнце ярким багрянцем залило свежие борозды. Кругом уже на большой площади блестели толстые, сочные ломти земли, после долгой неволи каждым комочком впивая живительный утренний воздух. А сверху ложились все новые и новые пласты, хороня жесткие стебли чертополоха, разбойно раскинувшуюся лебеду, конский щавель. Поле так и гудело от песен и шуток, эхо широко разносилось по округе, и сердца сильнее бились, и глаза бодро глядели на начинающийся день.
Многие слышали эти песни. Слушал их и Рузгис, спозаранку после долгих жениных уговоров вышедший лущить стерню у Алаушаса. Но проложил он только единственную борозду и остановился у межи. Долго глядел на шумное поле большой пахоты, чувствуя, как сердце учащенно бьется, освобождаясь от тревог, забот, сомнений. И наконец схватил поводья и повернул лошадь к толпе.
— Со всеми вместе! — крикнул он, размашистыми шагами приближаясь к остальным пахарям. — И я… вместе со всеми.
1947
ОЛЕСЬ ГОНЧАР
ПОДСОЛНУХИ
Ожидая, пока разыщут председателя колхоза, скульптор сидел на крыльце конторы и спокойно попивал минеральную воду. Стояла сильная жара. Молодые деревца устало опустили ветви, будто хотели совсем свернуться и укрыться в собственной тени. Безлюдный двор, просторный, песчаный и горячий, напоминал собой кусочек пустыни, случайно заброшенный сюда. Был час обеденного перерыва, и все живое попряталось в тень, притаилось, затихло. Лишь в конторе кто-то изредка пощелкивал на счетах да над цветниками гудели неугомонные пчелы. После городского шума и грохота, после утомительной дороги скульптор отдыхал. Снял галстук, расстегнул ворот рубахи и почувствовал себя почти как дома.
Его покой неожиданно был нарушен табунком полуголых, до черноты зажаренных солнцем мальчишек. Выпорхнув откуда-то из-за стены в увидев на крыльце незнакомого пожилого человека в белом костюме, они остановились, крайне заинтересованные: кто бы это мог быть?
Стали энергично высказывать разные предположения:
— Лектор, а может, опять кандидат наук?
— Наверное, приехал по зеленому конвейеру.
— Или за мериносами…
— Гляди, какая лысина: хоть на коньках катайся!..
Скульптор добродушно усмехался, любуясь ребятами. Мысленно он уже начинал лепить их стройные фигурки, переводил из глины в бронзу, выставлял на видных местах в городском саду.
Тем временем подошел председатель, приветливый краснощекий человек с искристыми неуловимыми глазами. Откуда-то ему уже было известно, что скульптор приехал лепить знатную колхозницу Меланию Чобитько.
— Сейчас все организуем, — заверил председатель. — Я уже дал команду: Мелания придет сюда, — и, дружелюбно оглядев гостя, пригласил его в свой кабинет.
В просторном, залитом солнцем кабинете было пышно и багряно от знамен. Порядок во всем, блеск и чистота бросались в глаза.
— О, у вас, как у министра! — заметил скульптор.
Председатель принял его комплимент довольно спокойно.
— А как же… Вот поляков здесь принимал, еще и стульев не вынесли. Прошу, садитесь, — указал он гостю место против себя.
Усевшись, они некоторое время молча изучали друг друга. Председатель застыл за столом, как кобчик, зоркий, крутошеий, весело настороженный. В первый момент скульптору странно было видеть на блестящем стекле стола рядом с резным письменным прибором загорелые руки председателя и черные рукава его пиджака. Однако вскоре скульптор и в этом нашел своеобразную привлекательность и гармонию. Эти узловатые руки тоже стоили того, чтобы их вылепить.
— Расскажите мне, пожалуйста, о вашей героине, — попросил скульптор, кладя ногу на ногу. — Я о ней знаю только из газет.
— Про нее и в журналах писалось…
— Читал. И фотографии вырезал, правда, одни только профили: анфас нигде не попадался.
— Что ж вам о ней рассказать?.. — мялся председатель, видимо, не зная, что именно нужно от него этому лысому субъекту с холеным, как будто накрахмаленным лицом. — Золотой человек. Скромная, работящая, настоящая патриотка. У нас ее очень уважают. Отец погиб на фронте, кончила семь классов. Звезду заработала на кукурузе, а в этом году взялась еще и за подсолнухи.
— Это все хорошо, но для меня этого слишком мало. Вы понимаете, товарищ председатель… Как бы вам это попроще?.. Одним словом, мне не анкета ее нужна, — меня интересует ее душа, характер.
Хозяин задумался, вздохнул. Поди разбери вас, кому что надо: тому дай анкету, тому душу, а тому еще что-нибудь.
— Характер вы сами увидите. Тихий, добрый… Относительно же души, — усмехнулся, поглядев в потолок, председатель, — не знаю, откроется ли она вам.
— А почему бы и нет?
— Да так… Душа — вещь тонкая, к ней особенные ключи нужны. Но позвольте поинтересоваться: зачем вам душа? Вы же будете лепить, вам, так сказать, фигуру дай, физиономию лица.
— О нет, не только это! — горячо возразил скульптор, и председатель сразу почувствовал, что залез не в свои сани. — Внешность, конечно, для нас тоже много значит, но подлинные источники красоты…
Гость не успел закончить свою мысль. В дверь кто-то сдержанно постучал.
— Заходи! — крикнул председатель, видимо, по стуку узнав посетителя.
Дверь открылась, и в кабинет, сверкая Золотой Звездой, несмело вошла плотная девушка в черном шерстяном жакете, повязанная снежно-белым платком. Скульптор скорее угадал, нежели узнал в ней Меланию Чобитько.
— Вы меня звали, Иван Федорович?
— Звал. Вот познакомься: товарищ скульптор приехал тебя лепить.
Знакомясь, скульптор окинул девушку острым взглядом профессионала. И ему сразу стало понятно, почему она появлялась в газетах только в профиль. Мелания не могла похвастать красотой, и фотокорреспонденты, вероятно, немало потрудились, подыскивая для нее позу, когда девушка выглядела бы лучше, чем была в действительности. Что ж, фотографам это удается, но как быть скульптору?
Председатель посадил Меланию по правую руку от себя, под знаменами и венками из сухих рисовых колосьев. Смотрел на нее ободряюще, почти восторженно, как на писаную красавицу. Кто знает, может, Мелания и казалась ему такой? Но она сама, видимо, хорошо сознавала свое несовершенство и все время смущалась под внимательным, изучающим взглядом скульптора, будто в чем-то провинилась перед ним. Сидеть ей было нестерпимо трудно. Ей мешали собственные плечи, собственные руки и ноги, и вся она, казалось, сама себе мешала.
— Вот, значит, Мелаша, наш уважаемый гость, товарищ скульптор, — зачем-то еще раз пояснил председатель. — Он хочет лепить тебя для выставки.
Председатель лукаво посмотрел на Меланию, и скульптор посмотрел, и она сама как бы взглянула на себя со стороны.
— Такое придумали! — сгорая от стыда, потупилась девушка. — Нашли кого!..
Скульптор следил за ней с беспощадностью мастера-профессионала. Мелания как бы нарочно взялась разрушить все его творческие замыслы. Держалась принужденно, через силу, мешковато, и чем дальше, тем эта нескладность не только не уменьшалась, а, наоборот, еще больше бросалась ему в глаза. Он понимал, что нелегко будет девушке сидеть перед столичным скульптором, зная заранее, чего он хочет, желая ему угодить и не умея угадать, как именно. Он все ждал, что вот Мелания придет в себя, освоится, станет вести себя свободно, естественно. Но где там!.. Сидит как на иголках и то и дело криво улыбается Ивану Федоровичу, прикрывая губы платочком. Вначале это забавляло, но потом начало раздражать. Может, она вообще не умеет быть иной, может, эта неуклюжая, примитивная манерность уже въелась в существо девушки, стала второй натурой, и ничем ее не выбьешь?! Кстати, зачем она вырядилась, как на свадьбу? Ах, Мелания, Мелания, трудно тебя лепить!..
Разговор не клеился. Мелания слова не могла сказать, чтоб не взглянуть на председателя и не спросить глазами: так ли, мол, впопад ли? Скульптору было обидно за нее. Такая здоровая, свежая, нарядная — и в то же время совсем беспомощная… Будь такая возможность, она бы, видимо, с радостью согласилась, чтобы председатель и говорил, и шутил, и позировал вместо нее, лишь бы только самой избавиться от этой мороки. «Неужели она всегда такая? — нервничал скульптор. — Неужели не бывает у нее… этой… искры?»
— Скажите, у вас есть родственники, друзья? — спросил он, заходя с другой стороны.
Мелания густо покраснела.
— Родственники есть, — чуть слышно прошептала после паузы. — И друзья… О каких друзьях вы спрашиваете?
— Она еще не замужем, — брякнул председатель, неприязненно взглянув на скульптора.
Скульптор понял, что дал маху, что это бестактно и не надо было вовсе об этом спрашивать. Да разве все предусмотришь, разве угадаешь, как к ней подойти!..
С какой стороны ни заходил — все она была не та, какой он хотел и надеялся ее увидеть. Попробуй-ка выхвати характер из этого хаоса небрежных линий, неуклюжих жестов!..
«Все это типичное не то! — наконец горько признал скульптор. — И мне, собственно, здесь нечего делать. Возвращаться, пока не поздно! Но чем же теперь отговориться, как выпутаться из всей этой истории? Чтоб ее не обидеть, так, будто ничего и не было? Ведь она, в сущности, ни в чем не виновата… Так же, впрочем, как и я».
— Вот, Мелаша, ты имеешь шанс, — весело сказал председатель. — Когда-то только богинь лепили, а теперь уже и до нас очередь дошла. Вперед прогрессируем. Разве не так?
— Лучше бы вы взяли мою подругу… Ганю.
— Ганя Ганей, а ты тоже не прибедняйся. Лепись… Теперь перед нами еще одна проблемка: надо где-нибудь устроить гостя.
— Да я ненадолго, — предусмотрительно начал отступать скульптор. — Возможно, завтра и уеду.
— Как?! — поразился председатель. — За ночь вылепите?
— Лепить я, собственно, буду дома, в своей мастерской. А здесь разве что сделаю какие-нибудь заготовки. — В голосе скульптора послышались нотки оправдания. — У меня свой метод. Для меня главное — увидеть живого человека, запечатлеть в памяти, чтоб уже потом…
— Ну, это дело ваше, — перебил председатель. — Не мне судить о вашем методе. Но устроить вас мы должны. Сейчас что-нибудь придумаем.
— Что тут думать, — мягко вмешалась Мелания. — Если уж ко мне приехали, так пусть у меня и останавливаются. Никого с места не сгонят.
— В самом деле, — подхватил председатель, который, очевидно, на это и рассчитывал, — у тебя просторно, спокойно, малышей нет. Ты там уже прояви инициативу.
— Не беспокойтесь. Голодать не будут.
Все поднялись. Скульптор пошел в угол к своему чемодану, но Мелания оказалась более проворной, чем он: чемодан уже был у нее в руке. Несмотря на искренние протесты гостя, она понесла его багаж.
— Если уж взялась, то не выпустит, — смеялся председатель, провожая гостя на крыльцо. — У нас такие кадры.
Легко и быстро шла Мелания через колхозный двор. Скульптор с непривычки едва поспевал за ней. В эти минуты он чувствовал себя, больше чем когда бы то ни было, немощным, изношенным и стареющим человеком.
Хата у Мелании была как в веночке: прохладно, зелено, чисто. Пол засыпан травой, печь разрисована петухами, стол накрыт вышитой скатертью. На месте божницы этажерка с книгами, над ней портрет Ули Громовой, вырезанный из какого-то журнала.
Вскоре на столе появились миски и тарелки. Скульптор искоса посматривал на них тревожным взглядом вечно запуганного диетика.
— Прошу вас, не ставьте столько… Я диетик.
Мелания на мгновение растерялась:
— Так что же это будет?
— А ничего не будет.
— Нет, вы скажите, что вам можно, я все достану. Сливки употребляете? Яйца, молоко, мед? Вы уже сами выбирайте, потому что я не знаю. — Поставила на выбор, подала чистый рушник. — Будьте добры, чем богаты, тем и рады.
Скульптор ел, и каждый кусок застревал у него в горле. Вот завтра он уедет, ничего не сделав, потерпев еще одно творческое поражение. Сколько этих поражений только за послевоенные годы! Там формализм, там патриархальность, там еще какая-нибудь чертовщина. «Может, взгляд притупился, может, я уже чего-то не вижу? — думал скульптор, давясь белым душистым хлебом Мелании. — Генералы мне удавались, почему же не удается простой человек труда? Ехал сюда, надеясь глубже постичь его, проникнуться его высоким, благородным пафосом, а чем все это конается? Позором! Разочаровался и удрал. Что после этого скажет обо мне председатель колхоза, что подумает эта недалекая, наивная, но добрая и хорошая Мелания?» Раньше скульптор как-то мало обращал внимания на таких, как они, а сейчас это его уже беспокоило, их мнение было для него совсем не безразлично. «А может, другой сумел бы вылепить Меланию? — вдруг промелькнуло жестокое предположение, и скульптор стал перебирать в памяти своих коллег, преимущественно молодых талантливых мастеров. — Может, они лучше видят, может, я просто выдохся или чем-нибудь ошибаюсь и не могу постичь, открыть ее душу? О, это было бы ужасно!»
Звеньевая тем временем переоделась в другой комнате и стояла на пороге, босая, подтянутая, привлекательная в своем рабочем костюме.
— Мне надо идти… У меня подсолнухи… А вы тут отдыхайте. Вот кровать, вот простыни.
— Благодарю.
Мелания вышла, в хате сразу потемнело: со двора она тихо прикрыла ставень. Заботилась о том, чтоб не жарко было уважаемому гостю!
До вечера скульптор успел и отдохнуть, и набросать несколько портретов ребятишек, которых он видел возле конторы, и походить с председателем артели по хозяйству. Они побывали на фермах, в кузнице, на электростанции. Слух о приезде скульптора уже успел облететь село, и всюду гостя встречали приветливо и любезно. На ферме щебетливые доярки устроили ему настоящий допрос, живо интересуясь, кого он уже вылепил на своем веку, и хорошо ли у него выходит, и в какой позе он изобразит Меланию Чобитько.
— Вылепите нашу Милю такой, чтоб все на нее заглядывались, — требовали колхозницы. — Она этого достойна!
Когда он вошел в кузницу, кузнецы перестали грохотать своими молотами и, закурив, с готовностью отвечали на его вопросы. Гость хочет знать, кто это здесь так влюблен в цветы?
— А это ж наши девчата… Везде понасеяли: и возле конторы, и возле клуба, и даже около кузницы. Началось с того, что Мелашка…
Ах, опять Мелашка! Куда ни ткнешься, всюду попадешь на ее след.
— Такая уж она у вас ловкая?
— Эге!.. Видно, мало вы ее знаете… Неусыпный, преданный, золотой человек.
— Восход солнца всегда в поле встречает.
— Вы уж ее, товарищ скульптор, не обидьте… Дайте волю своему таланту.
Дать волю своему таланту!.. Скульптора и трогало и угнетало то уважительное внимание, которое проявляли колхозники к нему и к его искусству. Ему казалось, что он не заслужил такого почета и такого доверия. Совесть его была неспокойна, он чувствовал себя человеком, который, помимо своей воли, присваивает себе то, что ему не принадлежит.
Чем дальше, тем больше убеждался скульптор в том, что ему надо немедленно уезжать отсюда. Нечего сидеть на шее у этих честных, работящих людей, скрывать от них свое творческое бессилие, злоупотреблять их гостеприимством. Они с тобой почему-то нянчатся, они от тебя чего-то ждут, а ты… Чем ты их порадуешь? Езжай прочь, это для тебя самый лучший выход!.. Тебя беспокоит, как они потом истолкуют твой поступок? Об этом уже сейчас можно догадаться: не Мелания, а ты будешь виноват во всем… Она для них «золотой человек», независимо от того, вылепишь ты ее или нет.
— Вот это наша электростанция, — пояснил Иван Федорович, выходя на плотину, в конце которой видно было массивное красное строение. — Разве не красавица, а?
— Красавица, — согласился скульптор и, остановившись, загляделся на бешеный водопад, на бушующее сиянье снежно-белой пены. — Давно построили?
— Пустили в позапрошлом году, а строительство начали еще в сорок четвертом. Вся эта плотина, можно сказать, насыпана женскими руками. Прекрасные у нас женщины, если подумать… Если бы мне ваш талант, я бы всех наших колхозниц вылепил как героинь современной эпохи!
— Попробуйте, — улыбнулся скульптор, — и вы убедитесь, что это не так просто.
— А я и не говорю, что просто… Но ведь заслуживают, честное слово! Возьмите хотя бы прошлые годы: мы еще где-то на фронтах бьемся, на тех Одерах и Балатонах, а они здесь, как гвардейцы, и молотилку по полю на себе перетаскивают, и вот такую плотину возводят к нашему приходу. Думаете, поднять сотни кубометров земли — это так уж просто? Между прочим, Мелашка здесь тоже отличилась, не выпрягалась из тачки дни и ночи…
Слушая председателя колхоза, скульптор представлял себе Меланию в различных обстоятельствах, однако уже ничто не могло поколебать его первого впечатления. И в поле за молотилкой, и на тяжелых земляных работах во время строительства электростанции — всюду Мелания оставалась одинаковой, той некрасивой, скованной, неуклюжей, какой он встретил ее сегодня в конторе. Напрасно теперь Иван Федорович силился как-нибудь поправить положение и снова поднять свою колхозницу в глазах скульптора. «Я отдаю должное ее повседневному героизму, ее славным делам, — думал гость о Мелании, — но разве этим заменишь, этим компенсируешь то, чего, к сожалению, не хватает ей лично?»
— Люди у вас действительно прекрасные, и я понимаю ваши чувства, Иван Федорович. Хотел бы, чтоб и вы меня поняли…
— Да что тут понимать!.. Вы, значит, решили все-таки ехать?
— Решил.
— Ну хорошо. На завтра меня вызывают в район, так заодно уж подброшу и вас до станции, чтоб лошадей лишний раз не гонять.
Разошлись холодно. Иван Федорович, буркнув, что ему надо к трактористам, подался через плотину в степь, а скульптор направился домой (так мысленно назвал он хату Мелании).
По дороге скульптора ждал маленький конфуз: он заблудился. Все хаты казались ему на один манер: всюду, как и у Мелании, подведены голубым, везде под застрехами белеют изоляторы и в стенах исчезают провода, во всех окнах одинаково пламенеют лучи солнца, которое, уже побагровев, садится на той стороне реки, за горой.
«И нужно же такому случиться! — горевал скульптор, останавливаясь у чьей-то калитки. — Среди бела дня — и заблудился! Куда теперь?»
В это время на другом конце улицы поднялась туча розовой пыли, возвращалось стадо с пастбища, и волей-неволей надо было куда-то сворачивать.
Но куда?
Скульптор не подозревал, что рядом, у него за спиной, уже стоят наготове спасители. Это были те самые ребятишки, с которых он рисовал эскизы на будущее. Стояли как будто равнодушно, заложив руки за спину и закусив губы, чтоб не смеяться. Они, вероятно, все время шли следом, заметили, как он миновал хату Мелании и как растерялся, увидев стадо, запрудившее перед ним улицу.
— Мы вас проводим, — уверенно сказал белоголовый смельчак лет восьми. — Мы знаем, куда вам надо.
— А куда?
— К Мелашке Чобитьковой.
— Верно.
— Только давайте быстрее, потому что вас череда запылит.
— А вас нет?
— Мы не боимся.
Смущенно оглядываясь, скульптор двинулся за ребятами.
— Хаты у вас одинаковые, сбили меня с толку.
— Это вам только кажется, что одинаковые. А зайдите в середину, так они очень разные!
— Возможно, не спорю.
— А что все побелены и голубым подведены, так это к Первому мая готовились. Субботник был.
— Завхоз одинаковую синьку для всех привез… Чтоб не поссорились, говорит… Вам вот сюда.
— Вижу, уже вижу… Спасибо, что проводили.
— Не за что!
Скульптор вошел во двор, притворил за собой калитку и облегченно вздохнул.
Мелании дома еще не было.
Вернулась она уже после захода солнца со снопом травы и васильков, собранных где-то на полевой меже.
Своего квартиранта застала на огороде. Слонялся среди зеленых зарослей, приглядывался, принюхивался ко всему, что она посадила и посеяла.
— Изучаете?
— Да нет, так интересуюсь. Это и вся ваша грядка?
— А зачем мне больше? Основная моя грядка там. — Мелания весело показала рукой куда-то за гору. — Это у меня так, бесплатное приложение.
— Я здесь вижу одни лишь цветы. Крученые панычи, и анютины глазки, и фиалки… А где же ваши подсолнухи, кукуруза?
— Все там, — засмеялась Мелания и снова махнула рукой за гору.
Скульптор не смеялся.
— А такое, как помидоры, капуста и всякая другая петрушка?
— Такое в артели получают. У нас почти все берут из артели. Там овощи лучше и вызревают раньше.
— Климат другой, что ли?
— Не климат, а поливное хозяйство, — спокойно возразила Мелания. — Дома из-за какой-нибудь капусты надо было все лето под коромыслом гнуться. Кому охота? Ни почитать, ни в кино… А в артели мы водокачку поставили.
— Интересно!.. Крестьянская усадьба явно изменяет свое лицо, свой характер. Гречку и жито возле хаты уже совсем, наверное, никто не сеет?
— А зачем? Жита наши в поле, и гречки наши в поле. Севооборот у хаты не введешь. Здесь пора давать место цветникам, клумбам, садикам… Это пусть, а остальное… Что касается остального, я своим полям доверяю. Будет в артели — будет и у меня!
— Выходит, все ваше там?
— И мое все там, и я вся там, — засмеялась девушка.
Добродушная, веселая, она в этот момент понравилась скульптору. Ему хотелось сейчас увидеть выражение ее лица, но сумерки сгустились, и, кроме девичьего силуэта со снопом в руке, он ничего не видел.
— Надо идти, — спохватилась Мелания, направляясь к хате. — Сегодня еще комсомольское собрание… А ключ у вас?
— У меня. Если не потерял.
— В другой раз оставляйте его вот здесь, за ставнем.
— Да ведь я… завтра уеду.
— Уже?..
— Уже… Может, осенью приеду.
«Ага, осенью… После дождичка в четверг… Сказали бы уже прямо, что не подошла, не понравилась!»
— Вам виднее, — глухо промолвила девушка, отпирая хату. В голосе ее слышалась приглушенная обида.
Скульптор виновато молчал. Хотел как-то утешить ее, объяснить ей все… Но поймет ли?
Сидел на завалинке, стыдясь войти в хату. Там шумело радио, возилась неутомимая Мелания. Что она думает о нем? Ведь теперь ей все понятно, не так она, пожалуй, наивна, как это ему вначале показалось.
Вскоре к Мелании забежали девушки, вероятно, ее подруги по звену. Притворно пугаясь одетого в белый костюм скульптора, они шмыгнули мимо него в дверь, и сразу в комнате зазвенел смех, зазвучали девичьи выкрики и шутки. Вспоминали какого-то Дмитра из «Хвыли коммунизма», потом выяснилось, что Дмитро влюблен в Меланию; и скульптора уже не удивляло, что кто-то может быть в нее влюблен.
Вечер был прекрасный, звездный, песенный. Воздух посвежел, наполнился прохладными запахами ночных цветов.
Где-то возле клуба гремел громкоговоритель, из Большого театра транслировали концерт.
Мелания вышла с девушками наряженная, как на праздник. Сказав гостю, что ужин на столе, схватила подруг под руки, и так гурьбой они исчезли в сумерках. Скульптор еще долго слышал их громкий смех и, допуская, что девушки могли смеяться над ним, не в силах был обидеться. Поднялся и, устало спотыкаясь, пошел спать.
На другой день скульптор уезжал с Иваном Федоровичем на выездной тачанке.
С Меланией скульптор даже не простился. Утром, когда он поднялся, на столе его уже ждал приготовленный диетический завтрак, а самой девушки и след простыл: побежала на работу. Пришлось запереть гостеприимную хату и положить ключ за зеленый ставень, как было сказано ему накануне.
И вот теперь он едет, покачивается с председателем на тачанке. Неудобно так выезжать, не простившись: в самом деле будто удирает.
— Иван Федорович, — обратился он к председателю, — нельзя ли заскочить на минутку к Мелании? Туда, где она работает.
— Как это нельзя? — откликнулся председатель. — Все можно! Правда, круг сделаем, ну да это небольшой минус… Газуй, Мишка, через вторую бригаду, — приказал он кучеру.
— Это что у вас посажено? — спросил скульптор, показывая на зеленую кустистую плантацию.
— Арахис.
— Впервые слышу.
— Земляные орехи. Те, что вы знаете под именем жареных китайских орешков… Растут они, конечно, не жареные, — зачем-то добавил председатель.
Узкая дорога потянулась вверх между глинистыми косогорами, покрытыми кустарником. Впереди, где-то совсем близко, поперек дороги синело небо, сзади, в просторных низинах, на километры раскинулись плавни. Ниже плавней спокойно блестела речка, а вдоль нее сгрудилось белыми хатками село. Вон и хата Мелании с крылатыми ставенками… Загляделась на юг, искоса поблескивает окнами, как бы отворачиваясь от залетного гостя…
Лошади захрапели, напрягаясь на подъеме, и всем пришлось сойти. Шагая по обочине дороги, скульптор то и дело подбирал со склонов глину, разминал ее пальцами.
— Богатые глины! — бормотал он, обращаясь к председателю. — Можно лепить.
— Видите, а вы переночевали — и айда. Я, откровенно говоря, планировал использовать ваше пребывание. Думал, для нашего клуба вы что-нибудь такое, знаете… Какой-нибудь шедевр… Глин у нас непочатый край!
Выбрались на гору, в поле, и скульптор неожиданно остановился.
— Позвольте, — застыл он на месте, — что это?
От восторга у него перехватило дыхание. То, что он увидел, на мгновение ошеломило и ослепило его: на широчайшей равнине, сколько хватал глаз, ярко золотились подсолнухи. Стояли до самого горизонта пышноголовые, стройные, неисчислимые и все, как один, повернутые к своему небесному образцу, к солнцу. Казалось, они и сами излучают свет своими желто-горячими коронами, и, может, поэтому вокруг было как-то особенно ясно, чарующе и празднично, словно в заповеднике солнца. Тут даже воздух, казалось, переливался золотистыми оттенками.
Кучер остановил лошадей и равнодушно стал закуривать, а председатель направился со скульптором к подсолнухам. Горячее цветение пьяняще дохнуло на них густым неповторимым ароматом.
— Вот это Меланьины, — с удовольствием пояснял председатель. Вот и табличка выставлена, читайте. А дальше пошли — уже других.
Скульптор зачарованно смотрел в даль, заполненную до самого небосклона яркоголовым солнечным братством.
— Нет, это что-то неземное! — тихо восклицал он. — Даже не верится, что все это яркое, совершенное, божественное выросло из простой серой массы, из пыли, из земли!..
— Не само выросло, — пошутил председатель. — Посадили, выпестовали — вот и выросло… Живые люди плюс агротехника и плюс, конечно, природа. Вон они где, те, что все это вылепили!
В глубине золотых плантаций белой чаечкой вынырнула чья-то косынка. За ней показалась вторая, третья…
— Вылепили, говорите?
— А как же. Мастера!.. Во всяком деле есть и свои мастера, и свое, так сказать, вдохновенье.
Девушки двигались междурядьями, медленно приближаясь к дороге. Там, где они проходили, с подсолнухами творилось что-то удивительное. Утрачивая свой царственный дремотный покой, они неожиданно оживали, казалось, сами, разогнавшись, летели навстречу друг другу, и, соединившись на мгновение в поцелуе, снова разлетались в разные стороны, и опять свободно смеялись, шаловливо покачивались, перемигиваясь с солнцем.
— Что они делают? — обратился к председателю удивленный скульптор.
— О! Да разве вы не знаете? Искусственное опыление! Чтобы не ждать, как говорится, милостей от природы!
В первой из девушек скульптор узнал Меланию. Так вот какая она, настоящая! Что-то почти величественное было сейчас в ее позе, во взгляде, в движеньях. Не шла, а как бы наплывала из золотистого душистого моря, гордо выпрямившись, легко и ритмично позванивая в свои золотые литавры. Увлеченная работой, она, видимо, совсем не замечала скульптора: ей было не до него. Лицо вдохновенно разгорелось и, осветившись какими-то новыми мыслями, стало как бы тоньше, интеллектуальнее, богаче; на нем появилось много новых, неожиданных оттенков. Откуда взялись и красота, и характер, и идеальная чистота линий!
Скульптор почувствовал вдруг, как наяву молодеет, как уменье и талант вновь возвращаются к нему. Запомнить, схватить вылепить! Вот здесь, сейчас, в это мгновение!
— Здравствуйте, девчата! — крикнул, поднимаясь на цыпочки, председатель. — Пчелы на вас жалуются: хлеб у них отбиваете.
Пыльца вьется над девушками, как золотой дымок, оседает на косынки, на ресницы, на брови…
Молча смотрит Мелания на скульптора, будто припоминает кто он и зачем он здесь. Разгоряченная, переполненная счастьем она вся еще живет в другой сфере, где чувствует себя властительницей, где можно держаться свободно и естественно. Той скованности, принужденности, неуклюжести, которые так раздражали скульптора накануне, как не бывало.
— Мелания! — бормочет он. — Мелания!..
И взволнованно умолкает.
Девушка с достоинством ждет, что будет дальше. Глаза ее лучатся, душистые подсолнухи ласково кладут свои головы ей на плечи, на грудь.
— Мелашка, — поспешил на выручку председатель. — Наш уважаемый гость уже уезжает… Так они хотели с тобой…
— Ничего я не хотел, — с неожиданной решимостью сказал скульптор. — И никуда я не поеду! Я остаюсь здесь, я открою свою мастерскую под этим небом! Ясно?
Мелания переглянулась с подругами и сдержанно улыбнулась:
— Вам виднее.
Заняла новое междурядье, и через минуту ее полные загорелые руки уже снова нырнули в подсолнухи, плавно касаясь их дисков, с девичьей нежностью, с классической грациозностью.
Подруги, следуя ее примеру, тоже стали каждая на свое место, и шершавая горячая чаща зашелестела, веселые подсолнухи начали дружно целоваться; девушки двинулись в противоположный конец плантации.
— Сбросьте мой чемодан, — сказал скульптор, не поворачиваясь к тачанке, — и можете ехать.
Стоял словно завороженный… Исчезло все постороннее. Видел только море подсолнухов, белую косынку и артистические изгибы рук, которые, ритмично поднимаясь, плавно позванивали в золотые литавры.
1950
БОРИС ПОЛЕВОЙ
ВКЛАД
С того самого дня, когда бригада Сетьстроя прибыла в эти знаменитые теперь края, Петр Синицын как-то сразу разочаровался в своей профессии.
Нет, «разочаровался» — не то слово. Все было сложнее…
Петр Синицын по-прежнему любил трудное, опасное дело монтажника-верхолаза. Со стороны, издали, мачты высоковольтных электропередач кажутся легкими, ажурными, точно парящими в воздухе над простором степей или трудолюбиво шагающими гуськом через леса по широкой просеке, прорубленной для них. На самом деле это тяжелые стальные сооружения. Поднять, установить и укрепить их на бетонных подушках, а потом на большой высоте подвесить к ним провода и громозащитные тросы — дело нелегкое. Оно требует большой ловкости, сообразительности и умения, решительности, если надо, идти на разумный риск. Петр Синицын, трудовой путь которого начался в этой бригаде сетьстроевцев, сразу оценил живое дело, привык к нему, увлекся им и начал считать самым интересным и увлекательным из всех дел, какими занимаются люди. К тому же — что там говорить! — приятно сознавать, что ты прокладываешь свет, двигаешь культуру в далекие районы, в пустынные края, в степь, в тайгу.
Но вот стальные мачты зашагали по трассе стройки. С их вершины, с высоты птичьего полета, в погожие дни можно было видеть окрестности километров на пятнадцать — двадцать. Перед Петром Синицыным начали открываться картины больших, непонятных ему строительных работ, сменявшие одна другую. Среди изрытой, развороченной степи юный монтажник видел в облаках пыли целые стада больших и сложных машин; машины эти казались ему сверху живыми существами, а маленькие люди, сидящие в их кабинах и так умело управляющие ими, — мозгом этих гигантов.
Все это было так необычайно, что всегда дисциплинированный монтажник, иной раз забыв работу, застывал, безмолвно и очарованно созерцая происходящее. Среди работающих на стройке было много его погодков, самых обыкновенных парней и девушек… И он завидовал им, уверенно хозяйничающим на всех этих сооружениях, управляющим машинами и механизмами, по сравнению с которыми его собственный инструмент казался ему простым, как каменный топор. О стройке, которая поднималась над ископанной, взлохмаченной землей, каждый день писали в газетах. Страна следила за работой этих парней и девушек, а он, Петр Синицын, со своими товарищами продолжал ставить все одни и те же, похожие одна на другую мачты, тянуть бесконечные провода, совершенно одинаковые и в тайге, и в степи, и на трассе огромных строительств.
Вот тут-то Синицын и почувствовал, что начал к своей профессии охладевать. Видя, что это уже начинает отражаться и на работе, он однажды доверил тревожные свои мысли мастеру Захарову, который когда-то приобщил его к сложному делу верхового монтажа. Захаров, или, как все его называли, Захарыч, человек покладистый и даже осуждаемый начальством за мягкость и панибратство с подчиненными, с недоумением посмотрел на своего ученика, потом вдруг покраснел до испарины и пустил такую очередь соленых, дореволюционного качества, словечек, что Петр отскочил от него и поспешил убраться, не ожидая ответа по существу.
Но вечером, приняв от бригады работу, мастер сам подошел к Синицыну, взял его за плечо маленькой жесткой рукой и, посмотрев в сконфуженные глаза парня, сказал с упреком:
— Петька, профессия баловства не терпит!
Квартировали в ту пору монтажники в доме на окраине поселка. В большой комнате помещалось человек шесть. Мастер жил здесь же, в уголке, отгороженном одеялом. Ночью, когда все уже храпели на разные голоса, Синицын ворочался и не мог уснуть. Разговор с мастером снова и снова приходил на ум.
Вдруг Петр услышал, как в углу скрипнул топчан и кто-то на ощупь, осторожно обходя спящих, пробирается к нему.
— Маешься? — услышал он рядом с собой шепот Захарыча. — И мне что-то не спится… Вертелся, вертелся, аж бока болят… Я што! Меня можешь какими хошь словами критиковать — выслушаю. Ты дело наше обидел. Профессия — в нее, брат, верить надо.
Синицын молчал. Его поражало, как этот мастер, из которого обычно слова не вытащишь, вдруг так разговорился.
— Вот ты толкуешь — машины. Верно, знаменитые машины. Сам любуюсь. А разве в машине дело? Главное в том, кто в ней сидит. Посади в нее дурака, он машину угробит и дела не сделает. А человек с умом — он и с простыми кусачками себя проявит. Вот ты в нашем деле усомнился, на стройку потянуло. Стройка — она, конечно… А вот не поставим мы вовремя на Волге мачты и упоры, не перекинем линию — всей стройке задержка: машины станут, питаться им нечем.
Мастер склонился к парню и зашептал ему в ухо. Он был на совещании: предстоит работа огромной важности, невиданная, небывалая. Нужно подвесить между двумя береговыми упорами провода длиной в полтора километра. Да где подвесить! Метрах в ста над рекой. И когда? Теперь вот, срочно, до паводка, а то как раз левобережье без тока и оставишь.
— Слыхал? Вот и разумей, что такое верхолаз-монтажник! И помни, парень: важно, что ты умеешь, да ум, да сердце, да к делу любовь. А если все это есть, будь ты хоть перевозчиком на пароме, придет твой час — проявишься, и народ тебе свое спасибо скажет…
Ночной этот разговор, тихие эти слова припомнил Петр Синицын некоторое время спустя, когда над рекой на обоих берегах уже возвышались огромные ажурные мачты, уходящие в синеву неба, а на них, слегка провисая над стремниной, протягивались толстые, впрочем, едва различимые снизу, провода. Небывалая в истории техники задача была уже решена, решена умно, смело, вовремя. Но вот за день до того, как по проводам этим должен был пойти ток, контролеры выяснили, что над серединой реки на одной из фаз произошел обрыв жилы провода.
Страшное это было открытие. Опускать провод вниз нельзя: На реке уже началось судоходство. Задержать сдачу линии невозможно: механизмы стройки, все эти многочисленные земснаряды, экскаваторы, уже заняли исходные позиции, ждут тока. Оставалось одно: найти человека — и не просто человека, а отличного мастера, который взялся бы по проводам, висящим более чем в ста метрах над уровнем реки, добраться до места обрыва и там, качаясь над бездной, наложить бандаж. Такой работы никому еще из монтажников Сетьстроя производить не доводилось, да и вряд ли вообще доводилось делать что-нибудь подобное хотя бы одному верхолазу в мире.
Как когда-то на фронте на опасное, героическое дело вызывали обычно охотника, так и здесь инженер, собрав лучших монтажников, спросил, не возьмется ли кто-нибудь из них добровольно совершить этот трудный и опасный подвиг.
Наступило молчание. Монтажники, загораживаясь ладонями от солнца, смотрели на провисший, покачивающийся над водой провод, стараясь разглядеть на нем роковой обрыв. Призматический бинокль переходил из рук в руки. Через его сильные линзы можно было даже рассмотреть завитки оборвавшейся жилы. И люди стояли в тягостном молчании, прикидывая в уме свои силы и расстояние, которое нужно карабкаться по проводу, высоко над бездной. Каждый мысленно совершал этот опасный путь, и каждый чувствовал, как от одних только мыслей об этом начинает учащенно биться сердце и дыхание становится прерывистым.
Петр Синицын тоже был тут. Когда инженер вызвал охотника, он вдруг вспомнил, как Захарыч говорил ему ночью, что в каждой профессии настает час, когда человек может проявить себя. Эта мысль мелькнула у него в голове, и, прежде чем даже созрело окончательно взвешенное решение, он приблизился к инженеру и торопливо сказал:
— Я полезу. — Потом ревниво взглянул на остальных монтажников и прибавил, уже оспаривая свое право на риск. — Я полезу, я наложу бандаж!
Сердце его колотилось так, что он даже испугался, как бы этого не услышал начальник, решавший его судьбу. Он даже попятился от инженера. Вызвались и еще охотники. Инженер неторопливо всматривался в их загорелые лица, видневшиеся из-под мятых кепок.
Инженеру предстояло принять решение, от которого зависела не только своевременная подача тока строительству, но, может быть, и человеческая жизнь; взгляд его остановился на взволнованном юном лице, на котором даже под густым загаром угадывался возбужденный румянец.
— Пойдет Синицын, — сказал инженер как можно спокойнее. И отдал распоряжение принять меры безопасности.
Обычно думают, что верхолаз — человек, лишенный ощущения пропасти, этого могущественнейшего чувства, возникающего и укореняющегося в человеке в те моменты, когда он младенцем делает свои первые шаги по земле. Нет, тягостное это чувство живет даже в самых опытных высотниках, и только воля обуздывает его, позволяя трудиться где-нибудь на шпиле с тем же расчетливым мастерством, как и на твердой земле. Верхолаз, знающий, что такое высота, и научившийся хладнокровно на ней работать, стоя на земле, не может без волнения смотреть на своего товарища, находящегося наверху.
И сейчас, когда Петр Синицын с инструментальной сумкой через плечо проворно карабкался на вершину стальной мачты, о которую, как казалось снизу, распарывали свои груди сырые весенние облака, за ним с волнением следили его товарищи. На их глазах Петр становился все меньше и меньше. Вот уже не стало видно его лица. Только силуэт его фигуры то стушевывается, то проясняется среди торопливых грязноватых тучек.
— И ветер еще, чтоб его!.. — сказал кто-то из наблюдавших за ним верхолазов.
— И сырость… Провод-то, он теперь скользкий, — добавил другой.
— Тише вы! — простонал Захарыч, не отрывая глаз от маленькой фигурки, как будто этот тихий шепот на земле мог отвлечь, рассеять внимание того, кто там, наверху, оторвавшись от железных ферм мачты, медленно, очень медленно начал двигаться по проводу, качавшемуся над пропастью.
— Пошел!.. А провод-то, провод-то как парусит!
— Не каркать! — рычит Захарыч, а сам шепчет чуть слышно: — Осторожней, осторожней! Перехватывайся, отдыхай…
Большая река живет между тем своей обычной жизнью. Маленький шустрый буксирчик тянет за собой баржи с тесом. Катер волочит огромную барку-паром, палуба ее сплошь покрыта людьми и машинами. Большой теплоход плывет, как лебедь. Маленький человечек, медленно перемещающийся там, наверху, на раздуваемых ветром проводах, с земли еле виден, но его уже заметили отовсюду. Взоры людей устремлены к нему…
Мастеру Захарову, которому самому приходилось так вот ремонтировать провода, хотя, конечно, не на такой высоте и не при таких невероятных обстоятельствах, начинает казаться, что все эти взоры, тарахтенье катерного мотора, гудки пароходов как-то мешают тому, кто, вися над пропастью, медленно движется к месту обрыва.
— Петруха… Петя… Петенька, осторожней, осторожней! — шепчет он, и когда кто-то из монтажников прикладывает к глазам бинокль, он с маху его вырывает: — Не смей! Не в цирке!..
Инженер, который дал Синицыну разрешение, уловив конец фразы, думает: «В цирке! Что стоит самый сложный цирковой номер, в сотый раз повторяемый на ограниченной высоте, над распростертой сеткой, по сравнению с тем, на что вызвался вот этот парень, повисший сейчас над бездной! Сто четырнадцать метров над уровнем воды!» Математический мозг инженера сам собой производит подсчет: скорость падения в первую, во вторую, в третью секунду… Боже, какая страшная скорость! И все-таки нужно послать туда катер. Под провода, на всякий случай… Хотя какой может быть случай! Удар об воду — и…
— К катеру! — командует он.
Взревев мотором, катер стремительно отрывается от причала и, точно привязанный, начинает кружить по реке под проводом. В нем — инженер, мастер Захаров и водитель, вихрастый паренек в тельняшке. Он так бледен, что слой загара кажется на его лице зеленоватым, а веснушки черными.
Захаров ложится на корме, чтобы не терять своего ученика из виду.
— Да не трещи ты мотором, черт конопатый! — зловеще шепчет он мотористу. — Не тещу катаешь! Ходи на малом газу… — Всем своим существом, взором, мыслями мастер с тем, кто, продвигаясь метр за метром, уже почти достиг середины реки. Самое горячее его желание сейчас — быть наверху, рядом с учеником, и только большой опыт, говорящий, что в верхолазном деле, там, где достаточно одного, двоим нечего делать, да самодисциплина высотника мешают ему просить у инженера позволения лезть на помощь Петру…
А Петр Синицын между тем уже добрался до места обрыва жилы.
Вначале, когда он поднялся на вершину гудящей, ощутительно вибрирующей под ударами ветра мачты и перед ним протянулись провода и тросы, которые, как это было видно отсюда, будто плавали вперед и назад, ему стало страшно до дрожи в ногах. Высотник с первых же своих трудовых шагов, он научился справляться с этим тягучим, томительным чувством, которое охватывает человека, когда он находится на краю пропасти. Синицын никогда без нужды не смотрел вниз и приучил себя воспринимать все окружающее его на высоте как бы лежащим на земной поверхности.
Но тут не было твердой опоры для ног и рук. Тросы, но которым предстояло двигаться, раскачивались и как бы стремились выскользнуть из-под него. Щемящий холодок, рожденный где-то под ложечкой, быстро сковал все мускулы. Руки и ноги потеряли обычную эластичность, стали неповоротливыми. И, может быть, впервые за всю свою работу, верхолаз почувствовал каждой точкой своего тела, как вздрагивает и раскачивается верхушка мачты.
Что же, слезать назад? Он хотел смерить взглядом расстояние, отделяющее его от земли, посмотрел вниз. Перед глазами развернулась стройка, отлично видная сверху. Широко простираясь в излучине реки, она вся курилась дымами многих труб, куталась в облака пыли. Словно плавучие дома, стояли на рейде землесосные снаряды, за ними тянулись похожие на огромные сосиски плавучие пульповоды. У опоясанного причалами мола теснились суда, краны неутомимо снимали с барж фасонное железо, стальные фермы, пачки теса, бревен, мешки с цементом — и вновь металл, и вновь бревна…
Вся окрестность до самого горизонта кипела трудом.
Что же, слезать?
Слезать назад?.. Да как это могло прийти в голову! Вперед, только вперед!..
Цепким, пружинистым движением Петр Синицын соскользнул на провод и, радостно — да, именно радостно! — ощущая, как вновь становится эластичным все тело, а руки обретают цепкость, двинулся по нему. Сомнения, опасения, колебания сразу остались позади. Мысль, воля, энергия — все сосредоточилось в одном твердом решении: добраться до обрыва, наложить бандаж.
Карабкаясь по раскачивающемуся проводу, Петр уже ни о чем не думал, кроме того, как бы сделать движения более точными; он ничего не видел, кроме своей парусящей опоры, то обнимаемой сырым туманом, то вырисовывающейся с необыкновенной четкостью… И все в нем соединилось в стремлении не поскользнуться, сохранить равновесие, добраться, починить. Он не смотрел вниз, но, думая об опасности, двигался расчетливо, сантиметр за сантиметром карабкаясь там, где, казалось бы, не смогла пройти и кошка.
И странно — это удивило даже его самого, — он не заметил, как добрался до места. Вот он проклятый обрыв. Провод второй фазы, завитки жилы… И почему она, черт ее подери, все-таки оборвалась тут, над рекой? Может быть, проглядели и подняли провод с дефектом? Нет, место обрыва еще золотится крупитчатым изломом — ясно, жила лопнула, когда провод уже висел. Впрочем, теперь все равно — надо чинить, скорее чинить!
Петр Синицын медленно раскачивается над бездной. Накладывает бандаж. Работа пустяковая сама по себе, но сделай ее вот тут, на проводе, который все время качается! И еще этот ветер — он то стихает, то неожиданно бьет с упругой силой, будто прячется, а потом выскакивает на тебя исподтишка, стараясь столкнуть вниз.
— Нет, шалишь, не выйдет! — цедит сквозь зубы Петр, а руки работают, работают…
И вот все окончено. Можно возвращаться. Но происходит событие, которое сразу меняет все. Выскальзывают плоскогубцы. Переворачиваясь в воздухе, нехитрый этот инструмент медленно, как это кажется сверху, падает вниз. Глаза монтера невольно провожают его до того мгновения, пока, пробив волну, плоскогубцы скрываются под водой.
Впервые после того, как Петр Синицын оторвался от стальных креплений мачты, он отчетливо видит под собой желтоватую взлохмаченную реку, кое-где просвечивающую янтарными клиньями мелей. Белые барашки гуляют по воде, чайки кружат где-то далеко внизу, и маленький катер, на котором монтажник различает и инженера и мастера, вертится внизу.
Петр видит даже, как Захарыч, сложив руки рупором, должно быть, что-то кричит. А тут, рядом, покачиваясь, гудят под ветром провода и тросы. Глядя на них, верхолаз снова, как было там, на мачте, каждой клеткой своего тела, сразу покрывшегося испариной, ощущает и страшную высоту, и неустойчивость парусящих проводов, и злую силу ветра.
Сразу же появляется головокружение. Руки, потеряв веру в свою силу, вцепляются в провод и начинают противно дрожать. Все точно расплывается. Медленно теряя равновесие, Петр, судорожно взмахнув рукой, валится со своей зыбкой опоры в серую шевелящуюся бездну…
— А-а-ах!
Этот неопределенный крик вырывается одновременно и у мастера, который лежит, смотря вверх, на корме катера, и у инженера, и у монтажников, наблюдающих с берега за работой товарища, и у многочисленных пассажиров парома, идущего от стройки в обратный рейс, — у всех, кто видит в этот момент Петра Синицына.
Петр сорвался с провода. Но через мгновение его увидели повисшим на цепи монтерского пояса, пристегнутой к проводу. Верхолазы бросились к мачте, карабкаются вверх. Катер кружит по воде под тем местом, где на головокружительной высоте беспомощно висит раскачиваемый ветром человек.
Кровь медленно течет по подбородку инженера, от волнения прокусившего себе губу. Мастер снова приложил руки ко рту и во всю мощь легких кричит:
— Петь, Петь! Не болтайся… Виси спокойно… Отдыхай, Петя, отдыхай, копи силы! Слышь? Силы копи!
На мгновение руки мастера бессильно опускаются, он растерянно смотрит на инженера.
— Не слышит — ветер, волна… Да не трещи ты мотором, окаянная сила! Глуши свой паршивый примус!
И, снова приложив руки ко рту, Захаров кричит до хрипа, до красных кругов в глазах, до дрожи во всем теле:
— Петя, виси, виси! Накопишь силы — раскачивайся, цепляйся ногами за провод! Петя! — И вдруг, оборачиваясь к инженеру, он хрипит окончательно сорванным голосом: — Услышал…
Но Петр Синицын не услышал ничего.
Оправившись от падения, он перевел дыхание и понял, что цепь и пояс, которыми он иногда на работе пренебрегал, спасли его. Но надолго ли? Он знал, что в реку не упадет. Это сразу дало возможность обдумать положение.
Не может быть, чтобы не было выхода! Не висеть же вот так над рекой на цепи, как бы крепка она ни была! Ведь вот дополз же он, и бандаж наложен, и дефект устранен, и ток давать можно.
Эти мысли окончательно привели его в себя. Но как же быть? Если он будет так вот висеть, начнут опускать провод. Обязательно опустят! Вот уже и сейчас лезут на мачту… Огромная работа… А главное, поднять провод снова смогут не скоро, на это нужны недели. Как же, как же быть?
Он не слышал, что кричал ему с катера мастер Захаров. Ветер уносил все, что тот силился сообщить ученику. Но недаром мастер славился умением учить молодых: Петр сам сообразил, что нужно делать.
На несколько томительных минут он затих, вися над бездной в полном покое, если, конечно, можно говорить о покое в его положении. Копил силы. Отдохнув, принялся раскачиваться на цепи. Он раскачивался все шире и шире… Вот нога его уже коснулась провода. Еще, еще! Ах, как кружится голова!.. Еще немного… Провод неясно мелькает рядом… Верхолаз весь напрягся, сжался в комок и, сжавшись, зацепился за провод сплетенными ногами.
Теперь он перестал быть игрушкой ветра. Он может сознательно управлять движениями. Это уже хорошо. Еще некоторое время он отдыхал, вися вниз головой. Теперь он даже не боится, он уверен в себе. Провод не придется опускать. Перехватываясь руками по цепочке, которая спасла его, он дотягивается до провода. Рывок — и он уже снова на проводе.
Нет, он не слышал восторженных криков, прокатившихся по реке. Он ничего не видит и не слышит: он отдыхает, выключив все органы чувств, экономя каждое движение.
Потом, собрав силы, уже уверенно, балансируя, цепко перехватываясь руками, он движется обратно к мачте.
Те, кто внимательно следит за ним снизу, поражаются, как быстро он на этот раз проходит расстояние до твердой опоры. Ему же, наоборот, путь этот кажется мучительно медленным, и каждое свое перемещение он отмечает как маленькую победу.
Петр устал. Порой движется как бы механически, но движется… Воля и вера в себя, только что выдержавшие такую проверку, безошибочно ведут его. Вот рука касается наконец металла мачты. Все чувства, приглушенные усталостью, вспыхивают с новой силой. Радость распирает грудь; кажется, будто и сердцу становится тесно.
Это не только радость спасения — нет, это радость неизмеримо большая.
«И моя копеечка не щербата», — удовлетворенно цедит он сквозь зубы любимую поговорку Захарыча, слезая с мачты.
Впрочем, когда на земле Петра Синицына обступают товарищи и мастер Захаров, глядящий теперь на него не с обычной своей снисходительностью, а с почтением, когда все наперебой начинают его хвалить, поздравлять, он только хрипло, с трудом произносит:
— Попить бы, а? Водички холодненькой… Дайте попить!
1952
ВАСИЛИЙ ГРОССМАН
ТИРГАРТЕН[100]
1
Обитатели Берлинского зоологического сада волновались, слыша едва различимый гул артиллерии. Это не был привычный свист и гром ночных бомб, бабахающий рев тяжелых зенитных орудий.
Чуткие уши медведей, слонов, гориллы, павиана сразу же стали улавливать то новое, от ночных бомбардировок отличное, что несли в себе эти едва уловимые звуки, когда битва была еще далеко от окружных железнодорожных путей Большого Берлина и круговых автострад.
Тревога среди зверей происходила оттого, что чувствовался приход нового, измененного. Часто стал слышен скрежет проезжавших мимо стены зоологического сада танков. Этот скрежет не походил на знакомое шуршание легковых машин и звон трамваев, на шум проходившей над домами городской железной дороги. Новые звучавшие существа почти всегда передвигались табуном; от них шел жирный запах горелого масла, отличный от привычного запаха бензиновых существ.
Звуки каждый день разнообразились. Гудение города, которое воспринималось жителями клеток как естественный и привычный шум жесткой степной травы, или шум дождя по кожано-плотной листве в экваториальном лесу, или шум льдин, шуршащих у берегов северного моря, — этот городской гул со своими очевидными, связанными с приходом дня или ночи усилениями и ослаблениями переменился, оторвался от движения солнца и луны. Ночью, в обычную пору городского затишья, воздух теперь был полон земного шума: человеческих голосов, топота, гуда моторов.
Небесный свист и гром, монотонное жужжание, доносившееся с неба, — все это прочно связывалось раньше с ночным временем, ночной прохладой, звездами, луной. И вот теперь небесные шумы, почти не ослабевая, продолжали существовать при солнце, и на рассвете, и на закате. В мутном воздухе стоял запах, томительно тревожный для всех существ, в чьей крови жил вечный ужас перед степными и лесными пожарами, перед гарной мутью, поднимающейся над августовской тундрой. На землю недоверчиво опускался черный, хрусткий пепел: то жгли министерские архивы, — и животные в вольерах, пугаясь, посапывая и чихая, нюхали его.
Изменение было и в том, что люди, с утра до вечера переходившие от клетки к клетке, вдруг исчезли. Остались железо и бетон — величественная, непознаваемая судьба.
Три человека в течение дня прошли перед клетками — это были старуха, мальчик, солдат. Животные, в которых, как в детях, живет простота и наблюдательность, запомнили и отличили их. Глаза старухи были полны страдания; обращенные к обитателям клеток, они просили сочувствия. Из глаз солдата в упор смотрел страх смерти; звери уже не участвовали в жизненной борьбе, но сохранили существование, и солдат завидовал им. В бледно-голубых глазах мальчика, обращенных к медведям, к горилле, была восхищенная любовь, мечта уйти из городского дома в лес.
Горе, ужас, любовь, с которыми пришли к животным старуха, солдат и ребенок, передавались от глаз к глазам и не прошли незамеченными.
Были замечены еще два посетителя: раненый в госпитальном халате с апельсиновыми отворотами, с головой, обвязанной пухлым комом ваты и бинтов, с большой гипсовой рукой, лежащей в марлевой люльке, и худенькая девушка в крахмальном чепце с красным крестом. Они сидели на скамье и ни разу не оглянулись; жители зоологического сада не видели их глаз и лиц. Они сидели, склонившись друг к другу, изгрызенный войной молодой крестьянин и девушка.
Изменились и сторожа, те существа, что внешностью походили на людей, но обладали большим могуществом. Они долгие годы делились с обитателями клеток мясом, добытым на неизменно удачной еженощной охоте.
В эти дни охота сторожей оскудела; иногда они вовсе не приносили добычи. Может быть, дичь разбежалась, напуганная шумом и пожарами. Может быть, сторожа, испытывая голод, собирались переменить место охоты, сопровождать травоядных на их новые пастбища. Чувствуя голод, тигры, львы пытались охотиться на воробьев, шнырявших по клеткам, на мышей. Но воробьи и мыши их не боялись, давно уже зная, что эти сонные, безобидные существа лишь внешностью напоминают городских кошек.
Была еще одна причина для волнения: в прелести утреннего воздуха, в молодой траве, взрывавшей асфальт, в потемневших, налившихся жизнью ветвях, в древесной листве, чья юность и нежность даже в плотоядных существах порождали желание стать травоядными.
В полные очарования апрельские дни мир и для уставших дышать стариков становится новым и непривычным. Все, что скользит мимо, не оставляя следов, становится выпукло, внятно и осязаемо. В эту пору и утрамбованная земля на площади, и вода в канавах, и темный, вечерний асфальт, и капля дождя на мутном стекле автобуса — все приходит как праздничное, непривычное.
И так случилось, что все это — и далекий подземный грохот, и запахи весны, и запахи пожаров — создало у многих жителей зоопарка чувство радостного и уверенного ожидания перемены, новой судьбы.
Одни из них были пойманы детенышами и ничего не помнили о воле, другие родились в клетке. У некоторых отцы, матери, деды, бабки родились здесь, и, казалось, даже из крови испарилось у них ощущение воли. Но существа, забывшие свободу, не знавшие ее, существа, чьи деды уже не знали ее, от одного лишь смутного предчувствия ее метались по клеткам, охваченные томлением.
2
Смотритель обезьянника Рамм был очень привязан к горилле Фрицци. Посетители, особенно женщины, вскрикивали от страха, глядя на коричневое, голое, бесшерстное лицо, желтые клыки огромной человекообразной обезьяны. Могучие длинные руки, черные базальтовые плечи гориллы казались еще толще, еще массивней от плотной шерсти.
Откованная по особому заказу на крупповском заводе решетка отделяла обездоленную обезьяну от посетителей. Когда горилла брался за железные прутья руками, люди тревожились. Но Рамм знал, что мало на свете существ добрей, чем Фрицци: его пальцы, способные скрутить в петлю толстую железину, с такой деликатной приязнью умели пожимать руку старика, благодарить его не только за лакомства, но и за улыбку привета! Фрицци мило вытягивал свои синеватые, каучуковые губы, требуя, чтобы Рамм позволил поцеловать себя.
И, когда губы гориллы касались морщинистой шеи смотрителя, Рамм смущенно улыбался: мало кому придет охота целовать заброшенного судьбой старика. Рамм знал, что люди равнодушно, а иногда брезгливо смотрели на его старое лицо, на бедную, заплатанную одежду, никто с ним не заговаривал в магазине, где он стоял в очереди за продуктами, никто не спрашивал его, какая сегодня сводка с Восточного фронта, никому не было охоты уступить ему место в автобусе. Поэтому старику делалось немного неловко, когда он видел, с каким восхищением и нежностью смотрит на него горилла.
Три сына смотрителя обезьянника погибли на фронте, четвертого сына Рамма, секретаря союза галантерейных приказчиков, забрала полиция, свирепо охранявшая жизнь немецкого народа. Спустя три года из Дахау прибыл черный пластмассовый ящичек с несколькими горстями бледно-серого пепла и извещение о том, что заключенный Теодор Рамм в возрасте двадцати девяти лет умер от воспаления легких. Серые хлопья, темные чешуйки, несколько запекшихся кусочков шлака — вот и все, что осталось от смешливого, милого кареглазого участника профсоюзного хора, который любил яркие галстуки и светлые пиджаки. Полиция была беспощадна не только к непокорным, пытавшимся бороться с Гитлером. Государственная тайная полиция считала, что нет в мире невиновных.
Черные пластмассовые урны с пеплом приходили из Дахау, Мальтхаузена во многие квартиры: так наконец возвращались домой те, кого ночью увела полиция, охранявшая бесправие народа и государственную безопасность. Рамм понимал, чувствовал, что под лакированной, немой поверхностью гитлеровского государства нет счастья и довольства. Немало людей хотели свободы. Но как он мог найти их? Ведь люди боялись полиции, боялись доносов, молчали.
Когда-то Рамм сочувствовал социал-демократам, когда-то он слышал Бебеля,[101] и в его старческом, склеротическом мозгу, дерзавшем решать пустые вопросы, все смешалось. Он, собственно, не предполагал обдумывать немецкую жизнь по своей воле, он был вынужден, его заставил фашизм. Каждый, кто избег всеобщей попугаизации, делал это по-своему. Старики сторожа, старики мусорщики, кассиры и счетоводы безграмотно и ненаучно определяли то, что почти столь же дилетантски пытались определить в свое время некоторые частные лица, граждане великих государств: египтяне, евреи, греки и римляне.
Звери, казалось Рамму, самые угнетенные существа в мире. И он был на стороне угнетенных: он ведь когда-то сочувствовал социал-демократии. Заключенным в зоопарке никто не писал, они ни с кем не делились горем. Их личная жизнь, их счастье никого не интересовали. И, конечно, за все время существования зоосада никто из них не вернулся на родину, их прах не отсылали в леса и степи. Их бесправие было беспредельно.
Ночами Рамм в своей одинокой комнате в служебном доме зоосада слушал гудение американских и английских самолетов, грохот орудий и бомб, а в тихие ночи прислушивался к воркотне легковых автомобилей.
Становилось жутко, когда возле служебного дома зоопарка вдруг стихал, глохнул мягкий, мурлыкающий рокот автомобильного мотора. Удивительная мощь была в новой, не знавшей колебаний породе людей, в доступных всем идеях национал-социализма, в построенном Гитлером бездумном государстве.
Когда перед каким-либо берлинским домом останавливался ночной автомобиль, все сердца замирали, не только еврейские сердца, если они по недосмотру продолжали еще биться. Быть может, бывали минуты, когда ночной ужас перед всеведающей, вездесущей и всемогущей государственной тайной полицией возникал в груди самого фюрера.
И вот старик Рамм, потерявший двух сыновей на Восточном фронте, одного сына — в африканском корпусе Роммеля, получивший урну с пеплом четвертого сына, погибшего в концентрационном лагере, похоронивший старуху жену, умершую от горя, своим склеротическим мозгом, никогда не отличавшимся развитостью и особой силой, стал думать в государстве, где думать не полагалось.
Ведь мысль — это свобода! Государство Гитлера стояло совсем на другом основании. Рамм сообразил, что национал-социалистское государство было построено на удивительной основе. Все, что гитлеровская партия провозглашала как народный идеал или как уже достигнутое в борьбе, она начисто отнимала у населения. Гитлер объявил, что борется за немецкую свободу, — и население попало в рабство. Величие национал-социалистской Германии было связано с мучительной зависимостью и бесправием немцев внутри достигшей суверенности империи. Если развивалось и богатело германское сельское хозяйство, — нищали крестьяне. Если росла промышленность, — снижались заработки рабочих. Шла борьба за немецкое национальное достоинство — и отвратительным унижениям подвергались люди, в том числе и немцы. Гитлер украшал города, устраивал цветники и парки — и жизнь в этих городах становилась все тусклей и беспросветней. Если провозглашалась тотальная война за мир, — народ готовили к тотальной войне.
Оказалось, что государство, а не люди живое и свободное существо; люди в живом государстве подобны камням, которые можно и нужно взрывать, дробить, тесать, полировать. Ненужные породы людей, подобно ненужным, пустым породам камней и строительному мусору, следует вывозить на свалку, заполнять ими рвы и ямы.
Шел дьявольский отбор: ненужными оказались смелые, свободолюбивые, с ясной мыслью и добрыми сердцами, — их-то и везли на свалку; гранит был побежден известняком и песчаником.
Государство Гитлера легко, охотно тучнело, когда худели дети; оно любило лакомиться мозгом и душой. Чем меньше души, свободы, разума оставалось человеку, тем полнокровней, громогласней, веселей становилось государство. Но даже не это враждебное человеку государство особо ужасало Рамма. Самым ужасным было то, что среди людей, лишенных свободы, превращенных государством в камни, многие служили ему, жизнь отдавали за него, преклонялись перед гением фюрера. И в то же время в душе Рамма жила бессознательная вера, что человек, обращенный в рабство, становится рабом по судьбе, а не по природе своей. Он ощущал: стремление к свободе можно подавить, но его нельзя уничтожить. В лагерях и тюрьмах было немало людей, сохранивших верность свободе.
Ночью из зоологического сада доносились органное рычание львов, бронхитные голоса тигров, лай шакалов. Рамм по голосу отличал, что старый лев Феникс растревожен новолунием, что тигрица Лиззи, недавно родившая двух тигрят, пытается раздвинуть решетку, вывести на свободу детей — пусть поиграют при молоденькой, зеленой луне. Эти рычания, хрипы, урчания, кашель, лай были так милы, безобидны по сравнению с теми звуками, которые порождал ночной Берлин!
Однажды к Рамму пришел сын его умершего друга Рудольф. Рудольф служил в охранных отрядах, но его демобилизовали вчистую: у эсэсовца оказался кавернозный туберкулез. Он просидел у Рамма несколько часов, и оттого ли, что много выпил, оттого ли, что чувствовал близкую смерть, а старик, сидевший рядом с ним, соединил в себе все хорошее, что хранила память эсэсовца об отце, матери, детстве, он рассказал Рамму то, чего не рассказывают на исповеди. Трясясь от кашля, обнажая черные и золотые зубы, харкая в бутылочку оранжевого стекла, ругаясь, утирая пот, всхлипывая, он сиплым шепотом рассказал о газовых камерах и кремационных печах Освенцима, о том, как травили газом огромные толпы детей и женщин, о том, как сжигали их тела и удобряли их пеплом огороды.
Рамм смотрел на худого парня в мундире без погон, и казалось, что от этого больного эсэсовца, которого он когда-то мальчиком держал на руках и катал на спине, пахнет трупами и горелым мясом. И самое скверное заключалось в том, что Рудольф не был чудовищем, он, в общем, был человеком. А в детстве был он славным, добрым мальчиком. Но, видимо, не только жизнь делает людей ужасными, и люди делают ужасной жизнь.
Ночью старик встал с постели, оделся и под вой сигналов воздушной тревоги пошел в блок хищников. Там просидел он почти до рассвета. Он вглядывался в больные, слезящиеся глаза старика льва Феникса; в расширенные, как у всех кормящих матерей, глаза тигрицы Лиззи; в красно-карие, кажущиеся безумными глаза старой, начавшей сильно седеть гиены Бернара. Ничего плохого он не увидел в этих глазах. А на рассвете, возвращаясь домой, он зашел в обезьянник. Фрицци спал, лежа на боку, подложив под голову кулак, и не слышал, как подошел к нему Рамм.
Губы гориллы были приоткрыты, обнажились огромные клыки, и морда его могла показаться страшной.
Видимо, знакомый запах дошел до спящего животного, и оно, не просыпаясь, в сновидении, а может быть, еще как-то, воспроизвело в подвалах своего подсознания образ любимого существа. Губы во сне тихонько зачмокали, и лицо приняло то чудное выражение, которое бывает лишь у маленьких детей, когда они просыпаются, но еще не проснулись и все же чувствуют тепло, запах, улыбку склонившейся над ними матери.
Сколько в животных было простоты! Как они любили своих сторожей! А ведь сторожа обкрадывали их. Но Феникс радовался, слыша скрип ботинок сторожихи, хотя ботинки эти были куплены за счет Феникса. Да не только ботинки! Брючки для внуков, фартучки для внучек, мотки шерстяных ниток для вязания — все покупалось за счет обездоленных. Сторожа оправдывали такие дела тем, что жалованья едва хватает на еду, а уже одеться на эти деньги никак нельзя. Что ж тут делать? И Рамм был грешен перед животными. И он хаживал на рыночек у северной стены зоопарка, куда приходили любители животных, покупали у сторожей корм для своих белок, кроликов, птиц, тропических рыбок.
Рамм любил выпить…
Простодушный Фрицци, конечно, не знал о грехах старика, радовался, когда сторож делился с ним сахаром, апельсинами, морковкой, рисовым супом, молоком, белым хлебом. Все это вызывало у Рамма беспокойство совести, и звери ему казались особенно милыми. Конечно, у них не было цейсовской оптики и достижений в области производства синтетического бензина. Но ведь не звери придумали национал-социализм.
В своей потребности самостоятельно, без помощи фюрера понять жизнь — невольной, непреодолимой потребности человека, потерявшего четырех сыновей и похоронившего старуху жену, — он начал создавать какой-то нелепый дарвинизм наизнанку. При Гитлере развитие, казалось ему, шло в обратном порядке: живые существа не подымались, а опускались по лестнице эволюции вниз, в бездну. Процветали рабы, подлецы, посредственности, люди без совести; гибли свободолюбивые, неподатливые, умные и добрые! Эволюция наизнанку создавала при фашизме новую, низшую, жалкую породу.
3
Среди сторожей зоологического сада имелось немало чудаковатых людей. Но даже среди чудаковатых людей Рамм прослыл чудаком; некоторые его перевели в высший ранг: считали сумасшедшим.
В субботу утром заместитель директора командировал Рамма на скотобойню, поручил оформить накладные и договориться, чтобы городские скотобойни отпускали для животных обрезки и кости, а не только кондиционное мясо. Зоопарк готов теперь принимать любое мясо, даже падаль. Ведь в связи с приближением фронта снабжение мясом шло очень плохо. Население получало несвежую солонину, где думать о снабжении животных!
К счастью, обезьяны и травоядные были сравнительно хорошо обеспечены: имелись запасы на складе. Но мяса нельзя напасти надолго, даже при наличии холодильника.
Теплым апрельским утром Рамм отправился на бойню в кабине грузовика. Шла утренняя уборка столицы. Разнообразные машины поливали, подметали, скребли улицы, и сверкающая, веселая, гибкая вода бежала по асфальту, шуршали круглые, жесткие щетки, вздувая радугу из водяных брызг. Огромный, охваченный военной тоской, полуразрушенный город казался веселым и беспечным в это весеннее утро.
Рамм подъезжал к конторе скотобойни в то время, когда выгруженный из товарных вагонов скот гнали по асфальтовым дорожкам к широко раскрытым воротам бойни. Обычно это происходило в полумраке, на рассвете. Но в эту ночь, объяснил Рамму водитель грузовика Бунге, из-за бомбежки западных подъездных путей выгрузка скота задержалась.
Медленно движущиеся животные преградили путь грузовику, и Рамм смотрел, прильнув к мутному, пыльному ветровому стеклу, на стада рогатого скота, овец, свиней, идущих по своей последней дороге. Коровы и быки шли, опустив мотающиеся тяжелые, лобастые головы, облизывая пересохшие от волнения губы, с виду равнодушные и покорные, но полные тревоги. Их прекрасные, тронутые туманом глаза смотрели на весело блестевшую в лужах воду, которую наплескал короткий дождь, их ноздри улавливали запах цветущей сирени, утреннюю свежесть воздуха, особенно восхитительную после тьмы и духоты вагона.
Каким чужим было все вокруг: и этот асфальт под ногами, и серые бетонные заборы, и блещущие окна многоэтажного мясокомбината, где по конвейеру плавно двигались теплые, еще содрогающиеся тела умерщвленных животных! Едва уловимый запах крови витал вокруг этого построенного по всем санитарно-гигиеническим требованиям здания… Даже легкомысленные годовалые бычки и телки ощущали тревогу.
Люди в синих и белых халатах, осматривая прибывшее стадо, не били животных палками, не кричали, не пинали их подкованными сапогами. Люди в халатах определяли сортность, среднюю упитанность, процент жира движущегося, еще живого мяса. Двигалось мясо, способное мычать, кричать, смотреть, биться в конвульсиях, хрипеть, но животные, входившие в ворота бойни, не были для людей в белых и синих халатах явлением жизни — шло белковое органическое вещество, жиры, эпидерма, рога, кости.
В грубости погонщика, хлестнувшего по глазам задумавшуюся и отставшую от стада, страдающую одышкой старуху корову, заключалось признание за четвероногими скотами права считаться живыми. Злоба погонщиков вызывалась именно тем, что обреченные на убой скоты все еще, до последних часов и минут, были живыми: упрямились, пугались темных предметов, останавливались помочиться или вдруг испытывали желание торопливо коснуться сухим языком мокрого асфальта.
Бычок мотнул головой, сделал несколько шаловливых прыжков, радуясь утру, и вдруг остановился, охваченный предчувствием, словно вкопанный в землю, опустил лобастую взъерошенную головенку с детскими рожками, которые он наставил против надвигающейся на него судьбы; он негромко замычал, жалуясь, прося успокоения и любви… И старая рыжая корова, с трудом передвигавшая ноги, оглядела его слезящимися глазами, остановилась рядом, положила морду на его теплую крутую шею и лизнула его детскую голову. Эта остановка двух скотов вызвала заминку в движении стада, и погонщик со спокойным бешенством ударил палкой бычка по бархатистому розовому носу, а старуху корову — по сухожилиям грязных задних ног.
По смежной асфальтовой дороге двигались овцы, темно-серые от дорожной пыли, с худыми, измученными мордами. Их движения были дробны, торопливы — движения растерявшихся пожилых женщин, вдруг из полусумрака своих мирных домиков попавших в гремящую гущу житейской битвы. Их жалкие усилия в последние минуты жизни заключались в том, чтобы поплотней сбиться в кучу. Их беспомощность в минуту гибели представлялась необъятной: они не могли обидеть зайца, мышь, цыпленка. Их кроткие, полные библейской печали и евангельской чистоты глаза без упрека и даже без страха глядели на людей; их милые копытца отбивали последнюю дробь. Сбиваясь в плотную живую кучу грязной шерсти, они ощущали, что им нет спасения, нет для них милосердия и немыслима надежда. Они находили в горький час утешение в том, чтобы через огрубевшую, пыльную шерсть почувствовать живое тепло родственного овечьего тела, единственно не враждебного овце в величественном и прекрасном мироздании; они погружали головы в полумрак густой овечьей шерсти, и глаза их переставали видеть на миг весну, солнце, синеву неба, и их сердца получали секундное облегчение в этой тьме, родном запахе и тепле, в горестной артельности обреченных.
А по третьей дороге шли свиньи, одни грязные, другие розовые, отмытые. Их разумные маленькие глаза были наполнены страхом. Их нервы не выдерживали перенапряжения, и крик свиней почти все время стоял в воздухе.
А по дороге, где недавно проходило в ворота скотобойни стадо коров и быков, сейчас медленно двигались, подгоняемые двумя плечистыми женщинами в желтых кожаных пальто, старые, изможденные трудом лошади. Они-то и служили пищей для обитателей зоологического сада. Они двигались медленно, припадая на искалеченные ноги, и при каждом шаге их головы мотались и всплескивались тощие, стариковские гривы и хвосты. В глазах их было много печали: казалось, взглянув в их трудовые стариковские глаза, уж никогда нельзя оставаться спокойным.
Водитель Бунге, молодой парень, отпущенный из армии после трех ранений, подтолкнул Рамма пальцем в бок и сказал:
— А, папаша, поглядываете на свинок, и, наверное, слюнки текут? Какие сосисочки, какие гороховые супчики с грудинкой? Слышите, как они кричат, толкаются? Спешат превратиться в ветчинку. Но ветчинка будет не на нашем столе, поэтому не разевайте на нее рот.
Бунге говорил весело, возбужденно, и чувствовалось, что он немного играет, что чуть-чуть, на маленькую капельку ему неприятен вид этих животных.
Сторож из обезьянника молчал, и Бунге задумчиво проговорил:
— С детства не люблю баранины. Дай мне хоть отборного молодого барашка — никакого интереса. Я был в кавказской группе армий, там только баранов и ели. Ребята даже смеялись надо мной: отощал.
Он поглядел на молчавшего Рамма, не заснул ли он. Нет, смотритель обезьянника не спал, посматривал себе в окошечко да помалкивал. Мало ли что может вспомниться старику!
4
Субботний вечер Рамм обычно проводил в пивной.
О каждом постоянном посетителе пивной у владельца, кельнерш складывается короткая, неглубокая характеристика, что-нибудь вроде: «Тот, кто пьет только мартовское пиво», «Тот, кто каждый день меняет галстук», «Тот, кто не дает на чай», «Тот, кто читает „Das Reich“.»
Посетители имеют прозвища, не очень уж меткие, обычно связанные с противоположным истинному определением: если посетитель толст, то его зовут «Худышка», если он расчетлив и скуп, его зовут «Кутила». Рамм получил прозвище «Болтун».
Но в этот субботний вечер смотритель обезьянника, шевелением поднятого пальца заказывающий кружку пива, стуком никеля извещавший о своем желании расплатиться, неожиданно оправдал свою кличку.
Все заметила смышленая, обладавшая в царстве пивных столиков почти Саваофовым всеведением старшая кельнерша, толстая фрау Анни. Сторож из обезьянника заказал пива, и Анни по его неестественному и размашистому жесту поняла, что он не в себе.
Скосив свой узкий, зеленовато-желтый пивной глаз, Анни увидела, что старик неумело и торопливо выливает в пиво водку из бутылки. Этого не полагалось делать. Но Анни, конечно, ничего не сказала старику. Однако потом уж, проходя мимо его столика, она выразительно вздохнула: видимо, старикан из обезьянника вылил в кружку не полстакана водки, как принято, и не стакан даже — пиво в его кружке стало совершенно светлым, почти как вода.
Анни не изучала калориметрического анализа, но практические основы калориметрии она все же понимала…
Пришли грозные дни. Обыденность жизни была подобна обманной тишине воды, стремительно скользящей к водопаду. Анни не удивлялась, что привычное нарушалось и чопорный посетитель, кичившийся своими галстуками, вдруг приходил в пивную с расстегнутым грязным воротом, а многолетний потребитель мартовского пива неожиданно требовал бутылку шнапса. Случались и более странные дела.
В общем, старик напился. Он уже допивал кружку «динамита», когда к его столику подсел забредший субъект в спортивном костюме.
Анни совершала мимо маленького столика свой очередной рейс и слышала слова этого субъекта — не то насчет удачной охоты, не то насчет неудачной охоты…
Спустя день Анни встретилась с Лахтом, сотрудником районного управления безопасности, уполномоченным по сбору агентурных сведений в пивных, кафе и ресторанах. Это был немолодой человек, несколько тучный, румяный, но болезненный, с высоким лбом мыслителя, с прекрасными внимательными и задумчивыми серыми глазами. Он принимал своих клиентов в одной из комнаток районного полицейского управления, в том подъезде, куда разрешалось входить без пропусков.
Анни поднялась по стертым каменным ступеням. В полутемном коридоре она столкнулась с выходившим из кабинета Лахта старшим кельнером ресторана «Астория». Они подмигнули друг другу. Знакомство их длилось много лет, в молодости они начинали вместе в загородном кафе. Анни, на ходу попудрив нос и подмазав и без того красные губы, вошла в кабинет шефа, ощущая влюбленность и чувство легкой тревоги. Оно обычно сопутствовало ей при посещении Лахта. Это чувство исчезало, как только начинался разговор: очень уж обаятельным и милым собеседником был Лахт. Но когда Анни выходила из его кабинета, к ней возвращалось тянущее чувство тревоги и длилось минуты две-три. Иногда это чувство появлялось ночью, если Анни не могла уснуть от усталости, от гудения в голове, вызванного гудением в пивном зале.
В этот свой приход она рассказала о происшествии со стариком сторожем из зоологического сада. С уполномоченным Лахтом было легко говорить. Он не пил, а мужчины раздражали Анни тем, что, едва увидев ее, они просили принести пива.
Анни чувствовала в присутствии Лахта удивительный подъем, словно сладко сплетничала с закадычной подругой, знающей всю подноготную в жизни Анни.
— Значит, они поругались, — сказал протяжно Лахт с выражением того сдержанного, но глубокого любопытства, которое зажигает в рассказчике энтузиазм.
— Ну еще бы, получился сильный номер!
Анни умела показывать в лицах происшествия в пивной, подражать голосам, воспроизводить смешные жесты. Она гордо протянула руку, откинув голову, нацелив глаза в потолок.
— Проповедь Мартина Лютера?[102] — спросил Лахт.
Анни, входя в роль, не ответила, презрительно сжала губы, немного отвисшие щеки ее припухли, зашевелились.
— Как вы смеете так говорить о хищниках! Вы хищники, а не они! — вдруг хрипло заголосила Анни, и Лахт мгновенно затрясся от смеха.
Талант этой женщины состоял в том, что слушатель ясно видел прежде неведомого ему человека, верил подлинности каждого жеста, слова, каждой интонации. Казалось загадкой, как эта женщина умела изобразить и сутулость худой старческой спины, и сведенные склерозом дрожащие пальцы, и прыгающую от волнения челюсть! Вот-вот — и на ее щеках зрители увидят седую щетину. Но не в щетине и не в спине заключалось главное дело. Суть состояла в том, что человек заглядывал в душу другого человека.
— Разве сытый тигр, лев совершают убийства? Животные должны питаться, кто же их обвинит в этом? А вот тебе приятно поехать в воскресенье на охоту. Тебе плевать на их раздробленные косточки, на их окровавленные лапы, головы. Заяц плачет, кричит, как дитя, а ты стоишь над ним, рыгаешь от сытости, а потом бьешь его головой о камень! — закричала она дрожащим старческим голосом.
Лахт слушал, полузакрыв глаза, и перед ним стоял пьяный, жалкий старик с трясущимися руками, с дергающимся лицом, с безумными глазами. Лахт даже увидел пьяные лица слушателей, услышал смех и злое шиканье: «Тише, тише, не мешайте ему говорить!» Нешуточный талант у этой кельнерши!
— Что? Охота — честное дело? Подделывать запахи любви, голоса любви, травить стрихнином голодных — это все честное дело? Что? Простите, пожалуйста, я плохо слышу, если можно, повторите громче… — При этом Анни прикладывает руку к уху и, идиотски полуоткрыв рот, вслушивается. А через миг она уже вновь, подобно древнему пророку, обличает зло: — Ах, вот как! Вы считаете, что животные также охотятся из удовольствия? Это вы, вы превратили охотничьих собак в изменников, убийц! И все это не для спасения жизни, а для игры, пожрать повкусней. Что? А умерщвление состарившихся собак и кошек! Умирающих, отдавших вам свою любовь, честь, берут в научные институты и там их, прежде чем убить, подвергают пыткам. Вы видели глаза этих умирающих, когда их выволакивают из квартир и они тянутся к хозяину: «Заступись, помоги!»? — Анни в изнеможении произносит: — Не будет вам счастья!
Она откашливается, сморкается, достает из сумочки зеркальце и пудреницу — представление окончено. Но, видимо, велика сила искусства, и Лахт не сразу заговаривает профессиональным языком. Он восхищен, качает головой, разводит руками и не только смеется, но и вздыхает. Ведь что-то щемящее, тревожное все же есть в комической, пьяной проповеди полусумасшедшего старика.
— Прелестная миниатюра, законченная и отточенная. Вы бы могли выступать в варьете.
Лахт — образованный, тонкий человек. Он связан с ресторанами и клубами, где бывает и философствует подвыпившая интеллигенция. Ведь пивная, которую представляет Анни, только потому занимает его, что она находится в районе Тиргартена, недалеко от рейхсканцелярии. Он открыл ящик стола и предложил Анни шоколаду. Как все непьющие, он любил сладкое.
Но дело есть дело. Оказывается, что проповедь сумасшедшего вызвала политические намеки. Посетитель, видимо, сильно пьяный, крикнул:
— В такое время надо жалеть не животных, запертых в клетки! Я тоже хочу свободы! И не я один хочу ее. Может быть, и ты ее хочешь. Но попробуй скажи об этом фюреру! Скотобойни никого сейчас не ужасают, для людей есть штуки получше!
Как обычно в таких случаях, когда пьяный вдруг ляпал антигосударственную гнусь, никто его, конечно, не поддерживал, но и никто не опровергал: это тоже могло кончиться неприятностями, — все сделали вид, что ничего не слышали, удивленно поморгали и с невинными лицами вернулись к своим столикам.
Они долго уточняли приметы этого пьяного. Анни ничего не знала о нем, люди, сидевшие с ним за столом, не были с ним знакомы.
Лахт встал, охваченный внезапным вдохновением:
— Ах, фрау Анни! У национал-социализма есть главный враг, он не слабее, чем танки и пушки, движущиеся с востока и запада, — низменное, неразумное стремление людей к свободе!
Свобода — это первая потаскуха дьявола! Как прекрасна наша задача: мощью нашего кулака и наших идей освободить от яда свободы всесильного и мудрого человека! В отказе от культа свободы — победа нового человека над зверем!
Лахт сел, отдуваясь, посмеиваясь над своей горячностью.
— В общем, ясно: этот старик — сумасшедший, — сказал Лахт, — но, по существу говоря, все, что возгласил этот озверевший старец, является плохо замаскированной проповедью антигосударственных идей. От долгого общения со зверями этот зоологический старик сам стал животным. Старик этот — враг немецкого народа, опаснейший, заклятый враг, хотя фюрер лично опекает имперское общество защиты животных. Анни, прошу вас, не обижайте меня, кушайте и возьмите эту шоколадку для внучки.
Он был внимателен и деловит, как будто война шла не на Одере, как будто не было важней дела в Берлине, чем дело сумасшедшего сторожа. «Новый порядок» породил новых людей, высшую породу немцев.
Как всегда, Анни ушла, унося впечатление тепла. Ведь она была влюблена в Лахта — тайно, конечно. И, как всегда, на улице ее охватило минутное неприятное томление: не исчезнет ли этот сумасшедший из зоологического сада, как исчезали из жизни некоторые люди, о которых она рассказывала своему милому и умному собеседнику? Но к этому неясному томлению сегодня добавилось новое непроходящее беспокойство: на всех лицах тревога, в глазах угрюмое напряжение; по улицам мчатся машины с чемоданами, наспех увязанными узлами.
Кто половчей, бегут из Берлина на запад.
Если все записи милого Лахта, которых так много скопилось за восемь лет их знакомства, попадут в руки тех, кто идет с востока на запад, — хорошего не будет.
И Анни, несмотря на приступ тоски, математически точно пародируя жест, улыбку, интонации шефа, смеясь над самой собой, произнесла:
— Да, уважаемая Анни, это драгоценные миниатюры, вам причитается за них. Сдачи не нужно!
5
Последние дни Фрицци дулся на старого смотрителя. Сердиться на Рамма Фрицци не мог: слишком велика была его любовь к старику. Он ревновал. У Рамма появилась новая симпатия. Это была не многодетная, погрязшая в мелких тревогах мартышка Лерхен, не двоедушная, расчетливая обезьяна капуцин, подлизывающаяся к старику, это не был веселый и общительный, но равнодушный ко всему миру, себялюбивый, курчавый, круглолицый, молодой шимпанзе Улисс. Новой симпатией Рамма оказался человек.
Внешностью он напоминал Рамма. Издали их можно было спутать. Вблизи сходство исчезало. Это был плохо одетый мужчина с впалыми, бледными щеками, с молящими, грустными глазами, с тихим, слегка заикающимся голосом, с округлыми, робкими движениями.
Утром они вместе пришли в обезьянник, и этот человек наблюдал, как Рамм, войдя в клетку к Фрицци, готовил завтрак, расставлял голубые чашки и розовые тарелки.
Рамм не стал менее внимательным к Фрицци. И желудевый кофе с молоком, и салат из капусты и брюквы, и компот из сухих болгарских яблок с вырезанной сердцевиной, и традиционная рюмка кислого мозельского вина на десерт — все было подано им так же заботливо, как всегда. С обычным выражением внимания стоял Рамм подле Фрицци, и горилла, вытирая рот бумажной салфеточкой и протягивая коричневые пальцы за новой тарелкой, быстро, снизу вверх глянул на старика — ценит ли Рамм его воспитанность: он не тянется к десерту, а добросовестно доедает разварной картофель с маслом. Обычно глаза их в такую минуту встречались, и Фрицци до обеда сохранял хорошее настроение, вспоминая ласковый, гордящийся взгляд своего друга. Но сейчас глаза их не сошлись: старика окликнул спутник, стоявший у клетки.
Фрицци помог Рамму сложить в горку грязные тарелки, сам установил их на поднос и проводил смотрителя до двери. Там он, как обычно, поцеловал старика в плечо и щеку. Спутник Рамма рассмеялся, и этот добрый, ласковый смех огорчил Фрицци.
После завтрака горилла прошел из внутреннего помещения в летнюю, выходящую на воздух клетку.
К полудню стало необычайно жарко для этой весенней поры; после обильного ночного дождя воздух наполнился душной влагой. Парк казался в это утро особенно пустым. Фрицци подбросил деревянный мяч, с грохотом покатил его в угол и, подойдя к решетке, ухватившись за нее рукой, рассеянно огляделся.
Как и прежде, как всегда, с безумной тоской бегал по клетке живший на соседней улице худой, сутулый волк. Он пробегал от одного угла клетки до другого, становился на задние лапы, закидывая голову и перебирая в воздухе передними лапами, делал поворот и снова бежал вдоль решетки, подгоняемый неутолимой жаждой свободы. Волк увидел Фрицци, мотнул головой и продолжал бег. Ему нельзя было останавливаться. Ведь должна же кончиться эта решетка, это нищее пространство рабства, и он побежит по свободной, счастливой и нежной, прохладной лесной земле!
Так же, как обычно, два гималайских медведя с фанатическим упорством занимались разрушением клетки. Один, навалившись белой грудью на решетку, теребил толстые прутья, просовывал меж ними свой длинный черный нос; второй узким языком облизывал решетку. Казалось, прут разрыхлится от слюны и поддастся, согнется, и тогда наступит сказочный мир горных лесов и прозрачные кипучие реки поглотят прямоугольное нищее пространство клетки.
Леопард, лежа на боку, пытался своей мягкой лапой расширить расстояние между оцинкованным полом и ободом железной решетки. Когда-то старик — рурский шахтер, глядя на его работу, сказал рядом стоявшей старухе:
— Помню, как меня засыпало в шахте «Кронпринц». Я так же лежал, как этот бедняга, в завале и отдирал пальцами куски породы. Мы ведь тоже хотим свободно дышать.
— Помолчи-ка лучше, — сказала старуха.
Но Фрицци, конечно, не мог знать ни о том, что сказал старый шахтер, ни о том, что ответила ему жена.
Тигрица Лиззи, обычно занятая детьми, в это утро была охвачена тоской. Тяжело, но бесшумно и мягко ступая, она бродила по клетке, маялась, позевывала, поводила хвостом, под ее полосатой шкурой то взбухали, каменея, то вдруг исчезали, растворялись сгустки мышц… Она раздражалась на мяукающих детей, упрашивавших мать прилечь, покормить их. Видимо, в эти минуты ей казались постылыми рожденные в неволе дети.
Бернар, гиена, лежал, обессилев: откинутый хвост, красноватые, в слезах, полуприкрытые глаза Бернара выражали изнеможение и апатию.
Кондоры и орлы издали казались холодными глыбами гранита: так неподвижны были они! Вся сила их духа, выросшего в той холодной высоте, где разреженный воздух уж называется небесным простором, была собрана в глазах. В недвижной светлой пронзительности этих глаз выражалась жестокая мощь, и казалось, эти глаза могут, как алмаз, пробурить любую каменную толщу, резать стекло… Пятьдесят два года сидит в клетке широкоплечий сутулый орел, пятьдесят два года следят его неподвижные, астрономически зоркие глаза за движением облаков, а в последнее время за ходом барражирующих истребителей.[103] Страсть, большую, чем тоска и мука, выражают глаза вечного каторжника. В свободе — богатство жизни, она отличается от нищеты рабского существования, как простор неба отличается от решетчатого куба оцинкованной клетки.
Одряхлевший лев лежит, положив тяжелую курчавую голову на склеротические лапы; его большой, похожий на микропористый старый каблук нос высох и не воспринимает, как выключенный радиоприемник, постылых запахов бензина, чадных выхлопных газов, зловония из подвалов продовольственных и винных магазинов, запаха от неполного сгорания газа в бесчисленных ванных комнатах и кухнях, скучного сернистого дыхания заводских труб Веддинга, прогоркло-маслянистого запаха речных моторных судов и дневного запаха пота и вечернего кисло-алкогольного, которым пахнут люди, живущие в каменных ущельях…
Но вот лев проводит языком по сухому носу, увлажняет его слюной и запускает на прием тончайший, многосложный аппарат. Лев лежит неподвижно, кажется куском желто-серого песчаника, но увлажненный нос его работает, ловит, фильтрует, разделяет огромный сгусток бесполезных, плохих запахов, которыми пахнет столица Третьей империи.
Едва заметно каменное тело льва оживает, шевелится кончик хвоста, и дрожь волнения проходит по песчаной шкуре… И вдруг тихо, плавно поднимаются большие веки, и два огромных, светлых, суровых глаза пристально смотрят на могучую прямоствольную решетку, и вновь, как совершенный, смазанный механизм, опускаются веки, глаза исчезают под ними. Опять окаменел лев, вновь высыхает, выключается микропористый нос и перестает принимать, фильтровать запахи города.
Так повторяется много раз в течение дня, эти почти неуловимые движения выражают горе, надежду, которые будут жить, пока лев дышит, глядит. Ведь каждый раз среди нищих запахов неволи старик различает паутинно-тонкий запах степи — это разгружают сено в кавалерийских казармах, — дыхание речной воды и дикорастущих деревьев. Свобода! Она в огромности освещенной луной африканской степи, в горячем, страстном воздухе пустыни… Лев с надеждой подымает глаза: вдруг исчезла решетка и свободная жизнь поглядит ему в глаза?
Ясность жаркого, душного утра неожиданно сменилась бурным ливнем. Желтые и черные тучи, клубясь, нависли над Берлином. Вихрь пронесся над улицами, белая, кремовая, красная, кирпичная пыль поднялась над сотнями и тысячами разрушенных бомбежкой зданий, песок, мятая бумага, грязная вата, сжеванные сигарные окурки и красные от губной помады окурки сигарет взметнулись вверх, а сверху хлынул огромный, горячий, желтый ливень, и все смешалось в водяном тумане, зашумели по асфальтовым руслам темно-коричневые, густые и плоские реки.
Фрицци сидел в креслице; грохот дождя по оцинкованной жести и листве, влажная духота, туман, желтые рыхлые облака — все это смешалось в дремлющем сознании гориллы и породило сновидение более яркое, чем сегодняшняя реальность…
Это было в лесах тропической Африки, где днем под могучей плотной массой древесины, лиан, листвы стоял мрак, где духота была так ужасна, а воздух так неподвижен, что казалось, здесь спящие молекулы газов, составляя воздух, не подчиняются законам Авогадро и Жерара.[104] В этих лесах горячие ливни почти весь год со страшной силой, способной вызвать всемирный потоп, хлобыстали по черной, трясиноподобной земле. Здесь обезумевшие от влаги, жары, от жирного, сытного перегноя деревья, теряя индивидуальность, переплетаясь ветвями, прижимались друг к другу сочными стволами, стянутые, связанные между собой сотнями тысяч лиан, кишочек и кишок, мышц, артерий, со свинцово-тяжелой жаркой папахой толстокожей листвы, создали лес, подобный единому грандиозному телу.
Живой, дышащий древесно-лиственный сплошняк был так плотен, неподвижен, тяжел, что мог быть сравним только с геологическим напластованием. Лес лишь казался мертвым, в нем шла бешеная жизнь. На потоки горячих ливней лес отвечал взрывом жизни — бившими вверх потоками чудовищно быстро и энергично делящихся клеток. Тяжесть лесного воздуха, равного по плотности горячей воде, была непереносима для человека и большинства зверей, здесь, как в воде, можно было задохнуться без скафандра. В промежутках между ливнями из-под каждого листа выходили, разминая лапки, прочищая свои дуделки, сотни насекомых, а листьев здесь имелось много. Гудение делалось густым, и казалось, гудит не воздух, а сам лес низко и тяжело звучит биллионами своих стволов, лиан, ветвей, листьев. Москиты и комары во тьме леса висели еще более темной, неподвижной тьмой, мешая друг другу двигаться, не умещаясь в кубе воздуха. Их количество было выразимо лишь тем же числом, каким в граммах выражается масса галактики.
Прожив здесь день, молодой человек мог состариться, одряхлеть от страдания. В этих лесах обитали гориллы. И дремлющий в клетке Берлинского зоологического сада горилла увидел себя во сне в горячей тьме леса, увидел мать, старших братьев и сестер, обмахивающихся от комаров ветвями, и слезы счастья выступили на его спящих глазах из-под коричневых век.
6
Во время дождя Рамм и его спутник Краузе укрылись в павильоне, где в летнее время продавалось мороженое. Павильон еще не был открыт, но плетеные кресла и столы уже были привезены со склада.
Старик сторож и Краузе, пережидая дождь, сидели в креслах, курили и разговаривали.
Краузе был переплетным мастером, ему искалечило при трамвайной катастрофе руку, помяло грудь, и теперь он жил на пенсии. Казалось, пустой случай свел их несколько дней назад, когда Рамм совершал вечерний служебный обход. У Рамма было доброе и чистое сердце, но бедный ум его не мог разобраться в вихре жизни. И его ненависть к страшным хозяевам Германии, выдумавшим расу господ, превращала его сочувствие и любовь к людям в презрение.
Именно теперь, в эти минуты, во время дождя, Рамм высказал свою главную мысль; он никому ее раньше не высказывал:
— Наша раса господ живет так, словно мир ничего не стоит по сравнению с ней. Добрые, честные, славные, бессловесные существа стали обездоленными, а раса господ захватила в свои руки все лучшее, что есть в жизни. Если господам мешают или, наоборот, нужны какие-нибудь животные, они умертвляют их целыми народами. Они для них как песок, как кирпичи. Раз они решили ради выгод или забавы истребить какую-нибудь породу животных, то уж они бьют и стариков, и беременных, и новорожденных, они их выкурят из родных нор, уморят голодом, задушат дымом.
Раньше выживали те, у кого хорошая шуба, слой жира, процветали красивые, те, у кого пышная окраска, богаче оперение. Но ныне установлен новый, сверхистребительный закон отбора, более жестокий, чем морозы, муки голода и борьба за любовь; теперь выживают голые, костистые, серые, лишенные шерсти и меха, с вонючим мясом, без красок… Вот это отбор! Он направлен на гибель всего живого. Хорьков надо причислять к лику святых.
Почему убийство животных не считается преступлением? Почему, почему? Высшее существо должно бережно, любя, жалея относиться к низшему, как взрослый к ребенку.
— Каков мой вывод? — задумчиво спросил он, точно проверяя свои мысли. — Если хочешь называться царем вселенной, то надо научиться уважать даже вот этого дождевого червя.
Он указал на бледно-розового червяка, выползшего из раскисшей земли. Краузе, не жалея своего бедного, старенького пиджака, выйдя под дождь, перенес червя на высокую часть цветочной клумбы, под широкие листья канны, где ему не грозили потоки воды.
Вернувшись в павильон, вытирая воду с впалых, бледных щек и сильно притопывая, чтобы с подошв сошла прильнувшая к ним земля, Краузе сказал:
— Вы правы. Надо учиться уважать, чтить жизнь.
До встречи с Краузе Рамму казалось, что всякий человек, узнав его взгляды, назовет его выродком, сумасшедшим. Но вот оказалось не так!
Краузе закурил сигарету и, указывая на клетки в дождевом тумане, сказал:
— Но вот здесь нет надежд, отсюда нет другого выхода, как на свалку.
— Это не совсем верно, — сказал Рамм. — Животных убивают на скотобойнях в течение веков. Об этой обреченности страшно даже думать, настолько привычно все это. И все же они всегда надеются! Даже те, кто перешел на сторону тюремщиков.
Краузе вдруг нагнулся к старику и, взмахнув левым пустым рукавом, сказал:
— Война идет в наш Берлин. Гитлер нас обманул. Люди хотят перемены. Чего уж говорить! Хотя многие люди в последние годы бывали хуже зверей.
Он вздохнул: того, что он сейчас сказал, по военному времени достаточно, чтобы быть казненным топором Моабита. Теперь судьба его была в руках небритого чудаковатого старика, смотрителя обезьянника.
Рамм замотал головой:
— Даже червям нужна свобода! Я все прислушиваюсь по ночам. А потом я хожу в темноте от клетки к клетке и говорю им: «Терпение, терпение…» Ведь только с ними я могу говорить.
Он посмотрел на ручьи, бегущие между клетками, и сказал:
— Настоящий потоп, но, может быть, праведники спасутся. Люди уж очень здесь несчастны, и когда их самих гонят на бойню, то кажется моему сердцу — я хочу верить, — они достойны лучшей участи.
Вечером Краузе, сменив пиджак, зашел в пивную.
Кельнерша не скоро принесла ему кружку, и он, сдувая с пива пену, сказал:
— Долго, долго пришлось сегодня ждать, а у меня, как ни странно, все еще есть дело — разговор об одном праведнике.
Кельнерша посмотрела на Краузе заплаканными и одновременно насмешливыми глазами и, нагнувшись к его уху, произнесла:
— Твой праведник никому не нужен: шеф застрелился. Их дело пришло к концу.
7
В теплую и темную весеннюю ночь завязался бой в центре Берлина.
Могучие силы, шедшие с востока, охватили кольцом злое сердце гитлеровской столицы.
Подвижные части, танки, самоходная артиллерия прорвались в район Тиргартена.
Во мраке вспыхивали выстрелы, проносились трассирующие очереди, воздух наполнился запахами битвы, не только теми, что различает обоняние человека, — окислов азота, горящего дерева, дыма и гари, — но и теми едва различимыми, что доступны лишь чутью зверя. И эти запахи среди ночи волновали животных больше, чем выстрелы, больше, чем пламя пожаров.
Влажный океанский ветер, жар песчаной пустыни, прохлада душистых пастбищ в отрогах Гималаев, душное дыхание леса, запах весны — все смешалось, комом покатилось, закружило от клетки к клетке.
Медведи, встав на задние лапы, потрясали железные прутья, всматривались в темно-красную мглу.
Волк то прижимался брюхом к оцинкованному полу клетки, то вскакивал на лапы. Вот-вот опустятся гибкие нежные ветви лещины над его сутулой спиной, стук его когтей утонет в мягком, нежном мхе, дохнет лесная прохлада в его измученные глаза. На боку шерсть его стерлась от многолетнего бега вдоль шершавой решетки, и холодное, ночное железо прикасалось к коже; касание железа говорило о рабстве, и тогда, забывая вечно живущую в его крови осторожность, волк, охваченный опасением, что свобода пройдет мимо и не заметит его, вскидывал голову и выл, звал ее к себе.
Зарево берлинского пожара отразилось на металлическом полу клетки, отполированном когтями Феникса… Казалось, дымная луна всходит среди темных камней, над огромной, еще дышащей дневным жаром пустыней.
Фрицци ушел, как обычно, на ночь во внутреннее помещение обезьянника и не увидел огней битвы. В эту ночь он очутился совершенно один в темноте, отделенный от мира толстыми стенами.
В середине ночи район зоологического сада был очищен от немецких войск и эсэсовских отрядов. На некоторое время грохот битвы затих.
Советские танки и пехота стали накапливаться у стен зоологического сада для нового, быть может, последнего, удара. Немцы поспешно подтягивали артиллерию, чтобы помешать сосредоточению танков.
Разбуженный грохотом Фрицци стоял, ухватившись своими широко раскинутыми руками за решетку, и казалось, то распластаны огромные, трехметрового размаха, черные крылья. Его глаза часто моргали, он невнятно бормотал, вслушиваясь в затихавшие звуки боя, коротко, шумно втягивал в ноздри воздух.
Мрак в бетонных стенах, казалось, расширился и переходил в мягкий, покойный сумрак леса.
Вечером, когда Фрицци перешел из наружного помещения в свою спальню, Рамм укрыл ему одеялом плечи и сел возле него на стульчике: Фрицци не мог уснуть, если оставался один. Как всегда, Рамм гладил Фрицци по голове, пока тот не задремал. Но в этот вечер в глазах Рамма не было всегдашней грусти. Фрицци не понимал человеческую речь, но его волновало звучание торопливых негромких слов, которые произносил старик, укладывая его спать.
Он не умел не верить старику и теперь, проснувшись, стоя во мраке, тревожился, почему в эту ночь старого друга нет рядом.
Вдруг раздались тяжелые удары, от них вздрагивала земля и воздух звенел. То начался ураганный артиллерийский огонь по советским танкам, скопившимся в районе Тиргартена.
Широко распахнулись двери обезьянника, сорванные разрывом снаряда; кинжальный свет ослепил Фрицци.
Казалось, через мгновение, когда он откроет глаза, уже не будет ни бетонированных скучных стен, ни решетки, ни любимых игрушек, ни кровати с полосатым матрацем, ни одеяла, ни чашечки с молоком, которую Рамм ставил ему перед сном на маленький столик возле кровати. Пришло время вернуться в родные леса у озера Киву.
Утром представитель комендатуры, офицер интендантской службы, сутулый, очкастый человек с утомленным, озабоченным лицом, обходил дорожки зоологического сада.
У клеток, в которых жались оглушенные ночным боем животные, стояли красноармейцы, окликали их, просовывали сквозь решетку хлеб, сахар, печенье, колбасу.
Зайдя в обезьянник, представитель комендатуры увидел старика смотрителя в форменной фуражке, сидевшего возле трупа огромной черной обезьяны с грудью, развороченной осколком снаряда.
Представитель комендатуры на ломаном немецком языке сказал, что старик — единственный не покинувший своего поста — временно назначается директором зоологического сада, что плотоядных животных следует пока что кормить кониной: кругом много убитых лошадей, — а через несколько дней начнут работать городские скотобойни.
Старик понял, поблагодарил и вдруг заплакал, показывая на труп обезьяны.
Представитель комендатуры сочувственно развел руками, похлопал старика по плечу, вышел из обезьянника, пошел по боковой дорожке.
На скамейке под начавшей зеленеть липой сидели двое немцев — раненый в госпитальном халате с апельсиновыми отворотами и девушка в белой наколке с красным крестом. На земле и в небе было тихо. Голова раненого была повязана грязными бинтами, рука лежала в гипсовой люльке. Солдат и девушка, как зачарованные, молча смотрели друг на друга, и представитель комендатуры, оглядев их лица, подмигнул шедшему рядом с ним патрулю.
1952–1953
ВАЛЕНТИН ОВЕЧКИН
БОРЗОВ И МАРТЫНОВ[105]
1
Дождь лил третий день подряд. За три дня раза два всего проглядывало солнце на несколько часов, не успевало просушить даже крыши, не только поля, местами, в низинах, залитые водой, словно луга ранней весной, в паводок.
В кабинете второго секретаря райкома сидел председатель передового, самого богатого в районе колхоза «Власть Советов» Демьян Васильевич Опёнкин, тучный, с большим животом, усатый, седой, коротко остриженный, в мокром парусиновом плаще. Он приехал верхом. Его конь, рослый, рыжей масти жеребец-племенник, стоял нерасседланный во дворе райкома под навесом, беспокойно мотал головой, силясь оборвать повод, ржал. Опёнкин, с трудом ворочая толстой шеей, время от времени поглядывал через плечо в окно на жеребца.
Секретарь райкома Петр Илларионович Мартынов ходил взад-вперед вдоль кабинета, неслышно ступая сапогами по мягким ковровым дорожкам.
— Больше с тебя хлеба не возьмем, — говорил Мартынов. — Ты рассчитался. Я не за этим тебя позвал, Демьян Васильевич. Ты — самый старый председатель, опытный хозяин. Посоветуй, что можно делать в такую погоду на поле? Три тысячи гектаров еще не скошено. На что можно нажимать всерьез? Так, чтоб люди в колхозах не смеялись над нашими телефонограммами?.. Я вчера в «Заветах Ильича» увидел у председателя на столе собственную телефонограмму, и, признаться, стыдно стало. Обязываем пустить все машины в ход, а сам пришел к ним пешком, «газик» застрял в поле, пришлось волов просить, чтоб дотянуть до села.
— Куда там! Растворило!..
— Косами, серпами не возьмем по такой погоде? А?..
— Я, Илларионыч, не имею опыта, как по грязи хлеб убирать, — усмехнулся Опёнкин. — Наш колхоз всегда засухо с уборкой управляется… Жать-то можно серпами, а дальше что? Свалишь хлеб в болото. Если затянется такая погода — погниет. Порвет, дьявол, уздечку! — Опёнкин грузно повернулся к окну на заскрипевшем стуле, распахнул створки. — Стоять, Кальян! Вот я тебе! — Увидел проходившего по двору райкомовского конюха. — Никитыч! Есть у тебя оброть? Накинь на него оброть, пожалуйста, а уздечку сними.
Мартынов подошел к окну:
— Где купили такого красавца?
— В Сальских степях. Дончак. Крепкая лошадь. Лучшая верховая порода.
— Застоялся. Проезжать надо его почаще.
— Вот — проезжаю. Вчера в совхоз «Челюскин» на нем ездил. Во мне сто десять кило. Нагрузочка подходящая.
— А чего ты так безобразно толстеешь? — похлопал Мартынов по животу Опёнкина. — На кулака стал уже похож.
— Сам не знаю, Илларионыч, с чего меня прет, — развел руками Опёнкин. — Не от спокойной жизни. После укрупнения и вовсе замотался. Три тысячи гектаров, семь бригад. Чем больше волнуюсь, тем больше толстею.
— Покушать любишь?
— Да на аппетит не обижаюсь…
Ветер задувал в окно брызги, дождь мочил журналы, лежавшие на подоконнике. Опёнкин закрыл окно. Мартынов отошел, присел на край стола.
— А не получится опять по-прошлогоднему? — Опёнкин вскинул на Мартынова глаза, черные, умные, немного усталые.
— Как по-прошлогоднему?
— Соседи наши на семидесяти процентах пошабашат, а нам опять дадите дополнительный?
— По хлебопоставкам? Нет, насчет этого сейчас строго… Может быть, только заимообразно попросим. У тебя много хлеба осталось, а у других нет сейчас намолоченного. Вывезешь за них, потом отдадут.
— Вот, вот! — Опёнкин заерзал на тяжело скрипевшем под ним стуле. — Я ж говорю, что-нибудь да придумаете. Не в лоб, так по лбу! Нам уж за эти годы после войны столько задолжали другие колхозы! Нет на меня хорошего ревизора! Судить меня давно пора за дебиторскую задолженность!.. Тысячу центнеров должны нам соседи милые. И хлебопоставки за них выполняли, и на семена им давали. И не куют, не мелют! Станешь спрашивать председателей: «Когда ж вы, братцы, совесть поимеете, отдадите?» — смеются: «При коммунизме, говорят, сочтемся». А по-моему, — встал, рассердившись, Опёнкин и, тяжело сопя, стуча полами мокрого, задубевшего плаща по спинкам стульев, заходил по кабинету, — по-моему, коммунизма не будет до тех пор, пока это иждивенчество проклятое не ликвидируем! Чтоб все строили коммунизм! А не так: одни строят, трудятся, а другие хотят на чужом горбу в царство небесное въехать!..
— Погоди, не волнуйся, Демьян Васильич, — сказал Мартынов. — Может, обойдемся и без займов.
— Какие займы! Говорите прямо — пожертвования. Никто и в этом году не отдаст нам из старых долгов ни грамма. Придут к вам, расплачутся, и вы же сами нам скажете: «Повремените, не взыскивайте. У них мало хлеба осталось. Надо же и там чего-нибудь выдать по трудодням, засыпать семена».
Остановился против Мартынова — высокий, грузный, на толстых, широко расставленных ногах.
— Ты не подумай, Петр Илларионыч, что я жадничаю. Почему не помочь колхозу, ежели несчастье постигло людей — град, скажем, либо наводнение? Пойдем навстречу, с открытой душой. Но ежели только и несчастья у них, что бригадиры с председателем во главе любят на зорьке понежиться на мягких пуховиках, — тут займами не поможешь!.. Не о своем колхозе беспокоюсь. Мы не обедняем. Еще тысячу центнеров раздадим — не обедняем. Но это же не выход из положения! Вы же никогда так не поправите дело в отстающих колхозах — подачками да поблажками!..
— Я тоже не сторонник таких методов подтягивания отстающих, — ответил Мартынов, глядя Опёнкину прямо в глаза, умные, много перевидавшие за десять лет его работы председателем колхоза. — Так мы действительно не наведем порядка в колхозах и район не поднимем… Дополнительного плана тебе не будет. Ни под каким соусом.
Опёнкин недоверчиво покачал головой:
— Это пока ты правишь тут за первого. А приедет Виктор Семеныч? Скажет: «Ну-ка, потрясти еще Демьяна Богатого!»
— Попробуем и Виктора Семеныча убедить. Это самый легкий способ: потрясти тебя, других, выполнивших досрочно план.
— Когда у него отпуск кончается?
— Если не продлят ему лечение — в субботу приедет.
— Вот с дороги отдохнет, может, часика два и начнет шуровать!
Мартынов не ответил, отошел к окну, перевел разговор на другую тему.
— Все же плохо организовано у нас хозяйство в колхозах. Пошли дожди не вовремя, и мы садимся в калошу. А если такая погодка продлится еще недели две?.. Надо вдесятеро больше строить зерносушилок, крытых токов.
— У крестьян раньше были такие сараи — риги назывались, — сказал Опёнкин.
— Не сараи — навесы хотя бы, соломенные крыши на столбах.
— Ежели без стен — еще лучше, — согласился Опёнкин. — Продувает ветерком, быстрее просушивает… Посевные площади не те, Илларионыч. Раньше у хозяина было всего десятин пять посева. А ну-ка, настрой этих риг на три-четыре тысячи гектаров!
— Вот и я говорю, — продолжал Мартынов, — совершенно в других размерах надо все это планировать! Даем колхозу задание: построить три зерносушилки. А надо — двадцать, тридцать!.. То засуха нас бьет, то дожди срывают уборку, губят уже готовый урожай. Когда же это кончится?.. Тебя, Демьян Васильич, я вижу, это не очень волнует. Ты думаешь небось: «Мне хватило двух недель сухой погоды для уборки». Ну, знаешь, и ты не очень хорохорься. А если бы дожди пошли с первого дня уборки? Тоже кричал бы караул! Пусть это раз в десять лет случается, но и к такому году мы должны быть готовы.
Опёнкин слушал Мартынова спокойно, с улыбкой:
— Готовимся и к такому году. Из нашего колхоза десять человек третий месяц уже работают на лесозаготовках в Кировской области. Пятнадцать вагонов леса получили оттуда. Еще раза три по столько же отгрузят. Хватит там и на электростанцию, и на клуб, и на крытые тока, и на сушилки.
— У вас-то хватит!..
— Я тебе объясню, Илларионыч, — сказал, помолчав, Опёнкин, — почему в нашем колхозе работа спорится, люди дружно за все берутся. Потому что колхоз богатый, есть чего получать по трудодням и хлебом и деньгами. У нас самое тяжкое наказание для человека, когда отстраняем его решением правления от работы дня на три.
Мартынов засмеялся:
— Объяснил! А колхоз богатый потому, что люди дружно работают.
— Да, — улыбнулся Опёнкин, — так уж оно, как пойдет колесом… А пережили и мы немало трудностей… Приехал ко мне как-то в военное время Михей Кудряшов, председатель «Волны революции», не помню уж по каким делам. Повел я его обедать к себе домой. А у меня — черный хлеб на столе. «Как тебе, говорит, не стыдно? Председатель, не умеешь жить! Не можешь для себя хотя бы организовать?» А чего — стыдно? Время было тяжелое, война. Сдали сверх плана в фонд Красной Армии полторы тысячи центнеров. Сами сдали, добровольно. Решили — переживем. Картошки в хлеб подмешаем, того, сего — выдюжим! Прошлым летом заехал я к ним в «Волну». Какой был лично у Кудряшова хлеб — не знаю, а у колхозников у всех — черный. И семян просят занять им. А у нас уж который год все белый хлеб едят, как и до войны. «Как тебе, говорю, теперь не стыдно? Кабы себя от людей не отделял да черный хлеб ел тогда, может, злее был бы, пуще стремился бы скорее одолеть трудности!» Колхоз — не для нас только, председателей, так я понимаю, не для нашей роскошной жизни. Когда всем хорошо, то и нам хорошо…
…Долго еще думал Мартынов после ухода Опёнкина об этом человеке. Если бы все были такие председатели колхозов в районе! Вот у него пошло колесом — колхоз богатый, потому и люди хорошо работают. А в некоторых колхозах тоже идет «колесом», только наоборот: на трудодень — крохи, потому что был плохой урожай, плохо работали колхозники, а плохо работали потому, что и в прошлом году получили мало хлеба по трудодням. Тут уж получается не колесо, а заколдованный круг. Но этот круг надо разорвать во что бы то ни стало! Кто может его разорвать? Вот такие люди, которым народное дорого, как свое кровное… Мартынов был зимою в колхозе «Власть Советов» на отчетно-выборном собрании. Когда выдвинули вновь кандидатуру Опёнкина в председатели, один колхозник, выступая, назвал его: «Душевный коммунист».
Ветер сыпал в окна крупными каплями дождя, будто щебнем. Мартынов принял за день много людей — всех заведующих отделами райкома, каждого со своими вопросами, районного агронома, заведующего сельхозотделом райисполкома. Оказалось, что по случаю ненастной погоды весь партийный актив был дома.
— Что-то неладное получается у нас, товарищи, — сказал Мартынов. — Такое тяжелое положение с уборкой, а мы отсиживаемся дома. Вот сейчас-то нужно быть всем в колхозах!
— А что же можно там сейчас делать? — спрашивали его.
— Спасать хотя бы то зерно, что намолочено. В кучах лежит, под дождем. Строить сушилки, крытые тока, перетаскивать туда зерно, лопатить. Машины не идут — волами возить просушенный хлеб на элеватор.
У него уже созрело решение — на что, в случае затяжки ненастья, можно и нужно сейчас поднять в районе все живое и мертвое. Он велел помощнику созвать членов бюро в девять вечера на небольшое заседание по одному этому вопросу.
В конце дня, когда Мартынов собирался уже сходить домой пообедать, в кабинет вошла Марья Сергеевна Борзова, жена первого секретаря, молодая, чуть располневшая женщина, миловидная, с широким добродушным лицом, усыпанным мелкими веснушками, с живыми, веселыми карими глазами, — директор районной конторы «Сортсемовощ».
На днях в одном колхозе Мартынову сказали, что у них третий год подряд не вызревают арбузы, убирают их осенью зелеными и скармливают свиньям. Он спросил — что за сорт? Оказалось, семена присланы с Кубани. Мартынов почувствовал завязку большого вопроса для постановки перед обкомом и Министерством сельского хозяйства и попросил Борзову составить ведомость, откуда получает их контора семена овощей, и зайти с этой ведомостью к нему.
— Вот, сделала, Петр Илларионыч, — сказала Борзова, кладя перед ним на стол исписанный лист бумаги. — Выбрала из накладных. Верно, что-то не по-мичурински получается. Есть у нас местные семена хороших сортов, их областная контора куда-то отсылает, а нам дают другие сорта. Арбузы, дыни — с Кубани, из Крыма. И помидоры — с Кубани.
— Там лето месяца на полтора длиннее, вот они привыкли к такому лету и растут себе не спеша, — сказал Мартынов.
Пока он просматривал ведомость, Марья Сергеевна, скинув мокрую дождевую накидку, села в кресло у стола.
— Мой-то, товарищ Борзов, сегодня приезжает, — сказала она.
— Как — сегодня? — поднял голову Мартынов. — У него еще отпуск не кончился.
— Должно быть, не высидел. Я ему отсюда посылала авиапочтой областную газету со сводками, по его приказанию.
— Если сегодня, ему пора уже быть. — Мартынов взглянул на настольные часы. — Поезд прошел.
— Вот и я думаю — каким же он приедет? Может, ночью, в час? Так то уж другое число. Он телеграфировал: «Буду двадцать третьего, целую».
— Погоди, тут мне какие-то телеграммы принесли, я еще не смотрел. — Мартынов порылся в бумажках на столе. — Да, вот есть от него: «Приеду двадцать третьего». Только без «целую».
Марья Сергеевна вздохнула:
— Опять пойдут у вас всенощные заседания? Будете ругаться с ним на каждом бюро до утра?
— Не знаю, — ответил Мартынов, — как он теперь, после ессентукских вод. Может, язва не так будет его мучить.
— А мы с ним поженились, когда у него язвы еще не было. Я-то его давно знаю. Это у него не от болезни. У обоих у вас — характеры! Коса на камень… Развели бы вас по разным районам, что ли!
— От третьего человека слышу: просись в другой район, — сказал Мартынов. — Выживаете меня?
— А я не сказала: просись в другой район. Я говорю — нужно вас развести. Либо ему здесь оставаться, либо тебе… Ну, скажи мне, Петр Илларионыч, чего вы с ним не поделили?
Мартынов усмехнулся:
— Почему меня спрашиваешь? Тебе ближе его спросить.
— Он по-своему объясняет.
— Как? Небось: был Мартынов газетчиком, борзописцем, так бы и продолжал бумагу портить. А в партийной работе он ни черта не понимает. Да?
— И так говорил…
Зазвонил телефон, Мартынов снял трубку, долго разговаривал по телефону. Потом ему доложили, что из колхозов приехали пять человек за получением партбилетов, ждут приема. Борзова поднялась…
— Ладно, Марья Сергеевна, как-нибудь поговорим. Эту ведомость я оставлю у себя, а ты мне еще пришли сводку об урожаях местных сортов и привозных.
— Хорошо, пришлю… Пойду домой, похлопочу насчет обеда. Может, он все же приедет сегодня. Поезд, может, опоздал.
Выдав молодым коммунистам партийные билеты, поздравив их с вступлением в партию и поговорив с ними о делах в колхозах, Мартынов замкнул на ключ ящики стола, оделся, но успел выйти только в коридор — прошумела отъехавшая от райкома машина, на крыльцо взошел по ступенькам уверенной, хозяйской походкой Борзов, среднего роста, коренастый, с нездоровым, желтоватым лицом, в длинном, почти до пят, кожаном пальто.
— А вот и сам наконец, — сказал Мартынов, остановившись в коридоре. — Мы уж не ждали тебя с дневным. Здравствуй!
— Привет трудящимся! — подал руку Борзов.
— Трудимся. А ты что ж это Конституцию нарушаешь? Не используешь полностью права на отдых?
— Отдохнешь! — Борзов снял шляпу, отряхнул, расстегнул мокрое пальто.
— Зайдем в кабинет?
— Зайдем на минутку. Я еще дома не был… Отдохнешь! — Сняв у вешалки калоши и пальто, Борзов прошел к столу, но сел не в кресло секретаря, а сбоку на стул. — Дураки в это время ездят лечиться! Только и слышишь по радио: уборка, хлебопоставки, сев озимых. Область нашу «Правда» трижды помянула уже в передовицах как отставшую.
Мартынов тоже не сел в кресло, стал у окна. Он был выше коренастого, бритоголового Борзова, — загорелый, синеглазый брюнет с давно не стриженной, вьющейся кольцами на шее густой шевелюрой, с поджарой, немного сутулой, несолидной фигурой. Разница в возрасте у них была лет в семь. Мартынову — лет тридцать пять, Борзову — за сорок.
— Сам виноват, — сказал Мартынов. — Съездил бы весною, когда сев кончали. Я тебе говорил: вот сейчас проси путевку и поезжай подлечись.
— Сев кончали — прополка начиналась. Разве из нашей беспрерывки когда-нибудь вырвешься? А зимою тоже неинтересно ездить на курорты… Ну ладно, давай рассказывай, как дела?
— Когда же ты приехал? Поезд в тринадцать сорок прошел.
— Я с вокзала заезжал на элеватор. Не звонил насчет машины, подвернулся «газик» директора МТС. Проверил на элеваторе, как хлеб возят… Плохо возят, Петр Илларионыч!
— Да, можно бы лучше… До этих дождей выдерживали график.
— Как же вы могли выдерживать график, если три колхоза у вас уже с неделю не участвуют в хлебопоставках: «Власть Советов», «Красный Октябрь» и «Заря»?
— Другие колхозы вывозили больше дневного задания. А «Власть Советов», «Октябрь» и «Заря» рассчитались.
— Как — рассчитались?
— Так, полностью. И по натуроплате — за все работы.
Борзов с сожалением посмотрел на Мартынова:
— Так и председателям говоришь: «Вы рассчитались»? Эх, Петр Илларионыч! Учить тебя да учить! Где сводка в разрезе колхозов?
Пересел на секретарское место, энергичным жестом отодвинул от себя все лишнее — лампу, пепельницу, стакан с недопитым чаем. Под толстым стеклом лежал большой разграфленный лист бумаги, испещренный цифрами: посевная площадь колхозов, поголовье животноводства, планы поставок. Мартынов невольно улыбнулся, вспомнив слова Опёнкина: «Два часа отдохнет и начнет шуровать».
— Да, вижу, правильно я сделал, что приехал. — Взял чистый лист бумаги, карандаш, провел пальцем по стеклу. — «Власть Советов». Сколько у них было? Так… Госпоставки и натуроплата… Так. Это — по седьмой группе. Комиссия отнесла их к седьмой группе по урожайности. А если дать им девятую группу?..
— Самую высшую?
— Да, самую высшую. Что получится? Подсчитаем… По девятой группе с Демьяна Богатого — еще тысячи полторы центнеров. Да с «Зари» — центнеров восемьсот. Да с «Октября» столько же. Вот! Мальчик! Не знаешь, как взять с них хлеб?
Мартынов с непогасшей еще улыбкой на лице подошел к столу.
— Я не мальчик, Виктор Семеныч. Эти штуки мне знакомы. Но пора бы с этим кончать, право! На каком основании ты предлагаешь пересчитать им натуроплату по высшей группе?
— На том основании, что стране нужен хлеб!
Мартынов закурил, помолчал, стараясь взять себя в руки, не горячиться.
— Во «Власти Советов» урожай, конечно, выше, чем у других колхозов. Но все же на девятую группу они далеко не вытянули. И убрали они хорошо, чисто, никаких потерь. А что на двух полях у них озимую пшеницу прихватило градом — то не их вина. Почему же теперь им — девятую группу, да еще задним числом? Что Опёнкин колхозникам скажет?
— Пусть что хочет говорит. Нам нужен хлеб. Чего ты болеешь за него? Старый зубр! Вывернется!
— Знаю, что убедит он колхозников, повезут они хлеб. Но объяснение остается одно: берем с них хлеб за те колхозы, где бесхозяйственность и разгильдяйство.
Вошел председатель райисполкома Иван Фомич Руденко — в одной гимнастерке, без фуражки — перебежал через двор. Райсовет помещался рядом, в соседнем доме.
— Здорово, Виктор Семенович! С приездом! Гляжу в окно — знакомая фигура поднимается по ступенькам. Не догулял?
— Привет, Фомич. Не догулял.
Руденко посмотрел на хмурое, рассерженное лицо Борзова, на нервно покусывающего мундштук папиросы Мартынова.
— С места в карьер, что ли, заспорили? Может, помешал?
— Нет. — Борзов вышел из-за стола, не глядя на Руденко, подвинул ему стул. — Садись. Ну, продолжай, Мартынов.
— А что мне продолжать. — Мартынов затушил окурок в пепельнице и встал. — Как член бюро, голосую против. — Обратился к Руденко: — Предлагает дать девятую группу Опёнкину и другим, кто выполнил.
— Ну-ну… — неопределенно протянул Руденко. — Это надо подумать…
— Чтоб и в тех колхозах, где люди честно трудились и где работали через пень-колоду, на трудодни хлеба осталось поровну!.. Я тоже знаю, Виктор Семеныч, что стране нужен хлеб, — продолжал Мартынов. — И план районный мы обязаны выполнить. Но можно по-разному выполнить. Можно так выполнить, что хоть и туго будет потом кое-где с хлебом, но люди поймут, согласятся: да, это и есть советская справедливость. У наших агитаторов будет почва под ногами, когда они станут с народом говорить: «Что заработали, то и получайте». И пусть рядом, во «Власти Советов», люди втрое больше хлеба получат! И нужно строить на этом политику! А можно так выполнить, что… — Мартынов махнул рукой, заходил по кабинету.
— Да, Виктор Семеныч, как бы не зарезать ту курочку, что несет золотые яички, — сказал Руденко.
Борзов сел опять за стол.
— Хорошо. Подсчитаем, что мы можем вывезти из других колхозов, не трогая этих. — Провел пальцем по первой графе с наименованиями колхозов. — Какой возьмем? Ну, вот «Рассвет». Сколько у них есть на сегодняшний день намолоченного зерна?
— Нет ничего, — ответил Мартынов. — Они до дождей хорошо возили, все подбирали, что за день намолачивали. Скошенный хлеб у них в скирдах. И не скошено еще процентов десять.
— Их МТС подвела, — добавил Руденко. — Дали им молодых комбайнеров, курсантов. Новые машины, а больше стояли, чем работали.
— Так. Значит, в «Рассвете» нет сейчас зерна. А хлебопоставки у них…
— На шестьдесят два процента, — подсказал Руденко.
— В «Красном пахаре» как?
— Такое же положение.
— «Наш путь»?
— Там хуже дело, — подошел к столу Мартынов. — Не скошено процентов тридцать, и скошенный хлеб не заскирдован… У них же нет председателя, — помолчав, добавил он. — В самый отстающий колхоз послали самого ненадежного человека. В наказание, что ли? За то, что завалил работу в промкомбинате?..
— Так… «Вторая пятилетка»?
— Там есть много зерна намолоченного, — сказал Руденко. — Но лежит в поле, в кучах. Надо сушить.
— Так какого же вы черта толкуете мне тут про справедливость, политику? — Борзов стукнул ребром ладони по столу. — Где хлеб? Такой хлеб, чтоб сейчас, в эту минуту, можно было грузить на машины и везти на элеватор?
— В эту минуту, положим, машиной не повезешь. — Мартынов кивнул на окно, за которым лило, как из ведра.
— Перестанет дождь — за день просохнет. А хлеб где? Те — выполнили, умыли руки, на районную сводку им наплевать. У тех нет намолоченного. Обком, думаете, согласится ждать, пока мы здесь эту самую справедливость будем наводить? Что мы реально сможем поднять в этой пятидневке? Что покажем в очередной сводке? По-ли-ти-ка!..
— А если без политики выполнять поставки, так и секретари райкомов не нужны. Каким-нибудь агентам можно поручить, — ответил Мартынов.
— Я вижу, — сказал Борзов, — что главная помеха хлебопоставкам в районе на сегодняшний день — это ты, товарищ Мартынов. Сам демобилизовался и других расхолаживаешь. «Выполнили!» Разлагаешь партийную организацию.
— Ну, это уж ты слишком, Виктор Семеныч! — задвигался на стуле, хмурясь, Руденко.
Мартынов сел, потеребил рукой волосы, откинулся на спинку стула, пристально глядя на Борзова. Загорелое лицо его побледнело. Но сказать он ничего не успел. Борзов позвонил, в кабинет вошел помощник секретаря, белобрысый молодой паренек, Саша Трубицын.
— Приехали, Виктор Семеныч?!
— Да, приехал. Здравствуй. Садись, пиши… «Всем директорам МТС, председателям колхозов, секретарям колхозных первичных партийных организаций… Безобразное отставание района в уборке и выполнении плана хлебопоставок объясняется исключительно вашей преступной беспечностью и полным забвением интересов государства…» Написал? «Предлагается под вашу личную ответственность немедленно, с получением настоящей телефонограммы, включить в работу все комбайны и простейшие орудия…» Написал? «Обеспечить круглосуточную работу молотилок… Безусловно обеспечить выполнение дневных заданий по хлебовывозу, с наверстанием в ближайшие два-три дня задолженности за прошлую пятидневку… Загрузить на хлебовывозе весь наличный авто- и гужтранспорт… В случае невыполнения будете привлечены к суровой партийной и государственной ответственности…» Подпись — Борзов. — Покосился на Руденко. — И Руденко.
Руденко махнул рукой:
— Валяй!
— Один экземпляр этой телефонограммы, Трубицын, сбереги, — сказал Мартынов. — Может, когда-нибудь издадут полное собрание наших сочинений.
Саша Трубицын остановился на пороге, удивленно-вопрошающе поглядел на Мартынова.
— Иди печатай, — сказал Борзов. — Передать так, чтоб через час была во всех колхозах!
Трубицын вышел.
— Для очищения совести посылаешь эту «молнию»? — спросил Мартынов. — Все же что-то делали, бумажки писали, стандартные телефонограммы рассылали.
— Напиши ты чего-нибудь пооригинальнее. Тебе и карты в руки, литератору, — с деланным спокойствием ответил Борзов и повернулся к Руденко, хотел заговорить с ним, спросил его о чем-то, но тот не ответил на вопрос, кивнул на Мартынова:
— Нет, ты послушай, Виктор Семеныч, что он предлагает.
— А что он предлагает?
— Вот что предлагаю. — Мартынов придвинулся со стулом к Борзову. — Жерди, хворост в лесу рубить по дождю можно? Можно. Навесы крыть соломой можно? Неприятно, конечно, вода за шиворот потечет, но можно. На фронте переправы под дождем и под огнем строили. Машину не уговоришь по грязи работать — человека можно уговорить. Вот на что нужно сейчас нажать!
— Одно другому не мешает, — ответил Борзов.
— Нет, мешает! Забьем председателю колхоза голову всякой чепухой — он и дельный совет мимо ушей пустит. «Включить в работу все комбайны». Это же болтовня — такие телефонограммы! — взорвался наконец Мартынов. — Тогда уж вали все: и озимку предлагаем сеять, невзирая на дождь, и зябь пахать.
— А мы из обкома не получаем таких телеграмм? Нам иной раз не звонят: «Почему не сеете?» А у нас на полях еще снег по колено.
— Область большая. Там — снег, там — тепло, там — дожди, там — засуха. А у нас же все на глазах!.. Знаешь, Виктор Семеныч, чего никак не терпят хлеборобы в наших директивах? Глупостей. Они-то ведь знают не хуже нас, на чем булки растут.
Борзов долго молчал. Больших усилий стоило ему придать голосу некоторую теплоту, когда он наконец заговорил:
— От души советую тебе, Петр Илларионыч: поезжай ты в обком, нажалуйся на меня, чего хочешь наговори, но скажи, что мы вместе работать не можем. Пусть тебя переведут в другой район. Я со своей стороны буду рекомендовать, чтоб тебя послали первым секретарем. Да в обкоме у нас обычно так и делают. Если где-то второй не ладит с первым, хочет сам играть первую скрипку и парень будто энергичный — посылают его первым секретарем в другой район, испытывают: ну-ка, покажи, брат, как ты сможешь самостоятельно работать?.. Поезжай, поговори. Когда хочешь, хоть сегодня. Дадут тебе район, может, по соседству с нами. Будем соревноваться. Руководи! Ты с этой самой крестьянской справедливостью, а я — по-пролетарски.
— Тьфу! — не выдержал Руденко. — До чего вы тут договоритесь? По-пролетарски, по-крестьянски! Таких и выражений нет. По-большевистски надо руководить!
— И в другой район я не хочу, — ответил Мартынов, — я уж здесь узнал колхозы, людей и на первую скрипку не претендую. Плохо ты понял меня, Виктор Семеныч. Мне и в должности второго секретаря работы хватает. Но я не Молчалин, чтоб мне «не сметь свои суждения иметь».
Пошел к вешалке, надел пальто.
— Пойдем пообедаем. В здоровом теле — здоровый дух. Марья Сергеевна заходила сюда, ждет тебя обедать, получила телеграмму… Я созывал на девять часов заседание бюро. Не отменишь?
— Нет, почему же, — ответил Борзов. — Бюро надо провести. Начнем работать. — Позвонил помощнику. — Вызвать на бюро всех уполномоченных, прикрепленных к колхозам.
Заседание было бурное. Часть членов бюро поддерживала по многим вопросам Мартынова, часть — Борзова. Все же воздержались пока рекомендовать комиссии перевести выполнившие поставки колхозы в высшую группу. Решили повременить — как будет с погодой, с обмолотом в других колхозах.
Расходились по домам поздно ночью, под проливным дождем. Мартынов и Руденко прошли по главной улице до угла вместе.
— Ну, ты сегодня зол! — говорил Руденко. — Не даешь ему ни в чем спуску. Прямо какая-то дуэль получается у вас, бокс.
— Отвык от него за месяц, — отвечал Мартынов.
— Ему, Илларионыч, из кожи вылезти, а хочется добиться, чтоб в первую пятидневку по его приезде хлеба вывезли раза в два больше, чем при тебе возили. Чтоб в обкоме сравнили сводки: вот Мартынов давал хлеб, а вот — Борзов!.. Он и в санаторий уезжал с неспокойной душой. Как это вдруг обком перед самой уборочной отпустил его лечиться? Тебе больше доверия, что ли?..
За углом Руденко свернул налево, пошел узеньким проулком, чертыхаясь, попадая впотьмах в лужи и набирая жидкой грязи в калоши, бормоча про себя: «Не всегда, стало быть, та первая голова и есть, которая первая по чину…» Мартынов пошел дальше главной улицей к своей квартире, тоже чертыхался, оскальзываясь в грязи и попадая на выбоинах дороги в глубокие лужи, и думал: «Сколько времени, сил тратим на споры, а нужно бы — на работу! Паны дерутся, у хлопцев чубы трещат…»
На рассвете Мартынов поехал верхом в самый крупный из отстающих колхоз «Красный пахарь». Там он жил два дня. Собирал коммунистов, фронтовиков. Напомнил фронтовикам о более трудных днях, когда в дожди, по бездорожью несли на себе станковые пулеметы, помогали лошадям тащить пушки. Кирпич и лес, заготовленные для строительства новой конторы, посоветовал употребить на зерносушилки и крытые тока. Все бригады вышли в поле — кто подносить солому на носилках, кто зерно. Начали было строить навесы и над молотилками, чтобы попробовать молотить со скирд, но к вечеру второго дня дождь перестал. Не было дождя и ночью. Утром показалось солнце, подул прохладный восточный ветер. Установилась надолго сухая погода.
Уборка и прочие полевые работы в районе вошли более или менее в колею. Дороги просохли, вновь потянулись по ним колонны автомашин со свеженамолоченным зерном. Так-таки и получилось, что в первую пятидневку при Борзове колхозы сдали больше хлеба, чем в последние перед его приездом дождливые дни. Район выполнил план хлебопоставок в числе не передовых, но и не самых отстающих.
2
Однажды Марья Сергеевна Борзова сказала Мартынову: — Чего никогда не зайдешь к нам, Петр Илларионыч, вечерком посидеть?
— Спасибо, — поблагодарил немного удивленный Мартынов. Он давно не получал от Борзовых приглашения в гости. — Вечерков-то свободных почти не бывает.
— Нет, верно, заходи. Что вам с Виктором Семенычем все спорить да ругаться? Посидим, поговорим.
Мартынов пообещал зайти, но не торопился выполнить обещание. «Мирить, что ли, собирается нас за чашкой чая?» — подумал он.
Вскоре Борзова вызвали в обком на десятидневный семинар первых секретарей райкомов, а Марья Сергеевна все же позвонила Мартынову:
— Сегодня суббота, Петр Илларионыч, под выходной разрешается раньше кончать работу. Нет у тебя вечером заседаний? В колхоз не едешь? А обещание помнишь? Ну, приходи, буду ждать.
Встретила его Марья Сергеевна принаряженная, немножко смущенная тем, что может подумать Мартынов об ее настойчивом желании видеть его у себя дома. К шелковой ее блузке был приколот орден Ленина.
— Городишко у нас такой, — говорила она, гремя посудой у буфета, — на одном краю чихнешь, с другого края слышишь: «Будьте здоровы!» Завтра же разнесут всюду: «Мартынов ходил к Борзовой чай пить, когда мужа дома не было». А мне — наплевать!
Пока Марья Сергеевна собирала на стол, Мартынов обошел все комнаты их дома. Он здесь бывал раза два в прошлом году, по приезде. В детской бабушка, мать Борзова, укладывала детей спать, рассказывала им сказки. Маленьких у них было двое — мальчик лет шести и девочка лет четырех. Старшей, Нины, девушки, не было дома, ушла, вероятно, в кино или к подругам. В зале в кресле возле пианино спал огромный сибирский кот. Во всех комнатах на стенах висели клетки со скворцами, щеглами, дроздами. Две собаки, овчарка и ирландский сеттер, стуча когтями по полу, ходили следом за Мартыновым. В углу столовой гнездился на подстилке маленький ежик. Видимо, Борзов любил птиц и животных.
— За что ты, Марья Сергеевна, получила орден? — спросил Мартынов, садясь на диван. — Вижу его у тебя иногда по праздничным дням, давно хочу спросить. Партизанила?
— Нет, не партизанила. Это еще до войны было дело… — Марья Сергеевна вздохнула. — За хорошую работу на тракторе дали мне орден.
— Да? Ты трактористкой была?
— Эх, уже люди и фамилии моей не помнят!..
— Борзова?..
— Да нет, не Борзова. Моя девичья фамилия была — Громова.
— Громова?.. Вон что! Ну, прости, не знал… Та Маша Громова, что с Ангелиной соревновалась? Портреты были ваши в «Правде» рядом. Так это ты и есть?
— Маша Громова, да… Я родом из Ростовской области.
— Помню — из Ростовской области.
— Донская казачка… И Борзов там работал, в нашем районе, секретарем райкома комсомола. В тридцать восьмом году мы с ним познакомились. Я у него вторая, первая жена его умерла. Нина — это его дочка от первой жены… Ну, садись к столу… А ты, Петр Илларионыч, из каких сам краев? Чем раньше занимался?
— У меня в биографии ничего почетного нет. Неудавшийся писатель, — без скорби, почти весело стал рассказывать Мартынов. — Лет двадцать назад написал один очеркишко, напечатали его в «Комсомольской правде», и с тех пор заболел литературой. Центнера два бумаги извел на романы — ничего путного не вышло. Пошел по газетной работе. Много ездил, спецкором был. Последний год перед приездом к вам был редактором районной газеты в Н-ской области. И там не бросил писать. Сынишка знает, что я все почты жду, ответов из редакций, бежит, бывало, кричит: «Папка, иди скорее домой, там большое письмо принесли!» Эх, думаю, порадовал сынок! Лучше б — маленькое. Большое — значит, рукопись назад. Спасибо, один критик честно, прямо написал: «Сочинение романов не ваше, видимо, дело. Изберите себе, товарищ, другую цель в жизни». Вот избрал — другую работу. Цель-то у нас одна у всех. Не сам избрал, предложили мне перейти на партийную работу — дал согласие.
Мартынов засмеялся:
— Много раз критиковал, ругал в газетах секретарей райкомов. Интересно, как у самого получится!..
— Виду не подаю, Петр Илларионыч, — сказала Марья Сергеевна, помолчав, — а иной раз жалею, ругаю себя последними словами: зачем бросила ту работу, ушла из колхоза? Я бы с Пашей Ангелиной еще посоревновалась! Неизвестно, про кого бы теперь больше писали!.. Как вышла за Борзова, год поработала еще на тракторе и бросила. Ревновал меня к нашему бригадиру. Попусту ревновал. Нам такого назначили бригадира в женскую бригаду, выдержанного, хладнокровного — хоть молоко вози на нем на базар. Приезжаю на рассвете домой с поля — на мотоцикле ездила, — дома мне допрос: «С кем ночь провела? Ты еще вечером должна была смениться». — «С „натиком“, говорю, своим провела ночь. Напарница моя заболела, пришлось за нее поработать». Идет утром в МТС, проверяет — действительно ли прошлой ночью моя напарница не работала?.. Потом купили дом, хозяйство завелось, уют, покой ему нужен, когда придет домой отдохнуть… Вот так и получилось. Прогремела Маша Громова ненадолго. Это уж я тут стала просить его: дай мне какое-нибудь дело. Послали в эту контору директором. Нашли огородницу! Я в этих семенах ничего не смыслю. Я и дома, у матери, не сажала капусту. Как подросла, девчонкой еще, села на машину, только с техникой и зналась. Ну, что было, то прошло. Теперь уж мне поздно автолом, вместо румян, мазаться, — со смехом добавила Марья Сергеевна. — Разлюбит муж чумазую.
Оглядела стол.
— Чего ж я еще не подала?.. Хлеба-то и нет на столе. И чай забыла заварить. Вот хозяйка!.. Перебила я, извини, не договорил ты про себя, — вернувшись с кухни, сказала Марья Сергеевна.
— Да мне и договаривать нечего. Из газеты сюда попал. По разверстке. Наша область — передовая. Взяли у нас, не помню, сколько всего человек, а из того района, где я работал, двух — меня и еще одного парня, инструктора райкома. Не знаю, за какие заслуги попал сюда. Одни товарищи говорили на прощанье: «Жаль с тобой расставаться, но что поделаешь — приказано лучшие кадры отобрать для отстающей соседней области». А другие говорили: «Избавляются от тебя, Мартынов, — слишком уж развел ты критику в своей газете и на конференциях резко выступаешь»… Но, в общем, не жалею, что приехал сюда. Всюду жизнь, люди…
— Трудно тебе с Борзовым?
— Трудно…
Марья Сергеевна села за стол против Мартынова, подперла рукой щеку.
— Знаешь, зачем я тебя позвала? — Ее простое веселое лицо, с добродушными веснушками и смешливыми морщинками под глазами, стало серьезным. — Продолжить тот разговор, что тогда в райкоме начала… Закусывай, Петр Илларионыч, — подвинула к нему тарелку с сыром, салатницу, хлеб. — Тебе чего налить? Я с Донщины, из тех мест, где виноградники разводят, у нас сухое вино пьют.
— Все равно. По своему вкусу налей.
Марья Сергеевна налила два бокала белого вина.
— Объясни ты мне — что у вас с Виктором Семенычем происходит?
Мартынов ответил не сразу.
— Это разговор большой, Марья Сергеевна… Но ты же сама бываешь на пленумах, на собраниях партактива.
— Он мне говорит: Мартынов рвется к власти, авторитет в организации завоевывает, хочет выжить меня отсюда.
— Ты этому веришь?
— Нет, не верю.
— Напрасно, — усмехнулся Мартынов. — Да, я считаю, что партийная работа — не его дело. Постараюсь и в обкоме это доказать.
— Вон как…
— А что я авторитет завоевываю, рвусь к власти — это чепуха… Да, может, сюда порекомендуют другого товарища первым секретарем? Почему бы мне не поработать здесь вторым? Очень хотелось бы поработать с настоящим человеком, поучиться у него. Но у Борзова учиться нечему. Не обижайся, Марья Сергеевна…
Мартынов отпил из своего бокала.
— В тридцать восьмом году поженились?
— Познакомились. Поженились в тридцать девятом… Двенадцатый год живу с ним…
— Когда же вы переехали сюда с Донщины?
— Он воевал в этих краях. Был заместителем командира полка по политчасти. После освобождения области его здесь и оставили… Мы тут с ним уже в третьем районе. И всё такие районы — середка на половинке. Передовым ни один из них не стал.
— Должно быть, и в тех районах был у него этот груз на ногах — отстающие колхозы. С таким грузом высоко не взлетишь. Ты скажи, Марья Сергеевна, чего ты, собственно, хочешь? Помирить нас? Так мы с ним и не ссорились, не на базаре поругались.
— Нет, я вижу, вас не помиришь… Для себя хочу понять — о чем у вас идет спор?
— Ну что ж… Если б не была ты бывшей Машей Громовой, может, не стал бы тебе говорить всего, что скажу. Но ты не из тех дам, у которых все знакомства с деревней через молочниц. Сама из колхоза вышла.
— Ого! — усмехнулась Марья Сергеевна. — Нашел даму! Сколько раз предлагала Виктору Семенычу: назначь меня в комиссию по проверке качества ремонта тракторов. Уж который трактор я приму — тысячу гектаров поднимет тебе за сезон!
— Не в том дело, что ты знаешь машины и сельское хозяйство. Я думаю, это тебе дорого, близко.
— А моя вся родня в колхозе живет. Мама, бабушка, два брата, три сестры… До сих пор письма шлют мне колхозники из нашего района, всеми радостями и горестями делятся.
— Немножко нехорошо получается, — продолжал после большой паузы Мартынов, — что без него завели разговор о нем. Но я и в глаза ему это скажу. Да и говорил уж… Если придется тебе отчитываться за сегодняшний вечер, можешь передать ему все слово в слово…
Тебе, когда ты пожила с Борзовым, больше узнала его, никогда не приходило в голову о нем такое? Вот он волнуется, хлопочет, нажимает, чтоб зябь пахали, хлеб везли, всякие планы выполняли, а близко ли к сердцу принимает он все это? Что стране нужен хлеб и нужно его очень много? Что хлеб нам понадобится и в будущем году, не одним днем живем? Что, если в каком-то колхозе не поднимут зябь, трудно придется там людям весною? Что за всеми нашими сводками и цифрами — хорошая или плохая жизнь людей? А может быть, он только о себе думает? Не выполним то-то и то-то — на дурном счету в обкоме будет район и он, секретарь. Пятно ляжет на его служебную репутацию.
— Страшные вещи ты говоришь, Петр Илларионыч, — ответила задумавшаяся Марья Сергеевна.
— Сама вызвала на такой разговор, теперь уж слушай… Что у нас происходит? О чем мы спорим? Мне кажется, о самом главном… Почему наш район средний? Что, все колхозы у нас средние? Если бы так, еще терпимо! Нет. Есть в районе очень богатые, крепкие колхозы и есть слабые колхозы. Вот из этих крайностей и выводим среднее. Я думаю, такой пестроты не было и в старой деревне. Конечно, были в каждом селе батраки, середняки, кулаки — разно люди жили, — но между селами в одной волости не было, не могло быть такой разницы, как сейчас: в одном колхозе — три миллиона дохода, а в другом, рядом, — триста тысяч. Земли поровну, и земля одинаковая, один климат, одно солнце светит, одна МТС машины дает и — такая разница! Когда же мы доберемся до причин и покончим с этой пестротой? А времени прошло немало с тех пор, как мы колхозы организовали. Война была, оккупация, разорение, но и война уже давно окончилась… Виктор Семеныч не любит, когда говорят: «Отстающий колхоз», поправляет: «Отставший!» Это, мол, не хроническая болезнь, временное явление: сегодня — отстал, завтра — догонит. Но людям-то не легче от того, что мы формулировку уточнили, — в тех колхозах, что «отставшие» с самого сорок третьего года?..
И как же мы вытягиваем отстающие колхозы? Да вот так — полы режем, рукава латаем. В прошлом году в пяти колхозах остался немолоченный хлеб на зиму в скирдах, а «Власть Советов», «Труженик», «Победа» выполняли за них поставки — и «заимообразно», и «в счет будущего года». Когда-то такие вещи называли головотяпством. Так и в передовых колхозах можно развалить дело. У лучших колхозников опускаются руки: да что же мы, обязаны век трудиться за лодырей?.. Нет, уж пусть там, в отстающих колхозах, люди до дна испьют чашу. Плохо работали? — ну, плохо и получайте по трудодням. А рядом, во «Власти Советов», — по пяти килограммов надо выдать!.. Пусть люди почувствуют свою вину. Но и нам нужно понять наши ошибки, нашу вину. Должны же мы когда-нибудь найти для таких колхозов настоящих руководителей? Ведь все дело в председателях! Никакие наезжие сверхчрезвычайноуполномоченные не наведут в колхозе порядка, если он без головы! Из тридцати тысяч населения в районе не выберем тридцать хороших председателей!.. Интересно получается, Марья Сергеевна, — Мартынов вдруг рассмеялся, откинулся на спинку стула, потеребил свои и без того взлохмаченные волосы. — Посылаем во все колхозы уполномоченных — на это людей у нас хватает. И живут они там месяцами, все лето. И жизнь без них в райцентре идет своим чередом, все конторы пишут. Ну, раз мы посылаем человека уполномоченным, значит, надеемся, что он поправит дело, считаем, что он умнее председателя. Так, может, и оставить бы его в колхозе навсегда? Тем паче, что его контора без него пишет не хуже, чем при нем?.. Между прочим, контор этих развелось у нас — пропасть! «Заготлен» и тут же рядом — «Пенькотрест». А нельзя ли их как-нибудь одной бечевочкой связать, льняной или пеньковой?.. Так вот, говорю: на гастроли в деревню людей хватает, а на постоянную работу не подберем. И навязываем иной раз колхозникам в председатели такого проходимца, какого не следовало бы и на пушечный выстрел подпускать к общественному хозяйству!..
— Может, Виктор плохо знает кадры?..
— Так с этого нужно начинать! Искать людей! Без этого — провалимся с треском!.. И на месте, в колхозах, нужно продолжать поиски. При всех новых установках насчет специалистов с высшим и средним образованием на постах председателей никто же нам не сказал, что надо прекратить выдвижение!..
Зимою, когда проходили у нас отчетно-выборные собрания в колхозах, я рассказал Борзову такой случай, — продолжал Мартынов. — Это было в Н-ской области, в одном районе. Я туда наезжал, когда в областной газете работал. Был там самый отстающий колхоз «Сеятель». Уже просто не знали, что с ним делать. С десяток председателей там перебыло, и ни один не справился. Дисциплина плохая, люди на работу не идут, все на базаре торгуют, урожайность низкая, на трудодни — копейки. Взяла там верх кучка рвачей-горлохватов. Обсядут нового человека — либо споят его, в какое-нибудь жульничество впутают, либо доведут до того, что бросает все, скрывается днями от людей, ни дома не сыскать председателя, ни в конторе, где-то в поле под скирдой спит, махнул на все рукой — работайте как знаете!..
Едет в «Сеятель» уполномоченный — проводить очередное отчетно-выборное собрание. Секретарь райкома говорит ему: «Не знаю уж, кого им рекомендовать. Самого себя, что ли, или предрика? Нас там только еще не было. Присмотрись там получше к людям. Может, есть у них на месте подходящий парень?»
Заслушали отчет правления, сняли председателя — колхозники спрашивают уполномоченного: «Что ж вы никого не привезли? За кого же будем голосовать?» Уполномоченный говорит: «Больше не будем возить вам председателей. Ваш колхоз — вам и думать о председателе!» — «Так у нас некого выбирать!» — кричат. И вдруг кто-то там подал голос: «Как — некого выбирать? А вон — Степка Горшок. Чем не председатель?» Шум, смех. «Степку Горшка!», «Степа, встань, покажись народу!» Но не все смеются. Многие колхозники всерьез предлагают: «Степана Горшкова!»
Степан сидит на передней скамейке — в опорках, одна штанина разорвана по колено, в милицейской фуражке, — когда-то уходил в город, служил там в милиции, потом вернулся опять в колхоз. Работал он прицепщиком в тракторной бригаде, хорошо работал, трудодней было много, но получать-то по ним нечего было в том колхозе. А семья — больная жена да семеро детей.
«Степку Горшка!» — кричат. «Хоть горшка, хоть корыто — все равно!» А уполномоченный прожил в том колхозе перед собранием два дня, ходил по хатам, расспрашивал уже людей про Горшкова. Начал с табелей. Видит, вдвое больше у него трудодней, чем у других колхозников. Что за человек? Никто ему ничего плохого про Горшкова не сказал — кроме того, что с виду неказист, штаны на нем худые. Так ему за колхозной работой, может, некогда было и на базар съездить… Со смехом, с шуточками дело подходит к тому, что нужно голосовать. Горшков просит слова, встает: «Товарищи, пока не поздно, не проголосовали — подумайте получше. За доверие спасибо, но все же подумайте еще. Как бы не пришлось после пожалеть. Может, кой-кому хуже будет». И сел. Шутники не унимаются: «Не будет хуже!», «Хуже некуда!», «Валяй, голосуй!» Проголосовали. Выбрали председателем колхоза Степана Горшкова.
На другой день приходит Горшков в правление принимать дела от старого председателя. Так же, как был одет, в опорках, только штанину зашил. Бывший председатель думал сдать дела быстро, как и сам принимал: вот тебе печать, вот подушечка для печати — садись, действуй. Степан: «Без глубокой ревизии не приму». Ему говорят: так была же ревизия перед самым отчетным собранием, три дня назад! «Вор вора проверял». Вызвал из района ревизора. Две недели копался, перевешали весь хлеб в амбарах, продукты в кладовых, сам каждую бумажку в бухгалтерии проверил, поднял дела и трехлетней давности, в общем, так принял колхоз, что человек пять бывших правленцев и членов ревкомиссии пошли под суд. Потом созвал бригадиров и говорит: «Довольно вам по дворам ходить, дразнить собак, зазывать на работу. Кто не хочет в этом году остаться без хлеба — выйдет в поле без вашего приглашения». А уже в каждой семье только и разговору о том, как новый председатель дела принимал, с жуликами расправился. Думают люди: пожалуй, теперь иначе дело пойдет, будет чего получать по трудодням. Как бы не ошибиться, дома сидя. И повалили все на работу.
С тех пор колхоз пошел в гору. Хорошо вспахали, вовремя посеяли, убрали — с урожаем, с хлебом! А когда жирок завяжется — хозяйство быстро растет! В два года «Сеятель» стал передовым колхозом в районе. Хотели было перебросить Горшкова в другой отстающий колхоз, чтоб и там наладил дело, — куда там! Колхозники — ни в какую! «Не отдадим Степана Егорыча!» Послали ходоков в Москву — отстояли.
— Это очень похоже на наш колхоз, тот, где я работала трактористкой, — сказала Марья Сергеевна. — Был у нас хороший председатель, и забрали его в район, заведующим сельхозотделом райкома. У нас там чуть проявит себя на работе председатель колхоза, так торопятся выдвинуть его в район. А мы через год прокатили нового председателя — при нем дело пошло хуже — и вынесли решение: избрать старого, Ивана Романовича Шульгу. Он в райкоме работает, а мы его выбрали, самосильно. Поехали с этим решением в обком — добились, вернули нам Ивана Романовича.
— Вот, вот! Из колхозов-то мы торопимся выдвигать стоящих работников. Будто наши учреждения существуют ради себя. Не ради себя — ради колхозов! Да будь у нас во всех отделах в райкоме партии и райсовете профессора, доктора экономических наук — положение не улучшится, если в колхозах где-то останутся шляпы, пьяницы!..
— Разговорился я как-то с этим Горшковым, — продолжал Мартынов, — о его прошлой жизни, о колхозе. «У меня, говорит, сердце изболелось, глядя, как воры, проходимцы зорили наш колхоз. Я в активе ходил, когда колхоз организовали, кулаков выселял, мне в окна стреляли, хату мою поджигали, и я же в этом колхозе дожился до того, что сапог не стало. Всякая сволочь смеется: „Вон он, тот рай земной, Степка, что ты нам обещал, — ты уж на Адама стал похож“. Сами же угробляют колхоз и еще издеваются. Эх, думаю, мне бы власть! Добрался бы я до вас!..»
К чему я рассказывал про этот случай Виктору Семенычу? Да не без задней мысли. И нам надо бы поискать вот таких, у которых «сердце изболелось». А кто едет в колхоз только под угрозой исключения из партии или только потому, что в райцентре ему уже больше никаких должностей не дают, — грош цена такому председателю! Ну и что же? Рассказал ему — он и ухом не повел. Поехал на другой день в колхоз «Наш путь» проводить отчетно-выборное собрание — три раза заставлял колхозников переголосовывать, пока выбрали-таки этого прохвоста Камнева, которого сейчас приходится судить за падеж скота и растрату.
Мы не всё знали про Камнева, когда обсуждали его кандидатуру на бюро. Знали, что в промкомбинате он не справился с работой и на маслозаводе его сняли за самоснабжение. Товарищи говорят: это дело старое, он за это понес уже взыскание, учтет на будущее время. Но там колхозники столько рассказали про него, что, конечно, нужно было не настаивать — извиниться перед собранием за свою ошибку и подумать о другом человеке. Он родом из соседнего села, его там все знают. Говорят: «На трибуне — соловей, на деле — ворона». Были заявления, что он партизанскую медаль обманом получил. Отрастил бороду и жил у родичей в другом районе, где его не знали, только всего и геройства. Да эвакуированным скотом барышничал. Но Борзов уперся, ничего не стал проверять. Есть решение бюро — надо проводить его в жизнь. Взял собрание измором. Райком-де недостойных людей в колхозы не посылает. Он думает, что от этого пострадает авторитет райкома, если люди где-то в чем-то нас поправят…
— Открытие сделал! — вдруг просиял Мартынов, встал и заходил по комнате. — Все время мучил меня вопрос: почему у нас среди партактива мало добровольцев ехать в колхозы председателями? Если даже практически рассудить: чем быть мне вечно уполномоченным в селе, разрываться между своим учреждением и командировками, так пошлите уж меня председателем! И зарплату высокую установили для таких, взятых с другой работы. Секретарь райкома столько не получает, сколько в крупном колхозе при хорошем урожае может председатель заработать. И — нет охотников. Район, думаю, что ли, здесь какой-то особенный, заклятый? У нас там это не было проблемой. Догадался наконец: Борзова боятся. Есть и здесь такие, что с удовольствием променяли бы свою канцелярию на живую работу в колхозе, но — его боятся. Боятся: что ни сделают хорошего, все пойдет насмарку. Он тебя и группой урожайности подрежет, и выговор ни за что влепит — за то, что в проливной дождь комбайны не работали. Нет хуже для председателя колхоза, когда он не уверен, что ругать его будут лишь за дело, а помогать по-настоящему, что в своей трудной работе, где не раз, конечно, и ошибешься, он не станет жертвой произвола, самодурства… В общем, можно сделать вывод: если где-то жалуются, что лишь в порядке партийной дисциплины удается послать человека в колхоз на должность председателя, — ищи причину в самом райкоме. Может, спросишь: откуда я знаю психологию председателя? Так я же сам был председателем колхоза три года, забыл рассказать. Там и очерк свой написал. Меня тоже «выдвинули». «О, так у нас, говорят, есть свой писатель!» — и назначили меня заведующим типографией райгазеты. Оттуда и пошел по газетам.
— От твоих открытий, Петр Илларионыч, я сегодня, кажется, всю ночь не буду спать, — сказала Марья Сергеевна. — Я вот думаю, между прочим, — добавила она с невеселой усмешкой, — за что он меня полюбил? Я и девушкой не была красавицей. Мода тогда пошла такая: на знаменитых стахановках жениться. У нас и предрика женился на простой девушке, звеньевой, из первых орденоносцев, про нее тоже во всех газетах писали…
— Ну, это уж я не знаю, как у вас было, — ответил Мартынов. — Тут я тебе вряд ли помогу сделать правильные выводы.
Закурил, сел, попросил Марью Сергеевну налить ему чаю.
— Любое живое дело можно загубить, если делать его равнодушными руками, с холодной душой, — продолжал он. — Вот нам сейчас подсказали: выдвигайте в председатели колхозов специалистов сельского хозяйства, агрономов, зоотехников. Правильно! Давно пора! Ведь что получается. В промышленности, на заводах, начальник цеха — обязательно инженер, не говоря уже о директоре завода. Там кадры учат, основательно подготавливают. А ведь иной колхоз — тот же завод по объему работы: громадное полеводство, тысячи гектаров, животноводство, всякие подсобные отрасли, строительство оросительных систем, лесонасаждения. И всё на самородках выезжаем. У лучшего нашего председателя, Демьяна Васильича Опёнкина, образование — три класса церковноприходской школы. Учим мы председателей? Да, учим. Есть вот областная школа председателей колхозов, трехгодичная. Дали нам на район два места, послали двух человек. Пока всех председателей пропустим через эту школу, пятьдесят лет пройдет. Конечно, нужно побольше выдвигать агрономов на руководящие посты в колхозы. Рано или поздно к тому придем, что и бригадиры у нас будут все агрономы. Но как это сейчас делается у нас?..
У Борзова на столе лежит разнарядка: послать восемь агрономов в колхозы председателями. Есть послать! А кого послать, как послать — это его не очень волнует. Лишь бы выполнить в срок задание по количеству и отчитаться перед обкомом. Но ведь агроному, чтобы он справился с обязанностями председателя, нужно, кроме диплома, иметь и талант организатора. Он должен быть вожаком, массовиком, воспитателем народа. А в первую голову — должен быть готов послужить верой и правдой советской власти на очень трудном посту!.. А мы вот послали в отстающий колхоз Аксенова. Двадцать лет просидел человек в конторе сельхозснаба, — не по специальности, счетоводом, наряды какие-то выписывал, должно быть, уже и позабыл всю ту агротехнику, что учил в институте. От трудностей колхозного строительства спасался там. Чего же хорошего дождемся от этого трухляка? Но для отчета перед обкомом он годится — диплом о высшем агрономическом образовании имеет…
А от таких — много ли проку? Если парень поступил в сельскохозяйственный институт только потому, что не прошел по конкурсу в институт кинематографии, и вся его колхозная практика — выезды на уборочную в колхозы на каникулах? Мы и таких двух агрономов послали в колхозы. Но ребята мне понравились. Комсомольцы, не робеют. Много задору, свежий взгляд на такие вещи, к которым мы уже притерпелись, искренне удивляются, почему мы до сих пор, при нашей передовой науке, при нашей механизации, не берем урожаи пудов по двести хотя бы с гектара?.. Если помочь им — может, дело у них пойдет. Но если с первого дня начать стучать кулаком по столу: «Вы же — специалисты! Вы больше других председателей знаете! Я с вас три шкуры спущу!» — не знаю, как оно с ними получится…
Очерку нет пока продолжения, так как пишется он почти с натуры. Он, может быть, вырастет и в повесть, но для этого необходимо развитие событий в жизни. Я встречаю таких людей, слышу такие споры, как у Мартынова с Борзовым, в одном районе.
Какие решения примет обком об этом районе, как пойдут там дела дальше, как повернутся личные судьбы людей, представленных читателю в первых главах очерка, — все это нужно еще понаблюдать в жизни. Возможно, это и будет содержанием следующих глав.
1952
ПРИМЕЧАНИЯ
В настоящем издании рассказы расположены в хронологическом порядке — по времени их написания. В случае отсутствия авторских дат, они датируются годом первой публикации.
Серафимович Александр Серафимович (1863–1949) — русский советский писатель. Лауреат Государственной премии СССР.
Иванов Всеволод Вячеславович (1895–1963) — русский советский писатель.
Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967) — русский советский писатель. Лауреат Государственных премий СССР. Лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами».
Шишков Вячеслав Яковлевич (1873–1945) — русский советский писатель. Лауреат Государственной премии СССР.
Малышкин Александр Георгиевич (1892–1938) — русский советский писатель.
Лавренев Борис Андреевич (1891–1959) — русский советский писатель. Лауреат Государственных премий СССР.
Булгаков Михаил Александрович (1891–1940) — русский советский писатель.
Грин Александр Степанович (1880–1932) — русский советский писатель.
Пришвин Михаил Михайлович (1873–1954) — русский советский писатель.
Чорный Кузьма (1900–1944) — белорусский советский писатель.
Сергеев-Ценский Сергей Николаевич (1875–1958) — русский советский писатель. Лауреат Государственной премии СССР.
Толстой Алексей Николаевич (1883–1945) — русский советский писатель. Лауреат Государственных премий СССР.
Тынянов Юрий Николаевич (1894–1943) — русский советский писатель.
Киачели Лео (1884–1963) — грузинский советский писатель. Лауреат Государственной премии СССР.
Олеша Юрий Карлович (1899–1960) — русский советский писатель.
Ауэзов Мухтар Омарханович (1897–1961) — казахский советский писатель. Лауреат Ленинской и Государственной премий СССР.
Соколов-Микитов Иван Сергеевич (1892–1975) — русский советский писатель.
Яновский Юрий Иванович (1902–1954) — украинский советский писатель. Лауреат Государственной премии СССР.
Первомайский Леонид Соломонович (1908–1973) — украинский советский писатель. Лауреат Государственной премии СССР.
Бакунц Аксель (1899–1937) — армянский советский писатель.
Каххар Абдулла (1907–1968) — узбекский советский писатель. Лауреат Государственной премии СССР. Народный писатель Узбекистана.
Катаев Иван Иванович (1902–1939) — русский советский писатель.
Сейфуллина Лидия Николаевна (1889–1954) — русская советская писательница.
Платонов Андрей Платонович (1899–1951) — русский советский писатель.
Зощенко Михаил Михайлович (1895–1958) — русский советский писатель.
Бабель Исаак Эммануилович (1894–1941) — русский советский писатель.
Нилин Павел Филиппович (р. 1908) — русский советский писатель. Лауреат Государственной премии СССР.
Атаров Николай Сергеевич (р. 1907) — русский советский писатель.
Сарыханов Нурмурад (1906–1944) — туркменский советский писатель.
Горбатов Борис Леонтьевич (1908–1954) — русский советский писатель. Лауреат Государственных премий СССР.
Федин Константин Александрович (р. 1892) — русский советский писатель. Герой Социалистического Труда. Лауреат Государственной премии СССР.
Козин Владимир Романович (1900–1967) — русский советский писатель.
Цвирка Пятрас (1909–1947) — литовский советский писатель.
Тихонов Николай Семенович (р. 1896) — русский советский писатель. Герой Социалистического Труда. Лауреат Ленинской и Государственных премий СССР. Лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами».
Капиев Эффенди Мансурович (1909–1944) — дагестанский советский писатель.
Соболев Леонид Сергеевич (1898–1971) — русский советский писатель. Герой Социалистического Труда. Лауреат Государственной премии СССР.
Кожевников Вадим Михайлович (р. 1909) — русский советский писатель. Герой Социалистического Труда. Лауреат Государственной премии СССР.
Ругоев Яакко Васильевич (р. 1918) — карельский советский писатель.
Симонов Константин Михайлович (р. 1915) — русский советский писатель. Герой Социалистического Труда. Лауреат Ленинской и Государственных премий СССР.
Николаева Галина Евгеньевна (1911–1963) — русская советская писательница. Лауреат Государственной премии СССР.
Паустовский Константин Георгиевич (1892–1968) — русский советский писатель.
Фоменко Владимир Дмитриевич (р. 1911) — русский советский писатель.
Балтушис Юозас (р. 1909) — литовский советский писатель. Народный писатель Литвы.
Гончар Александр Терентьевич (р. 1918) — украинский советский писатель. Лауреат Ленинской и Государственных премий.
Полевой Борис Николаевич (р. 1908) — русский советский писатель. Герой Социалистического Труда. Лауреат Государственных премий СССР.
Гроссман Василий Семенович (1905–1964) — русский советский писатель.
Овечкин Валентин Владимирович (1904–1968) — русский советский писатель.
И. Алатырцева
На суперобложке: К. Петров-Водкин. Смерть комиссара.
А. Дейнека. Окраина Москвы. Ноябрь 1941 г.