
Артур Кларк
ТРУСЛИВАЯ ОРХИДЕЯ

Вряд ли кто-нибудь из завсегдатаев «Белого Оленя» верит до конца хотя бы в одну из историй Гарри Пурвиса, но ни один из них не осмелится назвать их насквозь лживыми.
Одни его рассказы более вероятны, другие — менее, а вот история о трусливой орхидее по степени вероятности, пожалуй, где-то на одном из последних мест.
Сейчас я уж и не припомню, по какому случаю Гарри рассказал эту историю. Может, какой-нибудь любитель орхидей притащил тогда в таверну особо чудовищный экземпляр. А впрочем, сейчас это совершенно не важно. Главное, что я до сих пор отлично помню этот рассказ.
На этот раз в нем не фигурировал ни один из многочисленных родственников Гарри. Героем оранжерейной саги был вполне обычный человек, правда, звали его Геркулес Китинг. Минутку терпения, погодите смеяться, это еще не самое удивительное в рассказе Гарри Пурвиса.
Носить такое имечко непросто, даже если вы сложены, как античный герой. Но когда росту в вас всего четыре фута и девять дюймов и вы, даже тренируясь с утра до вечера, в лучшем случае накачаете веса девяносто семь фунтов — вам не позавидуешь. Может, именно поэтому Геркулес сторонился людей и постоянно торчал в своей оранжерее, что была построена в самой глубине сада. Потребности его были невелики, на себя он тратил сущие гроши, и все деньги уходили на великолепную коллекцию кактусов и орхидей. Среди кактусолюбов он считался крупным специалистом; со всех концов земного шара ему приходили бандероли, от которых веяло пылью и тропиками.
Тетушка Генриетта была его единственной родственницей, больше у него не было никого во всем свете. Да и она была его полной противоположностью: крупная высокая женщина, неизменно облаченная в твидовый костюм экстравагантного кроя. Кроме того, она бешено носилась на своем «ягуаре» и не выпускала сигарету изо рта.
Она разводила собак и недурно на этом зарабатывала. Везде и всюду она появлялась в сопровождении парочки отборных воспитанников, причем это были отнюдь не левретки, убирающиеся в дамские сумочки. Специальностью мисс Китинг были датские доги, сенбернары и западно-европейские овчарки.
Генриетта никогда не была замужем, справедливо считая мужчин слабым полом. Но Геркулеса она почему-то просто обожала. Она опекала его, словно родной дядюшка — любимого племянника, и навещала почти каждое воскресенье.
Странные это были взаимоотношения. Генриетте, вероятно, льстило, что рядом с Геркулесом она выглядит еще энергичнее и сильнее. Будь он настоящим мужчиной, она бы, наверное, любила его не так сильно. И все-таки заботилась она о Геркулесе вполне искренне и с большим удовольствием.
Естественно, такая опека только усиливала у Геркулеса комплекс неполноценности, которым он обзавелся еще в детстве. Сначала он все терпеливо сносил, потом начал бояться теткиных визитов, ее громового голоса, ее медвежьих рукопожатий, от которых трещали кости, и наконец возненавидел свою тетушку. Эта ненависть постепенно стала основным чувством в его жизни, она пересилила даже любовь к орхидеям. Но он тщательно скрывал от тетушки свое истинное к ней отношение, опасаясь, что она разорвет его в клочья и скормит своим волкодавам.
Словом, Геркулес никогда бы не осмелился проявить свои истинные чувства. Даже когда его переполняло желание убить тетушку Генриетту, он прикидывался внимательным и предупредительным. Да и кем он был для нее? Не более, чем мелким песиком, которого она могла взять за шкирку и вышвырнуть вон. Но однажды…
Эту орхидею привезли откуда-то с верховьев Амазонки; во всяком случае, так уверял продавец. Сначала она не произвела на Геркулеса особого впечатления, несмотря на всю его любовь к этим растениям: какой-то корявый корешок с кулак величиной, и ничего более. Необычным был только омерзительный гнилостный запах. Геркулес даже усомнился, а жив ли этот корень, о чем и заявил продавцу. Тот вынужден был продать корешок за бесценок. Геркулес купил его без особой радости, просто по привычке.
Он даже не расстраивался, когда в течение первого месяца корешок не подавал ни малейших признаков жизни. Но вдруг появился крошечный зеленый росток и начал тянуться к свету. Очень скоро росток превратился в ядовито-зеленый стебель толщиной в руку, увенчанный какими-то необычными шишками.
Теперь Геркулес верил, что к нему случайно попал какой-то редчайший сорт, и очень волновался.
Новая питомица развивалась с удивительной скоростью и вскоре переросла самого Геркулеса, что, впрочем, было нетрудно. Утолщения на верхушке удивительного стебля набухали, и по всему было видно, что орхидея вот-вот расцветет. Геркулес знал, что период цветения некоторых сортов очень непродолжителен, и, боясь пропустить долгожданный момент, все больше времени проводил в оранжерее. Но она расцвела ночью, когда он спал.
Утром он увидел, что с верхушки стебля почти до самой земли свисают восемь длинных усиков. Судя по всему, они развились из шишек всего за одну ночь. Это буквально потрясло Геркулеса, и он отправился на службу в глубочайшей задумчивости.
Вечером он был поражен пуще прежнего: поливая орхидею и разрыхляя землю вокруг нее, он заметил, что усики стали гораздо толще и принялись двигаться и извиваться, словно живые. Это уже не удивляло, а тревожило.
Следующие несколько дней развеяли последние сомнения: как только он подходил поближе, усики начинали тянуться к нему, и это выглядело крайне неприятно. Ему стало казаться, что растение просто-напросто проголодалось, от этой мысли ему делалось дурно. Что-то неясное маячило на дне памяти, но прошло довольно много времени, прежде чем он вспомнил. Тогда он воскликнул: «Ну не дурак ли я?!» — и помчался в ближайшую библиотеку. Через полчаса, прочитав маленький рассказ Герберта Уэллса «Удивительная орхидея», он только и выдавал из себя: «Боже мой!»: совпадало почти все, не было только дурманящего запаха, которым уэллсова орхидея парализовала свою жертву. Домой он притащился совсем убитый.
Он долго стоял на пороге оранжереи, созерцая этого монстра. Прежде чем осторожно приблизиться, он тщательно прикинул длину усиков; мысленно он уже величал их щупальцами. Теперь орхидея казалась ему не мирным растением, а готовым к прыжку хищником.
«Невероятно, — подумал он. — Не может быть. Но ведь можно же проверить…»
Он выскочил из оранжереи, вернулся через пару минут с метлой и наколол на нее кусочек сырого мяса. Осторожно, словно укротитель львов, он подкрался к орхидее.
Сначала не происходило ничего, потом растение что-то почувствовало, зашевелило усиками. Они заплясали все быстрее и быстрее, так, что их уже трудно было разглядеть. Усики обвили мясо, метлу сильно дернуло, и кусочек исчез — орхидея прижала его к «груди».
В полном изумлении Геркулес даже выругался, а ругался он крайне редко.
Теперь орхидея затихла, видимо, ждала, пока мясо подтухнет. На следующий день кусочек покрылся какими-то маленькими корешками, а к вечеру — совсем исчез.
Растение познало вкус крови.
Геркулес продолжал свои наблюдения, и странные, противоречивые чувства одолевали его. Иногда орхидея казалась ему ужасным монстром. Она стала очень мощной, и попади он к ней в лапы — конец. Разумеется, он старался обезопасить себя: поливал издалека, а «корм» просто кидал так, чтобы она могла достать его своими щупальцами.
Она ежедневно сжирала по фунту сырого мяса, но ему казалось, что дай он еще — она не откажется.
И все-таки он чувствовал себя на верху блаженства. Ведь у него в руках было чудо ботаники! Он мог прославиться, стоило только захотеть. Геркулес был довольно ограниченным человеком, ему просто в голову не приходило, что его приобретением может заинтересоваться кто-либо кроме любителей орхидей.
Орхидея достигла шести футов в высоту, и рост ее заметно замедлился. Геркулес эвакуировал подальше от нее все другие растения, и не потому, что боялся за них, а чтобы ухаживать за ними, не опасаясь ужасных щупалец. Чтобы ненароком не попасть в зону досягаемости ее восьми лап, он протянул веревку поперек центральной дорожки.
Похоже, орхидея имела довольно развитую нервную систему, а может быть, даже примитивный разум. Она знала часы кормления и, насыщаясь, проявляла несомненные признаки наслаждения. Она (и это было самое фантастическое) вроде бы даже издавала какие-то звуки, хотя Геркулес не был полностью в этом уверен. Перед самым кормлением ему иногда чудился свист, очень высокий, где-то на границе слышимости. Ему было непонятно, зачем она свистит. Может, таким образом она приманивала добычу? Хорошо хоть на него это совершенно не действовало.
Итак, Геркулес занимался своими исследованиями, а тетушка Генриетта тем временем доводила его до белого каления.
Еженедельно в воскресенье после полудня ее «ягуар» с ревом мчался по улице. Рядом с ней неизменно восседала здоровенная псина, другая целиком оккупировала заднее сиденье. Генриетта врывалась в дом, разом перемахивая через две ступеньки. Она оглушала Геркулеса зычным приветствием, парализовала мощным рукопожатием, отравляла табачным дымом. Слава богу, поцелуи не входили в эту церемонию, иначе она бы его до смерти зацеловала.
Тетушка Генриетта слегка презирала увлечение племянника. Она считала, что постоянно торчать в оранжерее — никакой не отдых, а сущее мучение. Когда ей самой хотелось отдохнуть, она отправлялась в Кению охотиться на львов. Геркулес ненавидел ее кровавое увлечение, из-за него ненависть к тетке только крепла. Тем не менее, каждое воскресенье он покорно поил ее чаем, и их беседа наедине казалась со стороны вполне мирной и дружелюбной. Генриетта страшно бы растерялась, узнай она, что, наливая ей чай, Геркулес частенько мечтал, чтобы она им подавилась. Ведь у нее, в сущности, было доброе сердце.
Геркулес иногда показывал тетушке наиболее интересные экземпляры из своей коллекции, но о своем растительном спруте он не обмолвился ни словечком. Возможно, уже в то время в глубинах его подсознания созревал этот дьявольский план.
Однажды поздним воскресным вечером, когда рев «ягуара» растаял в темноте, Геркулес отправился в оранжерею, чтобы успокоиться после тетушкиного визита. Там-то и посетила его впервые эта мысль.
Он любовался орхидеей, усы которой уже стали толще человеческого пальца, и вдруг представил приятную картину: беспомощная тетушка Генриетта испуганно трепыхается, пытаясь вырваться из щупальцев монстра.
Поистине, это было бы весьма удачное убийство. Человек прибывает на место происшествия слишком поздно. Обезумев от горя, он звонит в полицию, а когда та прибывает, ей остается только констатировать несчастный случай. Конечно, не обойдется без следствия, но что оно может дать?
Чем больше он думал над этим планом, тем больше он ему нравился. Было бы очень неплохо, если бы орхидея смогла ему помочь. Разумеется, он предвидел и определенные трудности. Растение нуждалось в тренировке.
У Геркулеса не было опыта в подобных делах, да и посоветоваться было не с кем, поэтому метод тренировки пришлось разработать самому. Следует отметить, что он был весьма прост и практичен.
Привязав кусок мяса к концу длинной удочки, он подолгу размахивал им перед орхидеей, пока она не научилась быстро ловить мясо. При этом всякий раз она издавала пронзительный писк, что немало удивляло Геркулеса. Он не знал, были ли у нее для этого специальные органы, и раскрыть эту тайну было невозможно, не вступая в тесный контакт с чудовищем. Если план осуществится, то такая возможность представится тетушке Генриетте. Только вряд ли она сможет поделиться своими открытиями с кем бы то ни было…
Наконец стало ясно, что орхидея теперь достаточно сильна, чтобы справиться с намеченной жертвой. Однажды ей удалось вырвать метлу из рук Геркулеса. Хотя факт этот сам по себе был весьма незначительным, приятный треск ломающейся древесины вызвал мечтательную улыбку на его тонких губах.
Он утроил свое внимание к тетушке, воистину он был образцовым родственником!
Он продолжал тренировать орхидею и был весьма доволен результатом. Настало время попробовать живую приманку. Несколько недель одержимый этой идеей Геркулес как-то очень внимательно присматривался к каждой уличной кошке и собаке. Но в конце концов ему пришлось отказаться от этой мысли по причине прямо-таки удивительной. Дело в том, что для этого у него было слишком доброе сердце. Первой и единственной жертвой суждено было стать тетушке Генриетте!
Перед тем, как приступить к исполнению своего плана, он три недели морил орхидею голодом. Для достижения успеха необходимо было разжечь аппетит растения.
И вот однажды, отнеся на кухню чашки после чаепития с тетушкой, Геркулес уселся подальше от смертоносного дыма ее сигарет и, как бы между прочим, предложил:
— Хочу вам кое-что показать, тетушка. Это будет для вас приятным сюрпризом. Умрете от смеха.
«Хотя причина указана не совсем точно, но основная мысль верна», — подумал он.
Тетушка удивленно посмотрела на него и даже вытащила изо рта сигарету.
— Как? Неужели в этом доме меня ждет какой-то сюрприз? — пробасила она. — Что же ты задумал, баловник ты этакий? Она засмеялась и шутливо хлопнула Геркулеса по спине.
— Вы глазам своим не поверите. Пойдемте в оранжерею, это там, — насилу отдышавшись просипел Геркулес.
— В оранжерее? — удивилась тетушка.
— Да. Пойдемте туда. Это самая настоящая сенсация.
Генриетта недоверчиво усмехнулась, но все-таки последовала за Геркулесом без лишних расспросов.
При этом две немецкие овчарки, которые с удовольствием расправлялись с ковром, вскочили на ноги и вопросительно посмотрели на хозяйку.
— Все нормально, братцы. Я скоро вернусь, — сказала она.
«Что очень сомнительно», — подумал Геркулес.
Несмотря на темный вечер, свет в оранжерее был погашен. Когда они вошли, тетушка даже плюнула от отвращения.
— Фу, ну вонища! Точно такой смрад, помню, был в Булавайо. Я тогда подстрелила слона, и мы целую неделю не могли его отыскать…
— Извините, тетушка, это все новое удобрение, — бормотал Геркулес, в потемках тесня ее в нужном направлении. — Еще немного, несколько ярдов, это будет, действительно, сюрприз.
— Надеюсь, это не шутка, — угрожающе проворчала тетушка и продвинулась еще на шаг.
— Это не шутка, обещаю вам, — Геркулес уже держал руку на выключателе. В темноте зловещий гигантский силуэт орхидеи был еще различим, и Генриетта находилась теперь от него примерно в десяти футах. Он подождал, пока она углубится в опасную зону, и повернул выключатель.
Оранжерею залил яркий свет. Тетушка, застыв, словно изваяние, подбоченившись смотрела на орхидею. Геркулес начал бояться, как бы она не ретировалась прежде, чем растение что-либо предпримет. Но опасения оказались напрасными, Генриетта и не собиралась этого делать, она просто спокойно разглядывала орхидею, пытаясь понять, что же это такое.
Прошло несколько томительных секунд, и вот щупальца орхидеи наконец задвигались, затрепетали, но совсем не так, как рассчитывал Геркулес. Словно пытаясь защититься, орхидея обернулась ими, будто покрывалом, и тихонько заскулила. И тогда потрясенный Геркулес наконец осознал ужасную правду.
Его орхидея была законченной трусихой. Возможно, в джунглях Амазонки она и могла нагнать страху на тамошних обитателей, но внезапная встреча с тетушкой Генриеттой деморализовала ее совершенно.
Тем временем предполагаемая жертва сначала долго и удивленно разглядывала эту диковину, затем, круто повернувшись на каблуках и направив на Геркулеса обвиняющий перст, прорычала:
— Геркулес! Бедняжка просто умирает от страха. Это ты ее напугал?
— Что вы, тетушка, — выдавил он дрожащим голосом, не смея поднять глаз от стыда и разочарования. — Может быть, она немного нервничает.
— Ты должен был раньше мне ее показать. Ты же знаешь, животных я люблю и умею с ними обращаться. Конечно, строгость тоже необходима, но главное — доброта. Доброта всегда действует положительно. Ну, глупышка, ну, перестань, не бойся, тетушка Генриетта тебя не съест.
Оцепенев от отчаяния, Геркулес наблюдал ужасную картину: тетушка Генриетта суетилась и причитала возле орхидеи до тех пор, пока та не прекратила жалобно скулить и судорожно кутаться в свои щупальца. Казалось, ее страх понемногу проходил.
Но когда она робко протянула свое щупальце и начала поглаживать пальцы тетушки Генриетты — этого кошмара он уже вынести не мог и, еле сдерживая рыдания, опрометью бросился из оранжереи.
Говорят, что с этого дня Геркулес стал совсем уж конченым человеком. Генриетта теперь приезжает почти каждый день навестить так полюбившуюся ей питомицу. Она терзает Геркулеса подозрениями, что он запугивает и мучает малышку. Привозит для любимицы такие лакомые кусочки, от которых даже псы с негодованием воротят нос, а орхидея их употребляет за милую душу. От этих «лакомств» омерзительный запах из оранжереи проникает теперь даже в дом.
— Такая вот история, — промолвил Гарри Пурвис, завершая свой странный рассказ. — Обе они — и орхидея, и тетушка Генриетта — совершенно счастливы. У тетушки появилась возможность о чем-то (а может быть, о ком-то) по-настоящему заботиться. Иногда, если по оранжерее проскакивает мышь, чудовищное растение начинает дрожать от страха, но тетушка всегда оказывается поблизости и успокаивает трусиху.
Ну а Геркулес навряд ли еще когда-нибудь решится совершить столь смелый поступок. Он совершенно утерял интерес к жизни, даже любимые кактусы и орхидеи его больше не занимают. Он теперь сам влачит совершенно жалкое растительное существование.
Перевод с англ. Т. Волковой

Урсула Ле Гуин
МЕДЛЕННО, КАК ИМПЕРИИ, И ДАЖЕ МЕДЛИТЕЛЬНЕЙ ИХ[1]

Только в самые первые десятилетия Лиги Земля посылала корабли на сверхдальние расстояния, за пределы системы, к звездам и дальше. Они искали миры, на которых бы не было следов деятельности или колоний Основателей на Хайне, совершенно чужих миров. Все Известные Миры вернулись к Хайнскому Истоку, и земляне, которые не только снабжались всем необходимым, но и были спасены хайнитами, возмутились этим. Они захотели выйти из семьи. Они захотели найти что-нибудь новое. Хайниты, как раздражающе понимающие родители, поддерживали их поиски и поставляли корабли и добровольцев, впрочем как и несколько других миров Лиги.
Все эти добровольцы в экипажи Сверхдальнего Поиска имели одну особенность: они были сумасшедшие.
С какой стати, в конце концов, здоровый человек должен лететь собирать информацию, которая не будет получена в течение пяти или десяти столетий? Интерференция космической массы не была еще исключена из операции ответа, и поэтому мгновенная связь была осуществима только в радиусе 120 световых лет. Исследователи вынуждены были находиться в полной изоляции. И, конечно, они не понимали, к чему могли вернуться, если бы они вернулись. Ни одно нормальное человеческое существо, которое на своем опыте испытало скольжение времени даже в пределах нескольких десятилетий в полете между мирами Лиги, не согласилось бы добровольно принять участие в путешествии во Вселенной, которое займет столетия. Разведчики были беглецами от действительности, неудачниками. Они были психи.
Десять из них поднялись на борт космического челнока в Смеминг-Порте и сделали разнообразные, но одинаково неуместные попытки познакомиться друг с другом в течение трех дней, пока челнок готовился доставить их на корабль «Гам». «Гам» — это сетианское уменьшительное имя, так же, как «Малышка» или «Петенька». В команде было два сетианца, два хайнита, один белден и пять землян; корабль сетианской постройки был зафрахтован Правительством Земли. Его пестрая команда поднималась на борт, продвигаясь по стыковочной трубе один за другим, как сообразительные сперматозоиды, пытающиеся оплодотворить Вселенную. Челнок отошел, и навигатор поставил «Гам» на курс. Корабль покрыл за несколько часов расстояние в несколько сотен миллионов миль от Смеминг-Порта и затем стремительно исчез.
Когда, спустя 10 часов 29 минут, или 256 лет, «Гам» вновь появился в нормальном пространстве, предполагалось, что он находится недалеко от звезды KQ-E-966 51. Об этом можно было судить достаточно уверенно, так как была видна золотая булавочная головка звезды. Где-то в пределах сферы с диаметром 400 миллионов километров находилась также зеленая планета, мир 4470, как было нанесено на карту сетианским картографом. Теперь корабль должен был найти планету. Это было не так легко сделать, как может показаться, имея перед собой 400-миллионнокилометровый стог сена. К тому же «Гам» не мог перемещаться в околопланетном пространстве с околосветовой скоростью; если бы он сделал это, то и он, и звезда KQ-E-966 51, и мир 4470, столкнувшись, прекратили бы свое существование. Он был вынужден красться, используя ракетный двигатель, со скоростью в несколько сотен миль в час. Математик-навигатор Аснанифойл знал очень хорошо, где должна была находиться планета, и полагал, что они могут выйти к ней в течение десяти земных дней. Тем временем члены команды разведчиков должны были узнать друг друга еще лучше.
— Я не могу выносить его, — сказал Порлок, специалист по неживой природе (химия плюс физика, астрономия, геология и т. д.), и маленькие капельки слюны появились у него на усах. — Этот тип нездоров. Я не могу понять, почему его сочли годным и включили в команду Поиска, если это не преднамеренный эксперимент на несовместимость, запланированный Советом с нами, как с подопытными кроликами.
— Мы обычно используем хомяков и хайнских вурдалаков, вежливо сказал специалист по живой природе (психология плюс психиатрия, антропология, экология и т. д.); он был хайнитом.
— Вместо кроликов. Впрочем, вы знаете, мистер Осден — это действительно очень редкий случай. В самом деле, он — первый случай полного излечения синдрома Рендера — разновидности младенческого аутизма, который считался неизлечимым. Великий психиатр Земли Хаммергельд доказал, что причина аутистического состояния в этом случае — это сверхнормальная сопереживательная способность, и разработал соответствующее лечение. Мистер Осден — первый пациент, подвергшийся этому лечению. Фактически он жил с доктором Хаммергельдом до 18 лет. Лечение было полностью успешным.
— Успешным?
— О, да. Несомненно, он не аутистик.
— Нет, он невыносим!
— Э, видите ли, — сказал Маннон, незаметно разглядывая капельки слюны на усах Порлока, — нормальная защита — агрессивная реакция между встречающимися людьми, — скажем только для примера, вами и мистером Осденом, — это то, что вы едва осознаете; привычка, манеры. Отсутствие внимания позволяет вам преодолеть эту реакцию. Вас учили игнорировать ее до такой степени, когда вы даже должны отрицать ее существование. Тем не менее мистер Осден, будучи человеком со сверхсопереживательной способностью, чувствует ее. Он знает свои чувства и то, что чувствуете вы, и трудно сказать, кто есть кто. Скажем так: в вашей эмоциональной реакции к нему имеется нормальный элемент по отношению к любому незнакомцу, когда вы его встречаете, плюс спонтанное чувство неприязни от его взгляда, одежды или рукопожатия — неважно по какой еще причине. Он чувствует эту неприязнь. Так как его аутистическая система неразборчива, он прибегает к агрессивно-защитному механизму, отвечая таким образом на агрессивность, с которой вы невольно к нему относитесь.
Маннон продолжал довольно долго.
— Ничто не дает человеку права быть таким ублюдком, — сказал Порлок.
— Не может ли он отключиться от нас? — спросил Харфекс, биолог, другой хайнит.
— Это — как слух, — сказала Олеро, ассистент специалиста по неживой природе, сидевшая и покрывавшая ногти на пальцах ног флуоресцентным лаком. — Эмпатия работает не зная отдыха, она всегда включена. Он слышит наши чувства независимо от того, хочет ли он этого или нет.
— Знает ли он, о чем мы думаем сейчас? — спросил Эсквана, инженер, поглядев на всех с неподдельным страхом.
— Нет, — огрызнулся Порлок. — Эмпатия — это не телепатия! Никто из страдающих этим синдромом не получил возможности к телепатии.
— Однако, — заметил Маннон с едва заметной улыбкой, — как раз перед тем, как мы покинули Хайн, там был интересный доклад с одного из недавно вновь открытых миров. Некто Роканнон сообщил, что готовится к публикации доступная техника телепатии, существующая среди мутировавшей гуманоидной расы; я только увидел конспект в HILF Бюллетене, но…
Он продолжал. Остальные уже поняли, что они могут беседовать, пока Маннон продолжал говорить; казалось, он не следил за происходящим, однако не пропускал ничего из того, о чем они говорили.
— Тогда почему он ненавидит нас? — спросил Эсквана.
— Никто не ненавидит вас, милый Андре, — сказала Олеро, рисуя на большом ногте левой ноги Эскваны аляповатую флуоресцентную гвоздику. Инженер покраснел и неопределенно улыбнулся.
— Он поступает так, как если бы ненавидел нас, — сказала Хаито, координатор. Это была изящная женщина чисто азиатского происхождения, с удивительным голосом, тихим, глубоким и нежным как у молодой лягушко-быка. — Почему, если он страдает от нашей враждебности, он усиливает ее постоянными нападками и оскорблениями? Не могу сказать, что я высокого мнения о лечении доктора Хаммергельда, в самом деле, Маннон: аутизм должен быть предпочтительней…
Она остановилась. В главный отсек вошел Осден. Он выглядел как человек, с которого содрали кожу. Его кожа была неестественно белой и тонкой, обнажая кровеносные сосуды, как вылинявшая дорожная карта с красными и синими линиями. Его адамово яблоко, мышцы вокруг рта, кости и связки его запястий и рук — все выступало так отчетливо, как будто служило наглядным пособием для уроков анатомии. Волосы его были бледно-ржавые, как давно засохшая кровь. У него были брови и ресницы, но они были видны лишь при особом освещении; в обычных же условиях видны были кости глазных впадин, вены век и бесцветные глаза. Это были не красные глаза, так как он не был настоящим альбиносом, но они не были ни голубыми, ни серыми; глаза Осдена были лишены цвета, в них застыла холодная водянистая прозрачность, в которую можно было падать до бесконечности. Он никогда ни на кого прямо не глядел. В его лице отсутствовало выражение, как в анатомическом рисунке или черепе.
— Я согласен, — сказал он высоким, неприятным тенором, что даже аутистическое отклонение было бы предпочтительнее смога низких, заимствованных чувств, которыми вы, люди, окружаете меня. Ради чего ты, Порлок, источаешь сейчас ненависть? Неужели ты не можешь выносить моего вида? Пойди побалуйся немножко онанизмом, как ты это делал прошлой ночью. Это улучшает твой виброфон. Какой дьявол передвинул здесь мои кассеты? Не трогайте мои вещи, никто. Я этого не люблю.
— Осден, — сказал Аснанифойл своим медленным раскатистым голосом. — почему ты такой мерзавец?
Андер Эсквана съежился и закрыл лицо руками. Ссора напугала его. Олеро смотрела с безучастным, но все же нетерпеливым выражением — вечный зритель.
— Почему бы нет? — сказал Осден. Он не глядел на Аснанифойла и физически держался как можно дальше от них всех, насколько мог делать в переполненном салоне, — Никто из вас своими чувствами не дал ни малейшего повода, чтобы я изменил свое поведение.
Харфекс, человек сдержанный и терпеливый, сказал:
— Основанием является то, что мы намереваемся провести несколько лет вместе. Жизнь будет лучше для всех нас, если…
— Неужели вы не можете понять, что я не дам и ломаного гроша за вас всех? — сказал Осден, взял свои микропленки и вышел. Эскавана ушел спать. Аснанифойл рисовал скользящий поток воздуха пальцем и бормотал Ритуальные Простые Числа.
— Вы не можете объяснить его присутствие в команде ничем иным, кроме как заговором Совета Земли. Я увидел это почти сразу. Наша экспедиция обречена на провал, — прошептал Харфекс координатору, мельком глянув через плечо. Порлок вертел пуговицу на ширинке, в глазах его стояли слезы.
— Я говорил вам, что все они были сумасшедшими, но вы подумали, что я преувеличиваю.
Все же им можно было найти оправдание. Разведчики Сверхдальнего Поиска ожидали найти своих товарищей по команде интеллигентными, хорошо подготовленными, незацикленными и лично симпатичными. Им предстояло работать в тесном соседстве и опасных местах, и они могли ожидать друг от друга, что паранойи, депрессии, мании, страхи и принуждения будут достаточно умеренными, что позволит установить личные отношения, по крайней мере, в течение большей части экспедиции. Осден мог бы быть интеллигентным, но его подготовка была поверхностной, а его личность гибельной. Он был послан только в расчете на свой единственный дар, эмпатическую силу: собственно говоря, в расчете на широковолновую биоэмпатическую восприимчивость. Его талант был особого рода: он мог принимать эмоциональные волны от любого существа, наделенного чувствительностью. Он мог разделить вожделение с белой крысой, боль с раздавленным тараканом, фототропизм с мотыльком. Одним словом, Совет решил, что было бы полезно знать, не обладает ли что-нибудь, находящееся поблизости, чувствительностью и, если это так, каковы эти чувства по отношению к Разведчикам.
Должность Осдена была совершенно новая: он был сенсор команды.
— Что такое чувство, Осден? — однажды спросила его Хаито Томико в главном отсеке, стараясь наладить взаимоотношения. — Что это на самом деле, что вы извлекаете с помощью своей эмпатической чувствительности?
— Дерьмо, — ответил мужчина своим высоким неприятным голосом. — Психические испражнения животного царства. Я пробираюсь по вашему калу.
— Я стараюсь узнать некоторые факты. — Она думала, что ее тон удивительно спокоен.
— Тебя не интересуют факты. Ты стараешься понять меня. С некоторым страхом, некоторым любопытством и большой долей отвращения. С таким же чувством ты бы перевернула дохлую собаку, чтобы увидеть ползающих червей. Поймете ли вы раз и навсегда, что я не хочу быть понятым, что я хочу, чтобы меня оставили одного! — Его кожа покрылась красными и фиолетовыми пятнами, голос стал выше, и, так как она молчала, он закричал: — Иди заройся в собственный помет, ты, желтая сука!
— Успокойся, — сказала она все еще спокойно, но тотчас оставила его и ушла в свою каюту. Конечно, он правильно понял ее мотивы; ее вопрос был в значительной мере предлогом, только попыткой заинтересовать его. Но что в этом плохого? Разве такая попытка не заключает в себе уважения к другому? В момент, когда она задавала вопрос, она чувствовала, самое большее, легкое недоверие к нему; она обычно сочувствовала ему — бедный, надменный, злобный негодяй, «мистер-без-кожи», как назвала его Олеро. Чего он ожидает, после того как так поступает? Любви?
— Мне кажется, он не может выносить кого бы то ни было, сочувствующего ему, — сказала Олеро, лежа на нижней койке и намазывая позолоту на соски грудей.
— Следовательно, он не может сформировать никаких человеческих отношений. Все, что его доктор Хаммергельд сделал, это вывернул аутизм наизнанку.
— Бедный ублюдок, — сказала Олеро. — Томико, ты не будешь возражать, если Харфекс зайдет ненадолго сегодня вечером?
— Разве ты не можешь пойти в его каюту? Я всегда чувствую себя больной, когда вынуждена сидеть в главном салоне с этой проклятой очищенной репой.
— Должно быть, ты ненавидишь его, не так ли? Я уверена, он чувствует это. Но я спала с Харфексом и прошлую ночь тоже, и Аснанифойл может возревновать, так как они делят каюту. Было бы лучше встретиться здесь.
— Обслужи их обоих, — сказала Томико с грубостью оскорбленной скромности. Ее Земная субкультура — Восточная Азия была пуританской, она была воспитана целомудренной.
— За ночь я люблю только одного, — ответила Олеро с невинной искренностью. Белден, Планета-Сад, никогда не обнаруживала девственности и не открывала колес.
— Тогда попробуй Осдена, — сказала Томико. Ее собственная неуравновешенность была редко столь очевидна, как сейчас: глубоко запрятанная неуверенность в самой себе, проявляющаяся сама по себе как разрушающая сила. Она добровольно согласилась на эту работу, потому что, по всей вероятности, в ней не было никакой пользы.
Маленькая Олеро подняла глаза на нее, кисточка в руке, глаза широко раскрыты.
— Томико, так говорить неприлично.
— Почему?
— Это было бы отвратительно. Меня не влечет к Осдену!
— Я не знала, что это имеет для тебя значение, — сказала Томико безразлично, хотя она знала. Она собрала какие-то бумаги и покинула каюту, заметив: — Я надеюсь, ты и Харфекс или кто бы там ни был, закончите к последнему звонку; я устала.
Олеро заплакала. Слезы капали на ее маленькие позолоченные соски. Она плакала легко. Томико в последний раз плакала, когда ей было десять лет.
Экипаж корабля был невесел, но обстановка стала меняться к лучшему, когда Аснанифойл и его компьютеры засекли мир 4470. Он лежал там, темно-зеленый драгоценный камень, как правда на дне гравитационного колодца. Как только они увидели увеличивающийся желто-зеленый диск, чувство взаимности стало усиливаться в них. Эгоизм Осдена, его тщательное бессердечие послужило сейчас объединению остальных.
— Возможно, — сказал Маннон, — он послан в качестве мальчика для порки. То, что земляне называют «козел отпущения». Возможно, в конце концов, его влияние окажется благотворным.
И никто не стал возражать, так как все они старались быть добры друг к другу. Они вышли на орбиту. На ночной стороне не было огней, на континентах ничего, что можно было бы приписать животным, которым присуще созидательное начало.
— Нет людей, — пробормотал Харфекс.
— Конечно, нет, — оборвал Осден, который сидел перед телеэкраном, надев на голову полиэтиленовый пакет. Он утверждал, что пластик не пропускает эмпатический шум, который он фиксировал от остальных членов экипажа. — Мы находимся на расстоянии двухсот световых лет от границ Экспансии Хайна, а за ее пределами людей нет. Нигде. Уж не думаете ли вы, что Создатель совершил бы эту ужасную ошибку дважды?
Никто не обратил на него большого внимания; они не отрываясь смотрели на эту желто-зеленую необъятность внизу под ними. Они были неприспособлены к жизни среди людей, и то, что они увидели, было не запустением, а спокойствием. Даже Осден не выглядел абсолютно невозмутимым как обычно, он хмурился.
Снижение в огне на море; воздушная разведка; посадка. Равнина из чего-то, похожего на траву, толстое, зеленое, сгибающее стебли; все это окружало корабль, обступило выдвинутые телекамеры, испачкало объективы мелкой пыльцой.
— Это выглядит как беспримесная фитосфера, — сказал Харфекс, — Осден, ты улавливаешь что-нибудь, обладающее чувствительностью?
Они все повернули голову к сенсору. Он оставил экран и наливал себе чашку чая. Он не ответил. Он редко отвечал на заданные вопросы. Казарменная строгость воинской дисциплины была совершенно непригодна для этих команд сумасшедших ученых; их командная цепочка лежала где-то между парламентской процедурой и приказом чмокнуть в щечку; офицер регулярной армии сошел бы с ума от всего этого. По непостижимому решению Совета, однако, доктор Хаито Томико была наделена полномочиями координатора, и она теперь в первый раз воспользовалась своей прерогативой.
— Мистер сенсор Осден, — сказала она, — пожалуйста, ответьте мистеру Харфексу.
— Как я могу «понять» что-нибудь оттуда, — сказал Осден не поворачиваясь, — если здесь я окружен чувствами девяти неврастенических человекообразных, кишащих вокруг меня, как глисты в помойном ведре. Когда мне будет что сказать, я скажу вам. Я сознаю свою ответственность в качестве сенсора. Если же ты, тем не менее, осмелишься опять приказать мне, координатор Хаито, я буду считать себя свободным от этой ответственности.
— Очень хорошо, мистер сенсор. Я верю, что впредь приказы будут не нужны, — низкий голос Томико был спокойным, но показалось, что Осден слегка вздрогнул, как будто волна ее сдерживаемой злобы ударила его в спину с физической силой.
Предчувствие биолога подтвердилось. Когда они начали полевые анализы, они не обнаружили животных даже на уровне микромира. Никто здесь никого никогда не съел. Все живые формы были фотосинтезирующие или сапрофаги, получающие жизнь от света или смерти, но не от жизни. Растения, бесконечные растения, ни один из видов не был знаком пришельцам из дома Человека. Бесконечные оттенки и интенсивность зеленого, фиолетового, пурпурного, коричневого, красного. Бесконечная тишина. Только ветер, шевелящий листья и ветви, теплый ласковый ветер, наполненный спорами и пыльцой, развевающий сладкую бледно-зеленую пыль над пространствами огромных трав, степями, которые не рождали вереска, бесцветочными лесами, по которым не ступала нога, на которые ни один глаз не бросил взгляд. Теплый, печальный мир, печальный и безмятежный. Разведчики брели, как отдыхающие, по солнечным равнинам филиоформ, тихо говорили друг с другом. Они знали, что их голоса разрушали тишину ста миллионов лет, тишину ветра и листьев, листьев и ветра, дующего, затихающего и пробуждающегося вновь. Они разговаривали тихо, но, будучи человеческими существами, они разговаривали.
— Бедный старый Осден, — сказала Дженни Чонг, биолог и техник, ведя геликоптер в район Северного Полюса. — Вся эта фантастически высокая точность воспроизведения засунута в его мозг, а здесь ничего не принять. Какое фиаско.
— Он сказал мне, что ненавидит растения, — заметила Олеро, хихикнув. — Надо думать, он полюбит их, так как они меньше надоедают ему, чем мы.
— Я не могу сказать, что сам люблю эти растения, — сказал Порлок, глядя вниз на пурпурные волны Северного Приполярного леса. — Одно и то же. Нет разума. По-прежнему. Человек, оказавшись один в таком лесу, непременно сойдет с ума.
— Но это все живое, — сказала Дженни Чонг.
— А если это живет, Осден его ненавидит.
— На самом деле он не настолько плох, — сказала Олеро великодушно.
Порлок взглянул на нее косо и спросил:
— Ты не спала с ним, Олеро?
Олеро разрыдалась и закричала:
— Вы, земляне, хамы!
— Нет, она не спала, — Дженни Чонг тут же встала на ее защиту. — А ты, Порлок?
Химик неловко засмеялся:
— Ха, ха, ха.
Брызги слюны появились у него на устах.
— Осден не выносит, когда к нему прикасаются, — дрожа, сказала Олеро. — Однажды я случайно натолкнулась на него, и он отшвырнул меня прочь, как если бы я была какая-нибудь грязная тряпка.
— Он — само зло, — сказал Порлок неестественным голосом, испуганно глядя на обеих женщин. — Закончится все тем, что он сорвет нашу экспедицию, мешая тем или иным способом. Запомните мои слова. Он не приспособлен для жизни с другими людьми!
Они приземлились на Северном Полюсе. Полуночное солнце тлело над низкими холмами. Короткие, бесстрастные зеленоватые биоформы тянулись в разные стороны. Но все — на юг. Подавленные невероятной тишиной, трое исследователей приготовили приборы и инструменты и начали работать, три вируса, мелко трясущиеся на теле неподвижного гиганта.
Никто не предлагал Осдену принять участие в исследовании планеты ни в качестве пилота, ни в качестве фотографа или регистратора, а сам он никогда не изъявлял желания, поэтому он редко покидал базовый лагерь. Он вводил ботанические таксономические данные, полученные от Харфекса, и помогал в качестве ассистента Эскване, в функции которого входило главным образом поддержание в рабочем состоянии и ремонт систем и механизмов. Эсквана стал помногу спать, по двадцать пять и более из тридцати часовых суток планеты, отключаясь прямо во время ремонта радио или проверки схемы управления геликоптера. Однажды координатор Томико осталась на базе, чтобы понаблюдать за ним. В лагере больше никого не было, кроме Посвет Ту, которая была подвержена эпилептическим припадкам; Маннон закрыл ее сегодня в лечебный контур в состоянии превентивной кататонии. Тонико начитывала рапорты в запоминающий банк и не упускала из виду Осдена и Эсквану. Прошло два часа.
— Должно быть, ты хочешь использовать восемьсот шестьдесят микровальдоз, чтобы скрепить это соединение.
— Естественно.
— Извини, я заметил, что там было восемьсот сорок.
— И заменишь их, когда я использую восемьсот шестьдесят. Когда я не буду знать, что и как делать, инженер, спрошу совета у тебя.
Минуту спустя Томико оглянулась. Так и есть. Эсквана спал, засунув палец в рот и уронив голову на стол.
— Осден.
Он не откликнулся, белое лицо не повернулось, но нетерпеливым движением он дал понять, что слушает.
— Ты не можешь не знать о ранимости Эскваны.
— Я не несу ответственности за его психические реакции.
— Но в ответе за свои собственные. Эсквана здесь — необходимый человек для нашей работы, а ты — нет. Если ты не можешь контролировать свою враждебность, ты должен всецело избегать его.
Осден положил инструменты и встал.
— С удовольствием, — сказал он своим мстительным, царапающим голосом. — Возможно, ты не можешь представить, каково испытывать иррациональные страдания Эскваны. Быть вынужденным разделять его ужасную трусость, съеживаться вместе с ним от страха перед всем!
— Не пытаешься ли ты оправдать свою жестокость по отношению к нему? По-моему, ты бы должен обладать большим самоуважением. — Томико вдруг поняла, что дрожит от злости. — Если твоя эмпатическая сила действительно дает тебе возможность разделить страдания Андера, почему это не пробудило в тебе ни малейшего сострадания?
— Сострадания? — сказал Осден. — Сострадание. Что ты знаешь о сострадании?
Она пристально смотрела на него, но он не хотел глядеть на нее.
— Не мог бы ты передать словами твое эмоциональное состояние по отношению ко мне в данный момент?
Он сказал:
— Я могу это сделать значительно более точно, чем ты. Меня учили анализировать такие ответы, когда я их получаю. И я делаю все, чтобы получить их.
— Но как ты можешь ожидать, что я буду испытывать какие-либо добрые чувства по отношению к тебе, когда ты так себя ведешь?
— Причем здесь, как я веду себя, ты, глупая свиноматка, ты думаешь, от этого что-нибудь зависит? Ты думаешь, что средний человек — это источник любви или доброты? По мне лучше быть ненавидимым, презираемым. Не быть женщиной или трусом, я предпочитаю, чтоб меня ненавидели.
— Это вздор. Жалость к самому себе. Каждый человек имеет…
— Но я не человек. — сказал Осден. — Есть все вы, и есть я сам. Я один.
Испуганная этой вспышкой крайнего солипсизма, она некоторое время молчала, наконец сказала, без злобы и жалости, как врач, ставящий диагноз:
— Ты обязательно убьешь себя, Осден.
— Это суждено тебе, Хаито, — сказал он насмешливо. — Я не подвержен депрессии, и нож для харакири не для меня. Чем, по-твоему, я должен здесь заниматься?
— Оставь лагерь. Пожалей самого себя и нас. Возьми геликоптер и накопитель информации и отправляйся считать виды растений. В лесу — Харфекс еще не добрался туда. Возьми участок леса в сто квадратных метров в пределах радиосвязи, но за пределами твоего эмпатического радиуса. Связь в восемь и двадцать четыре часа. Ежедневно.
Осден улетел. В течение пяти дней от него ничего не поступало, кроме лаконичного «Все хорошо» дважды в день. Атмосфера в базовом лагере сменилась, как театральная декорация. Эсквана стал бодрствовать по восемнадцать часов в сутки. Посвет Ту достала свою звездообразную лютню и извлекала музыку небесной красоты (музыка приводила Осдена в бешенство). Маннон, Харфекс, Дженни Чонг и Томико — все отказались от транквилизаторов. Порлок на радостях выгнал что-то в своей лаборатории и все это выпил один. У него было похмелье. Аснанифойл и Посвет Ту продолжали всю ночь Числовую Эпифанию, эту мистическую оргию высшей математики, которая является высшим удовольствием для религиозной сетианской души. Олеро спала с каждым. Работа подвигалась хорошо.
Однажды специалист по неживой природе, работавший среди высоких, толстых стеблей граминиформ, вернулся на базу бегом.
— В лесу что-то есть! — Его глаза были выпучены, он задыхался, его усы и пальцы тряслись. — Что-то большое. Двигалось за мной. Нагибаясь, я наносил отметки уровня. Это набросилось на меня. Как будто упало с деревьев. Сзади. — Он оглядел всех, в широко раскрытых глазах застыли ужас и изнеможение.
— Садись, Порлок. Не воспринимай это так серьезно. А теперь расскажи еще раз, с самого начала. Итак, ты что-то увидел.
— Не так отчетливо. Только движение. Решительное. Я не знаю, что это могло быть. Что-то самодвижущееся. В деревьях, древоформах или как там еще мы их называем. На опушке леса.
Харфекс выглядел мрачным.
— Здесь нет ничего, что могло бы напасть на вас, Порлок. Здесь нет даже микроорганизмов. Здесь не может быть большого животного.
— Может, вы видели внезапно упавший эпифит или сзади вас упала виноградная лоза?
— Нет, — сказал Порлок. — Это свалилось на меня сквозь ветки. Быстро. Когда я обернулся, это сразу исчезло, куда-то вверх. Оно производило шум, своего рода треск. Если это было не животное, одному Богу известно, что это могло быть. Оно было большим — таким большим… как человек, по меньшей мере. Может быть, красноватого цвета. Я не мог рассмотреть. Я не уверен.
— Это был Осден, — сказала Дженни Чонг. — В роли Тарзана. — Она нервно хихикнула, и Томико подавила дикий беспомощный смех. Но Харфекс не улыбнулся.
— Человек начинает чувствовать себя неловко под древоформами, — произнес он своим вежливым, сдержанным голосом. — Я это заметил. Может быть, поэтому я не могу работать в лесах. Есть какая-то гипнотическая особенность в окраске и промежутках между стволами и ветками, особенно на солнечной стороне; и из выброшенных спор прорастают настолько упорядочение и правильно расположенные растения, что это кажется неестественным. Я нахожу это очень неприятным, субъективно говоря. А что, если более сильный эффект подобного рода может вызвать галлюцинации?
Порлок тряхнул головой. Облизнул губы.
— Оно так было, — сказал он. — Что-то. Двигающееся с какой-то целью. Попытавшееся напасть на меня сзади.
Когда Осден этой ночью вышел на связь, как всегда точно в двадцать четыре часа, Харфекс рассказал ему о сообщении Порлока:
— Не сталкивались ли вы с чем-нибудь таким, мистер Осден, что могло бы подтвердить впечатления мистера Порлока о существовании в лесу передвигающихся, чувствующих живых форм?
— С-с-с, — сказало радио сардонически. — Нет. Дерьмо, произнес неприятный голос Осдена.
— Вы находитесь сейчас в лесу дальше, чем любой из нас, сказал Харфекс с неослабевающей вежливостью, — не согласитесь ли вы с моим впечатлением, что обстановка в лесу способна дестабилизировать восприятие и, возможно, вызвать галлюцинации?
— С-с-с. Я соглашусь, что восприятие Порлока легко дестабилизировать. Заприте его в лаборатории. Так он меньше навредит. Что-нибудь еще?
— Не сейчас, — сказал Харфекс, и Осден отключился.
Никто не мог поверить в рассказ Порлока, и никто не мог не доверять ему. Он был уверен, что нечто, нечто большое, попыталось внезапно напасть на него. Было трудно это отрицать, так как они находились в чужом мире и каждый, кто входил в лес, чувствовал некоторый озноб и смутное предчувствие под деревьями.
— Конечно, будем называть их деревьями, — заметил Харфекс. — Это в самом деле деревья, но только, конечно, совершенно другие.
Они все согласились, что в лесу чувствовали себя не совсем в своей тарелке, как будто сзади за ними что-то следовало.
— Мы должны выяснить, в чем дело, — сказал Порлок и попросил послать его в качестве временного помощника биолога, как Осдена, в лес для исследования и наблюдения. Олеро и Дженни Чонг вызвались отправиться вдвоем. Харфекс высадил их в лесу около базового лагеря, обширного массива, занимающего четыре пятых Континента Д. Он запретил поясное оружие. Они не должны были выходить за пределы участка Осдена. Регулярно, дважды в сутки, они выходили на связь. Так продолжалось в течение трех дней. Порлок доложил о мимолетном видении, которое, по его мнению, имело большую полувертикальную фигуру и двигалось среди деревьев к реке; Олеро была уверена, будто слышала, как что-то бродило около палатки во вторую ночь.
— На этой планете животных нет, — сказал Харфекс затравленно. Затем Осден пропустил свой утренний сеанс связи. Томико подождала около часа, затем вылетела с Харфексом в тот район, где, как доложил Осден, он находился прошлой ночью. Но когда геликоптер завис над морем пурпурных листьев, бесконечным, непроницаемым, ее охватило паническое отчаяние.
— Как мы найдем его здесь?
— Он доложил, что остановился на берегу реки. Поищем его геликоптер; его палатка будет рядом, а он не должен был уйти далеко от нее. Подсчет видов — медленная работа. Вот и река.
— Это его машина, — сказала Томика, уловив яркий чужеродный блеск среди растительных красок и теней. — Давай сюда.
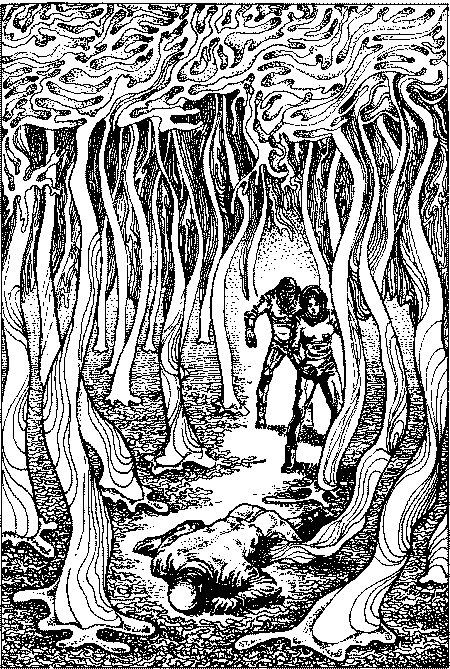
Она зафиксировала аппарат над землей и выдвинула лестницу. Вместе с Харфексом спустились вниз.
Море жизни сомкнулось у них над головой.
Как только ее ноги коснулись поверхности, она расстегнула кнопку на кобуре, но потом, взглянув на Харфекса, который был безоружен, решила не доставать оружие, хотя в любой момент готова была сделать это. Стояла абсолютная тишина. Как только они оказались в нескольких метрах от медленной, коричневой реки, свет стал тусклый. Толстые стволы стояли довольно далеко друг от друга, почти на одинаковом расстоянии, почти одинаковые; они были мягкокожие, некоторые казались гладкими, а другие губчатыми, серые или зелено-коричневые и коричневые, перевитые веревками ползучих растений и украшенные гирляндами эпифитов, вытягивающие негнущиеся, спутанные охапки больших, блюдцеобразных, темных листьев, которые образовывали слоеную крышу толщиной двадцать — тридцать метров. Почва под ногами была пружинистая, как батут, каждый дюйм ее был переплетен корнями и усыпан низкой порослью с мясистыми листьями.
— Вот его палатка, — сказала Томико и испугалась звука собственного голоса в этом безмолвии. В палатке они увидели спальник, пару книжек, коробку с продуктами. «Мы должны кричать, звать его», — подумала она, но даже не предложила этого, не сделал этого и Харфекс. Они кружили вокруг палатки, тщательно следя за тем, чтобы не потерять друг друга из виду в этом лесу в сгущающейся темноте.
Она споткнулась о тело Осдена не далее тридцати метров от палатки, ориентируясь на белесоватый отблеск выпавшего блокнота. Он лежал лицом вниз между двумя деревьями с огромными корнями. Его голова и руки были покрыты кровью, кое-где засохшей, а кое-где еще сочащейся, красной.
Рядом с ней появился Харфекс, его бледное лицо хайнита казалось в этой темноте совершенно зеленым.
— Мертв?
— Нет, его ударили. Сзади. — Пальцы Томико ощупывали окровавленный череп, виски, затылок. — Оружие или инструмент. Я не нахожу перелома.
Как только она перевернула тело Осдена так, что они смогли его поднять, его глаза открылись. Она держала его, низко наклонившись над его лицом. Бледные губы Осдена скривились от боли. Страх вошел в нее. Она громко вскрикнула два или три раза и попыталась убежать, волоча ноги и спотыкаясь в страшной тишине. Харфекс поймал ее, и от его прикосновения и звука голоса страх ее несколько уменьшился.
— Что это? Что это такое? — говорил он.
— Я не знаю, — она всхлипнула. Ее сердце все еще трепетало в груди, она не могла ясно видеть. — Страх это… Я испугалась. Когда я увидела его глаза.
— Мы оба нервничаем. Я не понимаю этого…
— Теперь все в порядке, пойдем, он нуждается в нашей помощи.
Действуя с бессмысленной поспешностью, они приволокли Осдена на берег реки; приподняли и обвязали канатом под мышки; он висел, словно мешок, слегка раскачиваясь под клейким темным морем листьев. Они втолкнули его в геликоптер и минуту спустя уже летели над степью. После того как Томико настроилась на радиомаяк базового лагеря, она глубоко вздохнула, и ее глаза встретились с глазами Харфекса.
— Я так испугалась. Я почти потеряла сознание. Со мной еще такого не случалось.
— Я тоже был напуган… без видимой причины, — сказал хайнит, и действительно, он выглядел потрясенным и каким-то постаревшим. — Не так сильно, как ты. Но беспричинно.
— Это случилось, когда я прикасалась к нему, держала его. Мне показалось, что в какой-то момент он пришел в сознание.
— Эмпатия… Я надеюсь, он сможет рассказать нам, что на него напало.
Осден, как сломанная кукла, покрытый кровью и грязью, так и полулежал на задних сидениях, как они свалили его, в безумной поспешности стремясь выбраться из леса. На базе их возвращение вызвало большую панику.
Неумелая жестокость нападения была зловещей и ставила в тупик. Так как Харфекс упорно отрицал всякую возможность животной жизни, они стали думать о чувствующих растениях, растительных чудовищах, психических проекциях. Латентная фобия Дженни Чонг вновь заявила о себе, и она могла говорить только о темных «Ego»,[2] которые повсюду следовали за людьми у них за спиной. Она, Олеро и Порлок были отозваны на базу, которую ни у кого не было особого желания покинуть.
Осден потерял добрую порцию крови за три или четыре часа, что он лежал в лесу, а от сотрясения и сильной контузии у него наступил шок и предкоматозное состояние. Когда оно сменилось легкой лихорадкой, он с мольбой в голосе несколько раз позвал: «Доктор Хаммергельд». Когда он спустя два дня, показавшихся мучительно долгими, полностью пришел в себя, Томико позвала Харфекса в его каюту.
— Осден, можете вы сказать нам, что напало на вас?
Бледные глаза скользнули мимо лица Харфекса.
— На вас напали, — сказала Томико мягко. Бегающий взгляд был знаком до ненависти, но она была физиком, человеком, защищающим от опасности. — Может быть, вы еще не вспомнили. Что-то напало на вас. Вы были в лесу…
— Что… в лесу?
Он жадно глотнул воздух. Выражение проясняющегося сознания появилось у него на лице. Спустя некоторое время он произнес:
— Я не знаю.
— Вы видели, что напало на вас, — сказал Харфекс.
— Я не знаю.
— Теперь вы вспомните это?
— Я не знаю.
— Все наши жизни могут зависеть от этого. Вы должны сказать нам, что вы увидели!
— Я не знаю, — повторил Осден, всхлипывая от слабости. Он был слишком слаб, чтобы скрывать, что он знает ответ. Порлок, стоя поблизости, жевал свои усы цвета перца и старался услышать, о чем говорили в каюте.
Харфекс наклонился над Осденом и сказал: «Ты нам скажешь». Томико пришлось энергично вмешаться.
Харфекс сдерживал себя с таким трудом, что на него было больно смотрел. Он ушел в свою каюту, где, без сомнения, принял двойную или тройную дозу транквилизаторов. Остальные мужчины и женщины, разбросанные по большому хрупкому зданию — длинный главный холл и десять кают-спален, ничего не сказали, но выглядели подавленными и раздраженными. Осден, как всегда, даже теперь имел над ними всеми власть. Томико, наклонившись, смотрела на него со жгучей ненавистью, которая разъедала ей горло как желчь. Этот чудовищный эготизм, который сам по себе питал это чувство в других, это абсолютное себялюбие, было хуже, чем любое, самое ужасное физическое уродство. Как врожденный монстр, он не должен жить. Он должен умереть. Почему ему не размозжили голову?
Однажды он лежал безжизненный и белый, беспомощно вытянув руки вдоль туловища, бесцветные глаза были широко открыты, и из уголков бежали слезы. Он пытался защититься.
— Нет, — сказал он слабым хриплым голосом и попытался поднять руки, чтобы закрыть голову. — Нет!
Она села на складной стул рядом с кроватью и через несколько секунд положила свою руку на его. Он попытался вырваться, но она удержала ее силой.
Повисла долгая тишина.
— Осден, — наконец прошептала она. — Извини меня, извини меня. Я хочу, чтобы ты поправился. Позволь мне хотеть, чтобы тебе было хорошо, Осден. Я не хочу причинить тебе вреда. Послушай, теперь я должна знать. Это был один из нас. Правда? Нет, не отвечай, только скажи, если я ошибаюсь, но я не ошибаюсь… Конечно, на этой планете есть животные. Их десять. Я не спрашиваю, кто это был. Не в этом дело, не так ли? Именно теперь это могла быть я. Я понимаю это. Я не поняла, как это произошло, Осден. Ты не можешь представить, как это трудно для нас понять… Но послушай. Если бы была любовь, вместо ненависти и страха… Разве любви никогда не было?
— Нет.
— Почему нет? Почему ее не может быть никогда? Неужели человеческие существа все такие слабые? Это страшно. Ничего. Не беда. Не беспокойся. Не шуми. По крайней мере, сейчас-то это не ненависть, ведь так? По меньшей мере, симпатия, участие, доброжелательность. Ты должен чувствовать это, Осден. Ты это чувствуешь?
— Среди прочего другого, — сказал он почти неслышно.
— Шум от моего подсознания, наверное. И кого-нибудь еще в этой комнате. Послушай, когда мы нашли тебя там, в лесу, когда я старалась перевернуть тебя, ты ненадолго пришел в себя, и я почувствовала ужас, исходящий от тебя. На минуту я сошла с ума от страха. Когда я это почувствовала, ты испугал меня?
— Нет.
Ее рука все еще лежала на его руке, а он, расслабленный, медленно засыпал, как человек, получивший облегчение от мучившей его боли.
— Лес, — пробормотал он; она едва могла расслышать. — Боюсь.
Она не сжимала больше его руку, а просто держала в своей и смотрела, как он засыпал. Она знала, что она чувствовала и что, следовательно, должен чувствовать он. Она была уверена в этом: существует только одно чувство или состояние человеческого существа, которое может так, целиком и полностью перевернуть все в тебе самом, за один миг заставить все заново переосмыслить. В Великом языке Хайна есть одно слово ONTA, для любви и для ненависти. Она, конечно же, не влюбилась в Осдена, это было нечто иное. То, что она испытывала к нему, было ONTA, противоположность ненависти. Она держала его руку, и между ними протекал ток, божественное электрическое прикосновение, которого он всегда боялся. По мере того как он погружался в сон, кольцо анатомических наглядных мускулов вокруг его рта разжималось, и Томико увидела на его лице то, что никто из них никогда не видел, едва уловимо — улыбку. Скоро она истаяла. Осден спал.
Он был вынослив; на следующий день он уже сидел и хотел есть, Харфекс пытался допросить его, но Томико запретила. Она повесила лист полиэтилена на дверь его каюты, как это часто делал сам Осден.
— Это блокирует твою эмпатическую восприимчивость? — спросила она, и он ответил сухим осторожным тоном, каким они теперь разговаривали друг с другом:
— Нет.
— Ну хоть ослабляет?
— Отчасти. Больше самовнушение. Доктор Хаммергельд думал, это срабатывало… Может, так оно и есть, чуть-чуть.
Однажды была любовь. Испуганное дитя, задыхающееся от прилива крови под действием приливов-отливов, избиваемое гигантскими эмоциями взрослых, тонущий ребенок, спасенный одним человеком. Отец-Мать-Бог: и ничего другого.
— Он еще жив? — спросила Тонико, думая о невероятном одиночестве Осдена и странной жестокости великих врачей. Она вздрогнула, услышав его громкий, дробный смех.
— Он умер, по меньшей мере, два с половиной века назад, сказал Осден, — или ты забыла, где мы, координатор! Мы все оставили в прошлом наши маленькие семьи…
За полиэтиленовой занавеской, смутно различимые, копошились остальные восемь человеческих существ, прибывших на Мир 4470. Говорили они тихо и напряженно. Эсквана спал; Посвет Ту на лечении; Дженни Чонг занималась тем, что регулировала освещение в своей каюте так, чтобы не отбрасывать тени.
— Они все боятся, — сказала Томико испуганно. — Их всех терзает мысль о том, что напало на тебя. Что-то вроде обезьяно-картофелины, гигантский ядовитый шпинат. Я не знаю… Даже Харфекс. Может быть, ты прав, не рассказывая им. Но еще хуже может стать потеря доверия друг к другу. Ну почему мы все так трусливы, настолько неспособны смотреть фактам в лицо, так легко ломаемся? Неужели мы действительно все сумасшедшие?
— Скоро будет похлеще.
— Почему?
— Есть что-то… — Он сжал губы. Выступили напрягшиеся мышцы.
— Что-нибудь, наделенное чувством?
— Чувство.
— В лесу?
Он кивнул.
— Что же это?
— Страх. — Он опять показался странным и беспокойно дернулся. — Когда я упал, там, ты знаешь, я не сразу потерял сознание. Или я очнулся. Не знаю. Это было больше похоже на паралич.
— Да, как будто.
— Я лежал на земле. Я не мог встать. Мое лицо было в грязи, в этой мягкой лиственной плесени. Она забивала мне ноздри и глаза. Я не мог пошевелиться. Не мог видеть. Как будто я был в земле. Погребенный в земле, ее часть. Я знал, что лежу между двумя деревьями, хотя я никогда не видел их. Думаю, я мог чувствовать корни. Под собою в земле, внизу под землей. Мои руки были окровавлены, я мог это чувствовать, и кровь образовала липкую грязь вокруг лица. Я почувствовал страх. Он нарастал, как будто они наконец узнали, что я был там, лежал на них там, под ними, среди них, вещь, которой они боялись, которая сама — часть их страха. Я не мог прогнать страх, и он продолжал нарастать, а я не мог пошевелиться, не мог убежать. Должно быть, я потерял сознание, думая, а потом страх вошел в меня опять, и я все еще не мог двигаться. Не больше, чем могут они.
Томико почувствовала холодок от шевелящихся на голове волос — включение органа страха.
— Они, кто они, Осден?
— Они — это… я не знаю. Страх.
— О чем ты говоришь? — возмутился Харфекс, когда Томико рассказала об этом разговоре. Она не разрешила еще Харфексу задавать Осдену вопросы, чувствуя, что должна защитить его от бешеного напора мощных, совершенно не сдерживаемых эмоций хайнита. К несчастью, это разожгло медленный костер параноидного беспокойства, который разгорался в бедном Харфексе, ведь он подумал, что она и Осден стали заодно, скрывая кое-какие свидетельства огромной важности или даже способные привести к гибели весь экипаж.
— Это похоже на слепого, пытающегося нарисовать слона. Осден не видел или не слышал этого… с чувством, так же, как и мы.
— Но он почувствовал это, моя дорогая Хаито? — спросил Харфекс с едва сдерживаемой яростью. — Не эмпатически. На своем черепе. Оно пришло, свалило и ударило его тупым предметом. Неужели он даже мельком не увидел этого?
— Что он должен был увидеть, Харфекс?
Но он не слышал ее многозначительного тона; он даже не хотел этого слышать.
— Человек боится чужого. Убийца снаружи, чужой, а не один из нас. Дьявол не во мне!
— Первый удар сразу лишил его сознания, — сказала Томики, начиная терять терпение. — Он ничего не видел. А когда он пришел в себя, один в лесу, он почувствовал леденящий страх. Не свой собственный. Эмпатический эффект. Он уверен в этом. И он уверен, что страх исходил не от нас. Таким образом, очевидно, местные формы жизни не все лишены способности чувствовать.
Харфекс секунду мрачно смотрел на нее.
— Ты пытаешься напугать меня, Хаито. Я не понимаю, почему ты хочешь это сделать.
Он поднялся и ушел в свою лабораторию, сорокалетний мужчина, задыхаясь и волоча ноги, как восьмидесятилетний старик.
Она оглядела остальных. Она испытывала некоторое отчаяние. Ее новый, хрупкий внутренний контакт с Осденом придавал ей, она это отчетливо осознавала, некоторую дополнительную силу. Но уж если Харфекс не смог сохранить благоразумие, чего же ждать от других. Порлок и Эсквана заперлись в своих каютах, все остальные либо работали, либо были чем-нибудь заняты. Было что-то странное в их позах. Сначала координатор не могла сказать, что это было, потом она увидела, что все они сидели лицом к ближайшему лесу. Играя в шахматы с Ананифойлом, Олеро передвигала свой стул до тех пор, пока он не оказался рядом с его.
Она подошла к Маннону, который изучал клубок паукообразных коричневых корней, и попросила его разгадать головоломку. Он тут же откликнулся с несвойственным ему лаконизмом:
— Посмотри на врага.
— Что за враг? Что чувствуешь ты, Маннон?
У нее вспыхнула внезапная надежда на него как на психолога, на этот непонятный мир намеков и эмпатий, где биологи сбивались с пути.
— Я чувствую сильное беспокойство со специфической пространственной ориентацией. Но я не эмпат. Поэтому я объясняю эту тревогу особой стрессовой ситуацией, то есть нападением на члена команды в лесу, а также абсолютной стрессовой ситуацией, то есть моим присутствием в совершенно чужом окружении, для которого сверхтипические коннотации слова «лес» дают неизбежную метафору.
Ночью Томико разбудил Осден, кричавший во сне; Маннон уже успокаивал его, и она опять погрузилась в собственные разбегающиеся во тьму, непроходимые сны. Утром Эсквана не проснулся. Не помогли и стимуляторы. Он цеплялся за свой сон все больше и больше, до тех пор, пока не лег, свернувшись калачиком и прижав палец к губам. Бесполезно.
— Двое за два дня. Десять негритят, девять негритят… Это был Порлок.
— А ты следующий негритенок, — огрызнулась Дженни Чонг. Иди исследуй свою мочу, Порлок.
— Он сведет с ума нас всех, — сказал Порлок, вставая и размахивая левой рукой. — Неужели вы не чувствуете этого? Боже милостивый, вы что, все глухие и слепые? неужели вы не чувствуете, что он делает, его эманации? Это все исходит от него — оттуда, из его комнаты — из его мозга. Он нас всех сведет с ума своим страхом!
— Кто? — произнес огромный, выглядевший угрожающе Ананифойл, нависая над маленьким землянином.
— Должен я назвать его имя? Извольте — Осден! Осден! Осден! Думаете, почему я пытался убить его? Из самообороны. Спасти вас всех. Потому что вы не хотите видеть, что он собирается сделать с нами. Он саботировал экспедицию, ссоря нас, а теперь он намеревается свести нас всех с ума, проецируя страх на нас таким образом, что мы не можем спать или думать, как огромное радио, которое не издает ни единого звука, но оно все время работает, и вы не можете спать, и вы не можете думать. Хаито и Харфекс уже под его контролем, но остальные могут быть спасены. Я должен был это сделать!
— Ты сделал это не слишком удачно, — сказал Осден, стоя полуголый у дверей своей каюты. — Я мог бы ударить себя сильнее. Дьявол, это не я, не я напугал тебя до смерти, Порлок, это — оттуда, оттуда, из леса!
Порлок сделал отчаянную попытку наброситься на Осдена, но Аснанифойл схватил его в охапку и без труда удерживал, пока Маннон не сделал седативный укол. Его увели, и он еще минуту кричал о гигантском передатчике. Затем седатив начал действовать, и он присоединился к мирной тишине Эскваны.
— Прекрасно, — заметил Харфекс. — Теперь, Осден, вы расскажете нам, что вы знаете.
— Я ничего не знаю, — сказал Осден.
Он выглядел разбитым и слабым. Томико заставила его сесть, прежде чем он начал говорить.
— Побыв три дня в лесу, я подумал, что время от времени принимаю нечто вроде аффекта.
— Почему вы не доложили об этом?
— Думал, что схожу с ума, как и все вы.
— Тем не менее об этом нужно было сообщить.
— Вы бы вернули меня на базу. Я не мог вынести этого. Вы понимаете, что мое включение в экспедицию было огромной сшибкой. Я не способен сосуществовать с девятью другими неврастеническими личностями в тесном замкнутом пространстве. Я был неправ, вызвавшись добровольцем в Сверхдальний Поиск, и Совет был неправ, приняв меня.
Никто не возражал; но Томико увидела, на этот раз совершенно ясно, как дрожат плечи Осдена, как напряжены его лицевые мускулы, так как он регистрировал их горькое согласие.

— Как бы там ни было, я не хотел возвращаться назад на базу, потому что любопытен. Даже становясь психом, как я мог принять эмпатические аффекты, когда не было существа, чтобы их генерировать? К тому же они не были такими уж плохими. Очень смутные. Странные. Как дуновение в закрытой комнате, короткая вспышка в уголке глаза. Ничего существенного. Ничего, действительно, на самом деле ничего. — На какое-то мгновение он прервался, подбодрившись от их внимания; они слушали — значит, он рассказывал. Он был целиком и полностью в их власти. Если они не любили его, он должен ненавидеть, если они насмехались над ним, ему приходилось издеваться над ними, если они слушали, он становился рассказчиком. Он был беспомощным пленником их эмоций, реакций, настроений. Сейчас их было семь; слишком много, чтобы угодить им всем, поэтому он должен был постоянно натыкаться на каприз или прихоть то одного, то другого. Он не мог найти гармонию. Даже когда он говорил и держал их, чье-нибудь внимание обязательно блуждало: Олеро, возможно, думала, что он не так уж непривлекателен, Харфекс искал скрытый смысл в его словах, мозг Аснанифойла, который не мог долгое время задерживаться на чем-либо конкретном, уносился странствовать в бесконечный мир чисел, а Томико отвлекалась на жалость, страх. Осден запнулся. Он потерял нить. — Я… Я подумал, это, должно быть, деревья, сказал он и остановился.
— Это не деревья, — сказал Харфекс. — Они не имеют нервной системы, так же как растения хайнского происхождения на Земле. Нет.
— За деревьями вы не видите леса, как говорят они на Земле, — вставил Маннон, проказливо улыбаясь; Харфекс уставился на него.
— Что вы скажете об этих корнях, которые ставят нас в тупик вот уже двадцатый день, а?
— Ну и что же они?
— Это несомненно родственные связи. Деревья — родственники. Правильно? Теперь давайте только предположим самое невероятное, что вы ничего не знаете о строении мозга животных. И вам дана отдельная клетка. Будьте любезны определить, что это такое? Разве вы не увидели, что клетка способна на чувство?
— Нет, потому что она и не способна. Отдельно взятая клетка способна лишь на механическую реакцию на раздражение. Не больше. Вы предполагаете, что индивидуальные древоформы это «клетки», нечто вроде мозга, Маннон?
— Не совсем так. Я лишь заметил, что они все взаимосвязаны как на уровне корнеузлового сцепления, так и с помощью их зеленых эпифито в ветвях. Соединение невероятной сложности и физической протяженности. Посмотрите, даже степные травоформы имеют корневые связи, не так ли? Я знаю, что чувствительность и разумность — это не вещь, вы не можете найти ее в клетках головного мозга или анализировать ее в отрыве от клеток головного мозга. Это функция взаимосвязанных клеток. В известном смысле эта связь — родственность. Она не существует. Я не пытаюсь говорить, что она существует. Я только предполагаю, что Осден должен суметь описать ее.
И Осден прервал его, говоря как бы в трансе:
— Чувствующая материя без органов чувств. Слепая, глухая, лишенная нервной системы, неподвижная. Некоторая раздражительность — реакция на прикосновения. Реакция на солнце, свет, воду, химические соединения в земле вокруг корней. Все непостижимо для животного разума. Присутствие без мозга. Осознавание существования без объекта или субъекта. Нирвана.
— Почему ты принял страх? — сухо спросила Томико.
— Я не знаю. Я не могу видеть, как может возникать осознание объектов, кого-то другого: не осознаваемая ответная реакция… Но в течение нескольких дней чувствовался какой-то дискомфорт. А потом, когда я лежал между двумя деревьями и моя кровь была на их корнях… — лицо Осдена покрылось потом. — Тогда пришел страх, — сказал он, дрожа, только страх.
— Если бы такая функция существовала, — сказал Харфекс, она была бы неспособна понимать самодвижущий, материальный организм или реагировать на него. Она сознавала бы нас не больше, чем мы можем осмыслить Бесконечность.
— Меня ужасает безмолвие этих бесконечных пространств,[3] — пробормотала Томико. — Паскаль осознал бесконечность. С помощью страха.
— Лесу, — сказал Маннон, — мы должны казаться лесными пожарами, ураганами, угрозой. Что движется быстро — опасно для растения. Не имеющее корня должно быть чужим, страшным. И если это разум, то кажется только более вероятным, что он осознал Осдена, чей собственный мозг открыт для связи со всеми другими до тех пор, пока он в здравом уме, и который лежал, страдая от боли и умирая от страха в пределах этого разума, фактически внутри него. Не удивительно, что разум испугался.
— Не «он»! — возразил Харфекс, — Это не живое существо, не личность! Это может быть, в лучшем случае, функция…
— Это только страх, — сказал Осден.
Все на некоторое время замерли и услышали тишину окружающего их мира.
— Неужели то, что я чувствую все время как возникающее сзади меня, именно это? — спросила подавленная Дженни Чонг.
Осден кивнул.
— Ты чувствуешь это, хотя и глуха. С Эскваной дело хуже всего, потому что он действительно обладает некоторой симпатической способностью. Он бы мог отослать сигнал, если бы знал как, но он слишком слаб, он может быть только лишь медиумом.
— Послушай, Осден, — сказала Томико, — ты можешь отослать сигнал. Тогда пошли ему — лесу, страху оттуда — скажи ему, что мы не хотим ему вредить. Если было или есть нечто вроде аффекта, в который превращается то, что мы чувствуем как эмоции, разве мы не можем совершить обратное превращение? Отослать сообщение: «Мы безвредны, мы дружелюбны».
— Вы должны знать, что никто не может испускать лживую эмпатическую информацию. Вы не можете послать что-то, чего не существует.
— Но мы не намереваемся вредить, мы дружелюбны.
— В самом деле? В лесу, когда вы меня подобрали, ты почувствовала дружелюбие?
— Нет, я была напугана. Но это — его, леса, растений, не мой собственный страх, не так ли?
— Какая разница? Это все ты чувствовала. Неужели вы не видите, — и голос Осдена поднялся от раздражения, — почему я не люблю вас и вы не любите меня, вы все? Неужели вы не видите, что я посылаю обратно весь негативный и агрессивный аффект, который чувствуете по отношению ко мне с тех пор, как мы впервые встретились? Я возвращаю вашу враждебность с благодарностью. Я это делаю в порядке самозащиты. Как Порлок. Это все-таки самооборона; это единственная способность, которую я совершенствовал, чтобы заменить мою первоначальную защиту — полный уход от окружающих. К несчастью, это создает замкнутую цепь, самоподдерживающуюся и самоподкрепляющуюся. Ваша первая реакция на меня была инстинктивная антипатия к калеке. Теперь, конечно, это ненависть. Вы не могли увидеть моих достоинств. Лес-Мозг передает только страх теперь, и единственное сообщение, которое я могу послать, это страх, потому что, когда я оставлен беззащитным перед ним, я не могу испытывать ничего, кроме страха.
— Что же теперь мы должны делать? — спросила Томико, и Маннон быстро ответил:
— Сменить место. На другой континент. Если там есть растения, составляющие разум, они не сразу нас заметят, как было и с этим, может быть, вовсе не захотят нас заметить.
— Это было бы большое облегчение, — холодно заметил Осден.
Остальные смотрели на него с неожиданным любопытством. Он приоткрыл себя, они увидели его таким, каким он был, беспомощным человеком в ловушке. Возможно, подобно Томико, они увидели, что сама ловушка, его грубый и жестокий эгоизм, был их собственным творением, а не его. Они построили клетку и заперли его в нее, и, как загнанная в клетку обезьяна, он выделывал непристойности за решеткой. Если бы, встретив его, они предложили доверие, если бы у них достало сил предложить любовь, каким бы он тогда предстал перед ними?
Никто из них не смог тогда сделать это, а сейчас было уже слишком поздно. Будь на то время, будь одиночество, Томико смогла бы постепенно выстроить с ним резонанс чувств, созвучие доверия, гармонию; но времени не было, их работа должна быть сделана. Не было достаточного помещения для культивации такого великого чувства, они должны были вырастить его с помощью симпатии, жалости, маленьких перемен к любви. Даже это придало ей новые силы, но это было ни в коей мере не достаточно для него. Она могла видеть теперь на его освежеванном лице дикое возмущение их любопытством, даже ее жалостью.
— Пойди приляг, твоя рана опять кровоточит, — сказала она, и он повиновался ей.
На следующее утро они собрали вещи, растворили напыленный ангар и жилые помещения и на механическом управлении взяли курс на другое полушарие Мира 4470 над красными и зелеными материками, многочисленными петлями, зелеными морями. Они заметили подходящее место на Континенте G: степь площадью 20 тысяч квадратных километров открытых всем ветрам граминиформ. Они приземлились на участок около 100 километров, где не было ни леса, ни одиночных деревьев и рощиц. Растительные формы попадались только в виде больших видов — колоний, никогда не смешивались, кроме некоторых мелких вездесущих сапрофитов и спороносителей. Команда пульвелизировала холомельд на опорные конструкции и к вечеру тридцати двух часовых суток вселилась в новый лагерь. Эсквана все еще спал. А Порлок все еще находился под седативным действием укола, но все остальные были веселы.
«Здесь вы можете дышать», — не уставали повторять они.
Осден встал и нетвердо направился к дверному проему; ссутулившись он смотрел в наступивших сумерках на темное пространство качающейся травы, которая не была травой. Он чувствовал слабый, сладкий запах пыльцы в ветре, ни звука, только мягкий, широкий шелест ветра. Его забинтованная голова немного поднялась. Эмпат долго стоял неподвижно. Пришла темнота и звезды, свет в окнах далекого дома Человека. Ветер уже стих, не было ни звука. Он слушал.
В долгой ночи слушала и Хаито Томико. Она лежала и слышала кровь в своих артериях и темных венах, дыхание спящих, дуновение ветра, приближающиеся грезы, безбрежную статику разрастающихся звезд, как будто окружающий мир медленно умирал, бежал из кромешного одиночества своей комнаты. Один Эсквана спал. Порлок лежал в смирительной рубашке, бессвязно бормоча на своем непонятном родном языке. Олеро и Дженнит Чонг с мрачными лицами играли в карты, Посвет Ту была в отсеке терапии, погруженная в лечебную ванну. Аснанифойл рисовал Мандалу, Тройную Схему Первооснов.[4] Маннон и Харфекс сидели вместе с Осденом.
Она сменила повязки на голове Осдена. Его гладкие рыжеватые волосы там, где ей не пришлось выбривать их, выглядели странно. Теперь они были как бы посыпаны солью. Ее руки тряслись, пока она работала.
Никто еще не произнес ни слова.
— Как мог страх оказаться и здесь тоже? — спросила она, и ее голос прозвучал безжизненно и фальшиво в пугающей тишине.
— Не только деревья, но и трава тоже…
— Но мы ведь в двенадцати тысячах километрах от того места, где мы были этим утром, мы оставили его на другой стороне планеты.
— Это все единое целое, — сказал Осден. — Одно большое зеленое мышление. Сколько времени требуется мысли, чтобы пролететь от одного полушария твоего мозга до другого?
— Это не думает. Это — не мыслящее, — произнес Харфекс безжизненно. — Это лишь сеть процессов. Ветви, эпифиты, наросты, корни с узловатыми соединениями между отдельными образцами, они все должны обладать способностью передавать электрохимические импульсы. Таким образом, собственно говоря, не существует отдельных растений. Даже пыльца — это звено цепи, без сомнения, сорт переносимой ветром чувствительности через моря, связывающие континенты. Но это невозможно. Вся эта биосфера планеты должна быть одна сеть коммуникаций, чувствительная, иррациональная, бессмертная, изолированная…
— Изолированная, — сказал Осден. — Вот оно! Это страх. Дело не в том, что мы способны передвигаться или разрушать. Дело в том, что мы есть. Мы — другие. Здесь никогда не было других.
— Ты прав, — сказал Маннон почти шепотом. — Это не имеет себе равных. Не имеет врагов. Никаких контактов ни с кем, а только с собой. Один, одинок, навсегда.
— Тогда в чем же функция такого разума в выживании видов?
— Может быть, подобной функции нет, — ответил Осден. Почему ты начинаешь углубляться в телеологию, Харфекс? Разве ты не хайнит? Разве мера сложности не является мерой извечной шутки?
Харфекс не отреагировал. Вид у него был безжизненным.
— Мы должны покинуть эту планету.
— Теперь вы знаете, почему я всегда хотел уйти, убежать от вас, — сказал Осден с оттенком патологической доброты. Это неприятно — чужой страх, не так ли? Если бы это еще была разумность животных. Я могу подстроиться к животным. Я уживаюсь с крабами и тигром; более высокий интеллект дает человеку преимущество. Меня нужно было использовать в зоопарке, а не в человеческом коллективе. Если бы я мог настроиться на проклятую картофелину! Если бы это не было столь неопределенно… Я по-прежнему принимаю больше, чем страх, знаете ли. И до того как это запаниковало, это обладало… в нем была безмятежность. Я не мог тогда осознавать этого, я не представлял себе, как оно велико. Испытывать одновременно постоянный день и постоянную ночь. Все ветры и затишье вместе. Зимние и в то же время летние звезды. Иметь корни и иметь врагов. Быть совершенным. Вы понимаете? Никаких вторжений. Никого другого. Быть всем!
«Он никогда так прежде не говорил», — подумала Томико.
— Ты беззащитен против этого, Осден, — сказала она. — Твоя личность уже изменилась. Ты уязвим для этого. Может, мы не все сойдем с ума, но ты уж точно, если мы не улетим.
Он колебался, затем поднял глаза на Томико, впервые он встретился с ее глазами: долгий, спокойный взгляд, чистый как вода.
— Что мой здоровый рассудок сделал для меня? — сказал он усмехаясь. — Но у тебя есть преимущество, Хаито. У тебя там что-то есть.
— Мы должны убраться отсюда, — пробормотал Харфекс.
— Если я пойму это, — Осден посмотрел задумчиво, — могу я передать ему сообщение?
— Под твоим «пойму», — произнес Маннон отрывистым нервным голосом, — я думаю, ты имеешь в виду прекращение ретрансляции эмпатической информации, которую ты получаешь от растительного организма: прекращение отражения страха и его поглощение. Это тоже сразу убьет тебя или снова приведет к полному психологическому истощению, аутизму.
— Почему? — спросил Осден. — То, что посылается этим, — отражение, а мое спасение — именно в отражении. Это не обладает разумом, а я — человек.
— Не тот масштаб. Что может единственный человеческий мозг против чего-то столь обширного?
— Единственный человеческий мозг может постигнуть систему в масштабе звезд и галактик, — сказала Томико, — и толковать ее как Любовь.
Маннон по очереди глядел на всех; Харфекс молчал.
— Это бы легче сделать в лесу, — сказал Осден. — Кто из вас доставит меня туда?
— Когда?
— Сейчас. Прежде, чем вы все сломаетесь или взбеситесь.
— Я, — сказала Томико.
— Никто из нас не полетит, — сказал Харфекс.
— Я не могу, — сказал Маннон. — Я… Я слишком напуган. Я разобью машину.
— Возьми с собой Эсквану. Если я смогу справиться с заданием, он послужит в качестве медиума.
— Вы принимаете план сенсора, координатор? — спросил Харфекс официально.
— Да.
— Я не одобряю. И тем не менее я полечу с вами.
— Я думаю, мы вынуждены, Харфекс, — сказала Томико, глядя на лицо Осдена. Ужасная белая маска исчезла, оно было полно страстного желания, как лицо любовника.
Олеро и Дженни Чонг играли в карты, чтобы не думать о своих часто посещаемых из-за возрастающей сонливости кроватях, своем возрастающем страхе, привилегированные, как испуганные дети.
— Эта штука, она в лесу, из-за нее вы… станете…
— Бояться темноты? — Осден презрительно усмехнулся. — Но поглядите на Эсквану, Порлока и даже Аснанифойла. — Это может не причинить вам вреда. Это импульс, проходящий через синапсы, ветер, проходящий сквозь ветви. Это только сон.
Они забрались в геликоптер, Эсквана все еще спал, тихо свернувшись калачиком в заднем отсеке, Томико за штурвалом и Харфекс молчали, вглядываясь в темнеющую впереди среди светло-серого пространства освещенной светом звезд равнины линию леса.
Они достигли черной линии, пересекли ее; теперь под ними была темнота.
Она нашла посадочную площадку, заставляя себя лететь низко, сдерживая неистовое желание взмыть вверх и улететь прочь. Огромная энергия мира-растения была значительно сильнее здесь, в лесу, и его паника билась огромными черными волнами. Впереди было бледное пятно неправильной формы, оголенная верхушка холма чуть повыше самых высоких черных древоформ вокруг него; не деревья; имеющие корни, части целого. Она посадила геликоптер на поляну; плохая посадка. Ее руки на штурвале были скользкими, как будто она потерла их холодным мылом.
Теперь вокруг них стоял лес, черный в темноте.
Томико нагнулась и закрыла глаза. Эсквана застонал во сне. Дыхание Харфекса стало коротким и громким, он сидел напрягшись, он не пошевелился даже тогда, когда Осден перешагнул через него и припал к открытой двери.
Осден стоял; его спина и забинтованная голова были хорошо видны в темном свечении приборной панели; он не решался ступить за дверной проем.
Томико тряслась. Она не могла поднять головы. «Нет, нет, нет. — повторяла она шепотом, — нет, нет, нет». Осден пошевелился неожиданно и бесшумно нырнул в дверной проем вниз, в темноту. Он ушел.
«Я иду!» — сказал сильный голос.
Томико вскрикнула. Харфекс закашлялся; он, казалось, пытался встать, но ему это не удалось. Томико ушла в себя, вся сконцентрировавшись на слепом глазе в свем желудке, в центре своего существа; а снаружи не было ничего, кроме страха.
Он прошел.
Она подняла голову, медленно расцепив руки. Села прямо. Ночь была темная, и звезды были видны над лесом. Больше ничего.
— Осден, — сказала она, но голос не вышел из горла. Она повторила опять — громче, одинокое кваканье. Ответа не было.
Она начала понимать, что с Харфексом что-то неладное. Она попыталась найти его голову в темноте, так как он сполз с сиденья, когда внезапно, в гробовой тишине, в темном заднем отсеке машины послышался голос.
— Хорошо, — произнес он.
Это был голос Эскваны. Она включила внутреннее освещение и увидела инженера, свернувшегося калачиком и спящего, его рука наполовину прикрывала рот.
Рот открылся и повторил: «Все хорошо».
— Осден.
— Все хорошо, — сказал мягкий голос, исходящий из рта Эскваны.
— Где ты?
Молчание.
— Возвращайся.
Поднялся ветер.
— Я остаюсь здесь, — сказал мягкий голос.
— Ты не можешь остаться…
Молчание.
— Ты будешь одинок, Осден!
— Послушай, — голос был слабый, невнятный, как будто он терялся в шуме ветра. — Послушай. Я желаю тебе счастья.
Она снова назвала его имя, но ответа не было. Эсквана лежал тихо. Харфекс лежал еще тише.
— Осден! — закричала она, наклоняясь в дверной проем в темную колеблемую ветром тишину леса. — Я вернусь. Я должна доставить Харфекса на базу. Я вернусь, Осден!
Молчание и ветер в листьях.
Они закончили предписанную программу поиска Мира 4470, восемь оставшихся, для этого им потребовался на сорок один день больше.
Сначала Аснанифойл или кто-то из женщин ежедневно ходили в лес и искали Осдена в районе вокруг оголенного холма, хотя Томико не могла точно определить, на какой холм они приземлились в ту ночь, в самое сердце и водоворот страха. Они оставили для Осдена все самое необходимое: запас еды на пятьдесят лет, одежду, палатки, орудия и инструменты. Они отказались от дальнейших поисков; невозможно было найти одного человека, если он хочет спрятаться в этих бесконечных лабиринтах и темных переплетенных коридорах. Они могли пройти на расстоянии вытянутой руки от него и не увидеть его…
Но он там был, так как больше не было страха. После всего пережитого Томико старалась понять, что сделал Осден. Но мысли ускользали из-под контроля. Он принял страх на самого себя и, приняв его, преступил его пределы. Он отдал себя чужому — неограниченная никакими условиями капитуляция, которая не оставила места для зла. Он понял любовь другого и таким образом обрел свою собственную целостную личность.
Люди из команды Поиска шли под деревьями, по необозримым колониям жизни, окруженные видящей сны тишиной. Нависающая тишина, которая едва осознавала их полностью, индифферентная к ним. Здесь не было времени. Расстояние не играло роли. Но они имели достаточное пространство и время…
Планета вращалась между солнечным светом и полной темнотой, ветры весны и лета равномерно дули, перенося пыльцу через спокойные моря.
После всех поисков, покрыв огромные расстояния в сотни световых лет, «Гам» вернулся в то место, что несколько веков назад было Смеминг-Портом. Там еще имелись люди, чтобы скептически принять рапорты экипажа и зафиксировать их потери: биолог Харфекс — умер от страха, сенсор Осден — остался как колонист.
Перевод с англ. И. Хандлоса
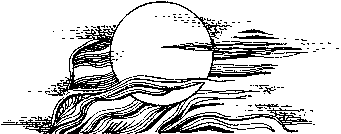
Сирил Корнблат
ГЛУПЫЙ СЕЗОН
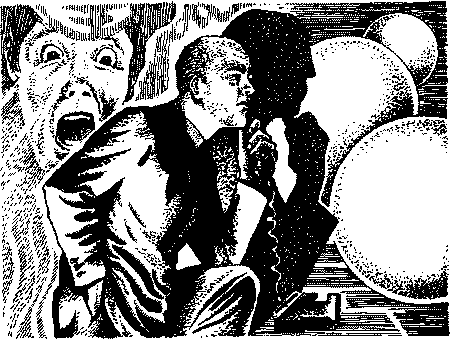
Стоял жаркий летний полдень. В бюро пресс-службы на радио в Омахе и в Нью-йоркском бюро контроля меня замучили придирками к копии. Но поскольку стоял жаркий летний день, копии не было. Час назад появился лишь материал о местном бейсбольном мачте, вот и все. Летом не происходит ничего выдающегося кроме матчей бейсбола. В эти собачьи дни все политики устремляются в лес, к реке, разбойники слишком устали, чтобы грабить кого-либо, а жены, хорошенько все взвесив, отказываются убивать своих мужей.
Я схватил тексты нескольких пресс-новостей. Один неряшливый листок начинался словами: «Вам, наверное, известно, что лимонад, как непременное условие летнего комфорта и здоровья, получил одобрение ведущих физиотерапевтов от Флориды до Калифорнии. Ассоциация по выращиванию лимонов сообщила, что более чем в 57 городах с населением более 25 тысяч 87 % пьют лимонад по меньшей мере раз в день с июня по сентябрь, а 72 % врачей не только сами пьют охлаждающий и лечебный напиток, но и прописывают его…».
Телетайп передал из Нью-Йорка новое сообщение, гласившее о срочной надобности в небольшом сообщении. Я немедленно отбил ответ.
На подачку с лимонадом нечего было и рассчитывать, я вновь рылся в кипе бумаг. На летний университетский курс приглашался гувернер для обсуждения вопросов воспитания и образования подростков. Сельскохозяйственный колледж просил, чтобы я предупредил фермеров о том, чтобы белокожие свиньи поменьше нежились под лучами жаркого летнего солнца. Организатор боев на местном ринге передавал описание одного из своих парней и кое-какие данные о схватке на арене Омахи. Компания Шварц и Уайт Бэндидж передавала снимки манекенщицы в купальных костюмах. Снимки сопровождал следующий текст: «Отчаянная звездочка Мифф Маккой готова немедленно отправиться к морю. На ней не только миленький купальник, но еще и две ленточки нашей компании, которые пригодятся на все случаи жизни. Если на пляже она переусердствует и ленточка лопнет, то наши наряды помогут ей выйти из положения». Ну и ну. Остальные сообщения были ничем не лучше этих. Я швырнул их все в мусорную корзину и начал усиленно шевелить мозгами, несмотря на жару.
Я решил, что сфабрикую какое-нибудь сообщение. К сожалению, я не слышал ни одной глупой летней истории, поскольку не было слухов ни о летающих тарелках, ни о монстрах, появляющихся время от времени во Флориде, ни о бандитах, терроризирующих жителей города хлороформом. Появись хоть что-то вроде этого, я бы не упустил. А посему мне предстояло отработать фальшивку, что значительно труднее и рискованнее.
Летающие тарелки? Я не мог реанимировать их; о них не вспоминали уже несколько лет, разве только в новостях. Гигантская черепаха озера Гурон тоже помалкивала несколько лет. Стоит мне написать о бандитах, отравляющих людей хлороформом, как любая старая дева штата замучает меня звонками о том, что к ней ломились бандиты, она чувствовала запах хлороформа, — но полицейским это вряд ли понравится. Не было ли странных сообщений из космоса в лаборатории Университета? Вот что бы не помещало. Я заправил в машину чистый листок и сел, уставившись на него, я просто ненавидел этот глупый сезон.
После небольшой паузы зазвенел сигнал линии связи с Западом, загорелась лампочка. Я набрал было первые буквы своего сообщения, но телетайп выдал желтую, клейкую ленту, которая гласила: «Всемирное радио — Омаха — Хиквард. Пинкни Краулз скончался при загадочных обстоятельствах во время рыбалки в деревушке Озарк. Получил смертельные ожоги от светящихся куполов, появившихся на прошлой неделе. Тело перевезено в Хиквард. Констебль Алленбай энергично взялся за расследование, изучая семь стеклянных куполов, каждый размером с дом, в миле южнее городка.
Начато расследование. Краулз был предупрежден, гибель в результате ожогов. Срочно позвоните. — Бенсон — Происшествие. Убийства. Сельские новости. — Прошлая неделя. — Хиквард. — 1.85.» Вот такой запрос.
Я отметил, что послание получено, и быстро отстукал статейку, запустив ее в печать. Агентство Нью-Йорка впопыхах приняло мою статью.
Форт Хикс. Арканзас. 22 августа.
МИСТИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ.
Сегодня ушел из жизни бывший офицер, судебный исполнитель. Причина смерти — прозрачный купол. Пинкни Краулз из Форта Хикс, штата Арканзас, скончался от ожогов во время рыбалки в деревушке неподалеку от Раш-Сити. Взволнованные жители городка Раш назвали причину гибели. Это светящиеся купола, появившиеся на прошлой неделе к югу от городка. Загадочных объектов было семь — каждый размером с дом. Горожане не осмелились даже приблизиться к ним. Они предупреждали приезжего Краулза, но он пренебрег их советами. Констебль городка Алленбай был свидетелем трагедии. Он сообщил следующее: «Особенно нечего рассказывать. Просто судебный исполнитель Краулз подошел к одному из куполов и прикоснулся к нему руками. Возникла вспышка, за которой я увидел, что он сгорел насмерть». Констебль Алленбай доставит тело Краулза в Форт Хикс.
Я полагал, что этого будет достаточно, чтобы вызвать интерес читателей. Я представил письменный стол Бенсона, заваленный бумагами, и немедленно отправил запрос в Форт Хикс по этому человеку. Информации я никакой не получил. Оператор Форт Хикса запросила сведения о необходимом лице. В Омахе наконец сообразили, что нам необходимо связаться с мистером Эдвином Бенсоном. В Форт Хиксе немедленно ответили, и довольно четко, а затем решили, что, возможно, Эд был еще где-то в полицейском участке, так как ужинать он еще не приходил. Меня соединили с участком, и я услышал голос Бенсона. У него был приятный голос, не то что у служащих из глухого Арканзаса. Я слегка полил бальзам о том, что получено прекрасное сообщение, и о том, какая у них творческая работа. Он воспринял мои слова более чем сдержанно, что было само по себе необычно. Нашим деревенским трепачам ничего не оставалось делать, как проглотить это. Когда я спросил его, откуда он родом, то получил ответ: «Из Форт Хикса, но я помотался. Я имею отношение к той сенсации в Литтл Роке». В ответ на это я расхохотался, но он не услышал моего смеха и продолжал: «Назначен шефом полиции в Новом Орлеане, но мне не нравилось работать по телефону. Открыл юридическую контору в Чикаго. Но долго там не продержался, меня послали в Вашингтон. Там я служил в нью-йоркской «Таймз». Они сделали из меня военного корреспондента, я обиделся и вернулся назад в Форт Хккс. Я пописываю статейки и сейчас. Не надо ли вам продолжение истории Раш-Сити?»
— Конечно, — неуверенно вымолвил я. — Протолкни ее дальше — расцвети по-своему. Но не кажется ли тебе, что это фальшивка?
— Я видел спустя некоторое время тело Пинка в похоронном бюро и говорил с Алленбаем из Риш-Сити. Пинк действительно сгорел, Алленбай ничего не придумал. Может, кто-то бы и смог выдумать что-либо подобное, только не он, он туповат для этого — но я могу с уверенностью сказать, что все произошло на самом деле. Я сохраню копию. И не забудьте, что за разговор я заплатил доллар и восемьдесят пять центов, ладно?
Я ответил, что не забуду, и повесил трубку. Мистер Эдвин Бенсон хорошенько встряхнул меня. Представляю, каким оскорбленным он чувствовал себя, отказавшись от карьеры блестящего журналиста и похоронив себя заживо в Озарке.
Затем позвонил сам Господь Бог — глава Всемирной радиокомпании. Он как раз рыбачил в это время в Канаде, как всякий порядочный глава в такой дурацкий сезон, но услышал сообщение о моей истории в Раш-Сити. В его автомобиле был телефон, и ему не составляло труда позвонить в Омаху и развалить расписание моего отпуска, так четко спланированного. Он пожелал, чтобы я немедленно отправился в Рош-Сити и расписал все сам лично. Я ответил: «Да» — и начал сбор команды.
Редактор ночной смены не успел сообщить своей жене об отъезде, как та разрыдалась и не замедлила сообщить о своем отношении к этой поездке и ко всему бюро. Телеграфист, находившийся в это время в отпуске на своей летней даче, заикнулся об увольнении.
Я заказал по телефону такси для всей компании, сообщив им всем, что на крыше нас дожидается вертолет. Я нанял лучшего летчика, который вооружился картами штата Арканзас.
Тем временем от Бенсона прибыли двое с сообщениями о куполах, они уже вышли в эфир. Это был уже второй рискованный шаг; еще одна радиокомпания поведала о куполах. Суть оставалась той же, но на сцене появились нежелательные лица. Я подхватил редактора ночной смены, и мы вдвоем побежали на вертолетную площадку.
Пилот начал подъем в преддверии грозы. Нам предстояло прорваться через грозовую зону, а к тому времени, как нам уже пора было вернуться в зону видимости, нас потеряли. Мы кружили почти всю ночь, пока летчик не заметил сигнальные огни.
Приземлились мы в Форт Хиксе в 3.30, разговаривать друг с другом у нас не было ни малейшего желания.
В службе аэропорта Форт Хикса мне рассказали, где жил Бенсон, и я отправился по адресу.
Домик был маленький, беленький. Меня впустила скромная дама средних лет. Это была его сестра миссис Мак-Генри. Она предложила мне кофе и сообщила, что всю ночь прождала возвращения Эдвина из Раш-Сити, который отправился оттуда в восемь вечера, а на машине ехать всего два часа. Она так переживала за него. Я попытался вытянуть из нее побольше сведений о брате, но она лишь сообщила, что он самый талантливый в их семье. Она не хотела говорить о его работе в качестве военного корреспондента. Она показала мне его работы: рассказы для юношества в еженедельниках. Похоже, он печатался раз в два месяца.
Мы только разговорились, как вошел ее брат. И мне сразу стало ясно, почему рухнула его журналистская карьера.
Он был слеп. Если не считать коричневого морщинистого шрама, пересекавшего шею до самого уха, он был довольно приятным парнем где-то за сорок.
— Кто это, Вера? — спросил он.
— Это мистер Уильямс, джентльмен, звонивший тебе вчера, вернее, сегодня из Омахи.
— Здравствуйте, мистер Уильямс. Сидите, сидите, — сказал он, очевидно, услышав скрип стула, когда я приподнялся.
— Ты так задержался, Эдвин, — сказала сестра с упреком и облегчением.
— Этот юный наездник Хаун, мой ночной водитель, — добавил он, обращаясь ко мне, — заплутался. Я потратил в Раш-Сити времени больше, чем запланировал.
Он сел, повернув лицо в мою сторону.
— Уильямс, мнения о светящихся куполах разделились. Народ в Раш-Сити говорит, что они существуют, а я отрицаю это.
Сестра принесла ему кофе.
— Что случилось, только точно, — сказал я.
— Этот Алленбай попросил меня и нескольких горожан посмелее посмотреть на это. Они рассказали мне, на что все это похоже. Семь крупных полушарий из стекла, вроде домов, они светятся. Но их там не было. Я знаю, что когда я стою напротив дома или чего-нибудь такого же большого, я чувствую, как кожа на моем лице напрягается. Это происходит неосознанно, но результат налицо. Слепой наблюдает ауру мира — так повелела его природа. Заслышав легкое посвистывание воздуха, мы осознаем, что находимся на углу дома, услышав и почувствовав значительные вихревые воздушные потоки, мы понимаем, что оказались на улице, где беспрерывное движение. Некоторые наши парни преодолевают любые преграды, даже не дотрагиваясь до встречных предметов. Я на это пока что не способен, может быть, потому что слеп не так долго, как они, но, черт побери, если передо мной семь объектов, то я безошибочно назову их размеры. Как раз этого и не было в Раш-Сити.
— Ну, — пожал я плечами, — самое время для журналистских шуточек в дурацкий сезон. Что за глупость пытаются протащить горожане Раш-Сити и зачем?
— Это не шутка! Мой водитель видел купола — и не забудьте, что судебный исполнитель действительно погиб. Пинк не только видел их, но и притрагивался к ним. Я лишь утверждаю, что зрячие видят их, а я нет. Если они действительно существуют, то я не встречал еще в своей жизни подобного.
— Я отправляюсь туда сам, — решил я.
— Вот и славно, — парировал Бенсон. — Что-нибудь из этого да получится. Можете воспользоваться нашей машиной.
Он сделал последние наставления, а я сообщил ему контрольные сроки возвращения. Нам хотелось получить заключение о причине смерти следователя, сведения от очевидцев — в частности, от водителя, — данные о месте расположения объектов и мнение официальных лиц.
Я воспользовался его машиной и через пару часов был в Раш-Сити. Жилища, расположившиеся в сосновом бору, напоминали бесцветные собачьи будки. Телефон был лишь в небольшой лавке. Я подозревал, что именно он и использовался журналистами радио и газет. Офицер государственной службы в кричащей форме расхаживал на углу, заплеванном окурками. Я подошел к нему.
— Меня зовут Сэм Уильямс, я представляю Всемирную Радиокомпанию. Мы прибыли, чтобы посмотреть купола.
— А не Всемирное ли радио подбросило эту историю? — спросил он меня, выражение его лица при этом я так и не смог понять.
— Ну, мы. Нам передал ее из Форт Хикса наш…..
Зазвонил телефон, и офицер ответил. Похоже, звонили от губернатора.
— Нет, сэр, — ответил офицер. — Нет, но все утверждают, что все случилось именно так. А я ничего не наблюдаю. Я хочу сказать, что и они сейчас ничего не наблюдают, но продолжают твердить, что объекты были здесь, а сейчас — отсутствуют. Еще пара «Нет, сэр», — и он повесил трубку.
— Когда это произошло? — спросил я.
— Около получаса тому назад. Я только что подъехал на велосипеде, чтобы передать сообщение.
Вновь зазвонил телефон, и я схватил трубку. Это Бенсон мне звонил. Я просил его передать телеграфное сообщение в Омаху об исчезновении объектов и не стремиться к встрече с констеблем Алленбаем. Он походил на театрального разбойника с никелевой звездой на груди и револьвером в руках. Он резко влез в автомобиль, решив направиться на путь истинный.
Между Раш-Сити и ясностью во всей истории была единственная определенная тропа, в конце которой затаилась тревога. Выяснять было нечего. Несколько малышей, приглаживая чубы, рассказывали до дикости противоречивые истории об исчезновении куполов, мне удалось набросать подобие сообщения из этих историй. Помнится, упоминались голубые вспышки и запах серы. Вот и все, что удалось выудить.
Я вернулся к Алленбаю. К тому времени уже прибыла съемочная группа с телевидения. Я поздоровался, подождал, пока освободится телефон, и затем продиктовал свое сообщение в Омаху. Деревушку понемногу заполнили журналисты радио, крупных газет, телевидения и агентств новостей в надежде узнать что-то новенькое.
«Вот и конец истории», — подумал я. Выпив кофе в лавке, рестораном которой служили два стола, я отправился назад в Форт Хикс.
Бенсон брал бесконечные интервью по телефону и немедленно шпарил копии в Омаху. Я посоветовал ему расслабиться, поблагодарив за отличную работу, заплатил за бензин; попрощался с ним и отправился ловить такси.
На обратном пути в Омаху я прослушал сообщения по радио, которые ничем не удивили меня. После бейсбольных матчей купола явились прикольной новостью. Эти светящиеся объекты были отмечены в двенадцати штатах. Некоторые издавали странный звук. Они были всех цветов и размеров. На одном из них обнаружена странная надпись. Другой был совершенно прозрачен, и внутри можно было видеть крупные женские и мужские фигуры зеленого цвета. Я услышал утреннюю юмористическую передачу, которая хохмила над куполами. Один юморист обыграл идею головы в форме купола, а дамы из публики умирали от смеха.
Мы остановились в Литтл Роке на заправку, и я купил пару свежих газет. В них только и говорили, что о куполах. В одной было напечатано сообщение Всемирного Радио и касалось исчезновения объектов, а другая, которая уж никак не касалась сообщений Всемирного Радио, шла по своим новостям вровень с нами. В обеих газетах на страницах редактора разместились спешно нарисованные купола. В одной из газет, где поместили правительственную критику, была карикатура: Президент опасливо пытается дотронуться до купола Капитолия, изображенного в виде светящегося объекта. Надпись гласила: «Светящийся купол иммунитета конгресса к исполнительной власти диктатора». А малыш держал в руках плакат с надписью: «Осторожно, господин Президент! Помните, что случилось с Пинкни Краулзом!»
Другая газета — сторонников правительства — дала изображение светящегося купола с лицом Президента. Компания низкорослых толстяков в нарядах времен Принца Альберта завязывала галстуки и натягивала широкополые шляпы с надписями: «Готовы очернить конгресс и его приспешников»; они карабкались на купол с изображением лица Президента, а их руки будто пытались задушить его. Над рисунком надпись: «Кто обожжется?»
В Омахе я немедленно отправился в контору. События развивались дальше. Наши клиенты восторженно смаковали копию купола из нашей газеты и отправляли все новые и новые сообщения.
Я вспомнил чудака, пощупавшего руками летающую тарелку, и черепаху Гурон, Вампира Байоу, давным-давно свое отживших. Я разложил старые записи и попытался сложить их в единую систему. Я взглянул на самую последнюю депешу, сошедшую с принтера. Она пришла с Запада, от нашего парня в Овоссо, штат Мичиган. Он сообщал, что миссис Летти Оверхолцер, шестидесяти одного года, стала свидетелем светящегося купола в полночь прямо в своей кухне. Он увеличивался, словно мыльный пузырь, который достиг размеров холодильника, а затем исчез.
Я подошел к человеку за конторкой.
— Не могли бы вы вспомнить такую сотрудницу, как Летти Оверхолцер?
Статья бы прошла в свет, но мне не хотелось бы говорить об этом как о чем-то рядовом. Подобное может повториться, и у нас тогда не будет возможности покрутиться вокруг этих куполов. Читательской доверчивости может уже и не хватить.
Он взглянул слегка удивленно.
— Уж не хотите ли вы сказать, что нечто подобное было в действительности?
— Да не знаю. Может, я сам ничего и не видел, и единственный человек, которому я доверяю, не может решить этого. Тем не менее держитесь за эту идею, пока клиенты доверяют нам.
Я отправился домой, чтобы вздремнуть. Вернувшись на работу, я обнаружил, что появились конкуренты. Похоже, другие радиокомпании уже не верили всерьез в необычное происшествие в Раш-Сити, они просто вытягивали из этого события отдельные истории наподобие истории с Летти Оверхолцер, а также карты местности, на которой отмечалось появление куполов, и таблиц, в которых регистрировалось количество замеченных куполов.
Нам ничего не оставалось делать, как и дальше держать всех в напряжении. Наше Вашингтонское бюро изводило Пентагон и Комитет аэронавтики и космонавтики, а авиация и морской флот затеяли настоящую гонку — кто первый попадет в Раш-Сити. Как только они примчались туда, новая гонка — чей рапорт выйдет раньше. Призерами стали военные летчики. К концу недели появились свои «купола»: шляпы для подростков, выкрашенные светящимися красками, из прозрачного пластика. Нам нельзя было отставать. Но как я ни старался, нам мало что удавалось.
Самые лучшие репортажи в газете наконец совершенно «погубили» купола. Уговора между службами не было никакого, мы просто прекращали публиковать продолжение репортажей, как только какая-нибудь истеричка начинала твердить, что она эти купола видела наяву, в надежде, что ее имя будет опубликовано в нашей газете. И коль скоро газета прекращала оглашать имена таких людей, они больше никогда не видели куполов. Анализировать это явление уже стало невозможно. Бруклин был лидером по историям, росло международное напряжение по мере понижения температуры, взломщики вновь ударились в грабежи, а история толстяка у светящихся куполов перенесла нас в местный морг. Светящиеся купола стали историей. А серьезные выпускники психологического факультета должны были вот-вот побеспокоить нас, дабы позаимствовать нашего героя.
Единственный вывод, который мне бы следовало сделать из этой истории, — это прожить следующее лето без такого количества бесполезных передач, да чтобы наша переписка не была такой утомительной.
Странный год, измучивший журналистов, подошел к концу. На смену бейсболу пришел футбол. Нас захватили ежегодные выборы. Не за горами Рождество со своими присказками и шутками про Санта Клауса, Индиану.
Миновало и Рождество, мы начали писать о посленовогодних разочарованиях, а также решили, чья история станет лидером года. В первый же день в игру вступили 103 шара: истории о невиданных снегопадах на Великих Равнинах и в Горах. Наводнение в Огайо и в долине реки Колумбии. Двадцать одно меню вкуснейших блюд Лентена и Веселая неделя вокруг света. Вновь бейсбол, использование светового дня, День Матери, День Дерби, Супруга Священника и Бифштексы Белмонда.
А потом пришло сумасшедшее письмо от Бенсона. Не говоря уже о содержании, я думал, что здравомыслящий человек никогда бы не написал такого письма. Похоже, что Бенсон проспал свой трамвай. Он лишь сообщил, что ожидает новое появление куполов или что-то в этом роде. Он рассчитывал на успех в этот раз и разработал своеобразный план.
Я ответил без энтузиазма, и это его позабавило.
Он принялся меня уговаривать:
— Я не стал бы рисковать, если бы мог лишиться чего-нибудь при этом, но тебе известно, ради чего живу. Я все рассчитал, основываясь на изучении активной политики, и вспомнил истории Эзопа. Если это произойдет, ты поймешь, насколько сложнее можно будет это пережить, вот увидишь!
Мне казалось, что он разыгрывает меня, но полной уверенности не было. Когда люди начинают говорить о «них» и о том, что «они» делают, — это дурной знак. Но, случайно или нет, в конце июля опять появилось что-то забавное вроде куполов. Тогда опять стояла одуряющая жара.
Как раз в это время было отмечено появление крупных черных сфер, которые передвигались по дорогам пригородов. Их видели члены баптистской секты, отправившиеся в центр Канзаса, чтобы вымолить у Господа дождя. Около 80 баптистов поклялись на Библии, что видели несколько крупных черных сфер высотой до десяти футов, катящихся по прерии. Они пронеслись в пяти ярдах от одного сектанта, остальные бросились врассыпную, как только осознали, что это реальность.
Всемирное Радио эту историю не передало. Будучи признанным журналистом пустого сезона, я тут же отбыл в Канзас.
Этот случай во многом напоминал историю в Арканзасе. Баптисты нисколько не сомневались в реальности увиденного, но было одно исключение. Это исключение — пожилой джентльмен с дремучей бородой. Он был единственным человеком, который не побежал, когда объекты прокатились вблизи него. Он был слеп. Он с жаром говорил мне, что если бы большие сферы прокатились в пяти ярдах от него или в двадцати пяти, он бы знал об этом, независимо от того, слепой он или зрячий.
Старый мистер Эмерсон не вдавался в вопросы теории воздушных потоков и завихрений в отличие от Бенсона. Это все было выше его интеллекта. Он лишь утверждал, что Господь лишил его зрения, а взамен дал ему другое чувство, которое бы послужило в случае опасности.
— Испытай меня, сынок! — запальчиво кричал он. — Встань чуть выше, немного погодя подними руку у меня перед лицом. И я скажу, когда это произойдет, даже если ты проделаешь это бесшумно!
Он трижды продемонстрировал свои способности, а затем отправился со мной прогуляться по главной улице маленького городка в прериях. У элеватора стояли четыре вагона с зерном, и слепец продемонстрировал, как он может пройти, не задев ни одного. Казалось, что он, совершая эти действия, пытался доказать, что последнее событие имеет связь с куполами. Я поразмышлял об этом, затем отправился в Омаху, чтобы посмотреть, как к этому отнесется редакция, но материал так и не дошел до слушателей.
Мы, как полагается, сообщили о черных сферах, но история долго не прожила. Карикатуры на эту тему уже навязли в зубах, и все меньше старых дев смотрело их. Читатели относились к ним как к очередной газетной истории, а в толстых журналах появились статьи о безответственном отношении к сообщениям в прессе. Лишь юмористы из радиокомпаний пытались, как всегда, как-то сгладить это новое поветрие, но они были в замешательстве, когда обнаружили, что их рейтинг падает. Было принято решение кончать все это надувательство. Народ уже устал.
Бенсон писал мне: «Понятно, что это означает. Случайная проверка. Чувство восторга — свежо, но не может долго приковывать интерес читателя. Это да еще укоренившийся в головах американцев цинизм по отношению к средствам информации сработали против черных сфер, к которым поначалу отнеслись со столь же наивным восторгом, что и к сообщениям о куполах. Тем не менее я утверждаю, что следующим летом мы станем свидетелями очередного чуда, подобного куполам и черным сферам. Я также предсказываю, что слепые не смогут воспринимать эти объекты, даже если они будут в непосредственной близости от них».
Если он ошибался в этот раз, то не более чем на пятьдесят процентов. Мне удалось сдержать свое нетерпение в тот год он длился бесконечно, словно сон. Служащие зарабатывали язвы и выздоравливали, они уставали, в них стреляли, на них клеветали, их оправдывали. Кто-то отправился в Гарвард, став членом товарищества Нимана, а наш телеграфист зацепил руку дверцей автомобиля и рванул с места, но остался жив, повредив позвоночник.
В середине августа, когда метеорологи сообщили, что на ближайшие шестнадцать дней ожидается ясная и жаркая погода, это как раз и произошло. И слепец бы увидел, что это «их» знак.
Из-за жары летний семинар в университете проходил на открытом воздухе. Двенадцать школьных учителей стали свидетелями того, как внезапно на лужайке образовались ямы круглой формы прямо в траве, одна — непосредственно под ногами профессора, проводившего семинар. Они засвидетельствовали, что профессор страшно испугался, закричал и рухнул в открывшуюся яму. Ямы просуществовали еще секунд тридцать, а затем исчезли. На их месте вновь зазеленела трава, а их словно и не было, как и профессора.
Я встретился с каждым из участников семинара. Это были вполне культурные взрослые мужчины и женщины с учеными степенями, занимавшиеся своими научными изысканиями летом. Их рассказы ничем особым не отличались один от другого.
Тем не менее полиция не ожидала подобного согласия в показаниях, ведь она имела, как правило, дело со свидетелями с более низкими показателями умственных способностей. Двенадцать слушателей были арестованы за создание препятствий офицерам полиции при исполнении обязанностей. Их негласно подозревали в убийстве профессора, но никто не задумывался над причиной убийства.
Реакция полицейских напоминала реакцию публики. Газеты, веселившиеся над историей светящихся куполов и в меньшей степени — черных сфер, на этот раз проявили осторожность. Некоторые, следуя обычной схеме, немедленно запустили новость в печать, но выпутываться из этой истории они уже не собирались. Читатели воспринимали такие статьи как оскорбление, они уже устали от чудес.
Некоторые газеты, обыгравшие истории с ямами, получили хороший нагоняй во влиятельных кругах и были вынуждены выступить с опровержением.
Наша компания направила своим корреспондентам послание: «В новых сообщениях о черных ямах больше нет надобности. Курьеры будут отправлены в ваши районы, если произойдут новые события». У нас было около десяти курьеров, в основном, студенты-журналисты, они же были нашими корреспондентами, но нам пришлось отказаться от их услуг. Кадровые служащие поняли все как нужно и не спешили передавать сообщения, если вдруг весь город напивался или какая-нибудь старая дева во всеуслышание заявила, что видела черную яму на Хай-стрит напротив аптеки. Они знали, что этого, возможно, и не было, более того, факт этот никого не интересовал.
Я написал обо всем этом Бенсону и покорно спросил его о прогнозах на предстоящее лето. Он ответил, что будет еще одно явление вроде трех прошлых, а может, еще и пара, но после них уже ничего не будет.
Теперь-то легко вспоминать, когда все знаешь!
Любой сопляк мог прошипеть в сторону Бенсона:
— Какой дьявол! Неужто никто со своими вшивыми мозгами не видел, что история не протянет двух лет?
Один заявил мне это на следующий день после сообщения. Я прошипел ему в ответ, что Бенсон вовсе не был проклятым дураком, а единственным человеком на этой планете, логически связавшим явления, не связанные между собой, имеющие отношение к этим воспоминаниям.
Миновал еще год. Я потолстел на три фунта, слишком много пил, беспрерывно скандалил с сотрудниками, изрядно дергался. Телеграфист вывел меня из себя на рождественской вечеринке, и я пальнул в него. Жена и дети не приехали ко мне в апреле, хоть я их ожидал. Я позвонил во Флориду, и она пролепетала нечто вроде извинения за то, что опоздала на самолет. После еще нескольких опозданий и нескольких телефонных разговоров она отважилась сообщить, что возвращаться не собирается. Со мной все было о’кей. Я понимал интуитивно, что приближающийся глупый сезон был более важен для меня, чем факт, кто на ком женится.
Однажды ночью в июле по радио поступило новое сообщение из Худ Ривера, штат Орегон. Наш собственный корреспондент сообщил, что в окрестностях появилось более сотни «зеленых капсул» длиной около пятидесяти ярдов. Служащий, принявший депешу, вовсе не был таким новичком, чтобы забыть указание об отношении к историям для глупого сезона. Он «зарубил» это сообщение, но оставил до утра, чтобы развлечь меня. Думаю, что подобное происходит в каждом кабинете на радио. Я подъехал в 10.30 и сразу же просмотрел все «жареные» новости. Увидев сообщение о «зеленых капсулах», я сразу же стал звонить в Портлэнд, но не мог соединиться. Затем раздался звонок, и корреспондент из Сиэтла завопил в трубку, но связь внезапно оборвалась.
Меня затрясло, и я набрал номер Бенсона в Форт Хиксе. Он оказался в это время в полиции и спросил меня:
— Ну что, это случилось?
— Случилось, — ответил я и зачитал ему телеграмму из Худ Ривера и рассказал об обрыве связи с Сиэтлом.
— Итак, — с изумлением произнес он, — я предсказывал этот поворот, не так ли?
— Что за поворот?
— Появление захватчиков. Не знаю, кто они. Но все это напоминает мне историю мальчика, звавшего на помощь, когда к стаду подбирался волк. Так вот — волки выбрали время. — И телефон замолчал.
Он оказался прав.
Люди Земли оказались овцами.
Службы новостей: радио, телевидение, пресса — были теми мальчиками, которые должны были звать на помощь.
Коварные волки так часто заставляли нас звать на помощь, что деревенским охотникам надоело бегать, они уже не придут, когда появится реальная опасность. Этими волками, которые неслись через Озаркс, не встречая сопротивления, были марсиане, в ярме которых нынче мы и влачим свое жалкое существование.
Перевод с англ. Н. Макаровой

Карл Джекоби
ТЕПОНДИКОН

Около семи часов по земному времени я смог ясно различить впереди стены первого зачумленного города — Профальдо. Он лежал передо мной, весь какой-то серый, и тусклые отблески неяркого солнца отражались в крышах его колоколен и минаретов. Все три дороги, пересекавшие равнину, сходились у его ворот и плавно переходили в единственный узкий движущийся тротуар.
Я съехал на своем тракторе в неглубокую балку, вылез и снова посмотрел в магноскоп. Равнина была совершенно пустой, как и полагается в этот час, и единственным признаком жизни был одинокий ток, который высоко в небе медленно выписывал бесконечные круги.
Мне хватило всего пяти минут, чтобы подготовиться к появлению в Профальдо. Тщательно намотанный волосизоновый провод был надежно скрыт под туникой. На левом плече у меня висел невинный с виду рюкзак, в котором лежал один из семи передатчиков, а также набор необходимых инструментов и приспособлений. Я вынул три белых таблетки из небольшого стеклянного флакона и проглотил их. И на всякий случай опустил в карман инфракрасный излучатель.
Я пустился в путь через равнину. Видимость была обманчивой, однако оказалось, что я не так уж плохо все рассчитал, и примерно через час я ступил на движущийся тротуар, который вел к воротам в Профальдо.
Охранник в будке осмотрел меня с ног до головы, когда я остановился перед ним.
— Вы не гражданин этого города, — сказал он. — Знаете ли вы, куда попали?
— Прекрасно знаю, — сказал я. — Вот мои документы, подписанные Верховным Советом Ганимеда. Пропустите меня.
Ворота раздвинулись, и через какое-то мгновение я очутился в городе.
Профальдо! Опустошенный чумой, внушающий ужас и легендарный! Как и аналогичные ему остальные шесть городов, это место было известно по всей Системе как рассадник чумы, в котором жили приговоренные к смерти люди, ведущие весьма легкомысленный образ жизни, являвшийся своеобразным вызовом приличиям и уважению законов.
Пройдя метров двадцать, я понял, что город стал скопищем трущоб. Сплошные таверны, превращенные в притоны, кишащие сбродом, грязные и шумные. Густой туман застилал мигающие зеленые фонари на улицах и придавал им облик гротескной ирреальности.
Тут и там встречались группы местных жителей. Мало у кого из них были явно заметны признаки ужасной болезни — зеленоватый цвет лица и глаз, свойственный прокаженным, неуверенная походка, — но я знал, что все они больны в той или иной стадии.
Следуя данной мне инструкции, которую я постоянно прокручивал в памяти, я пошел по этой улице, повернул направо, потом налево. Да, это здесь. Здание асфальтового цвета с надписью большими буквами над входом: «Департамент Энергетики».
Я вошел. В холле не было ни охранников, ни служащих по приему. Я слышал только мерное гудение механизмов где-то под ногами. Я пошел по длинному коридору. По обе стороны встречались двери с надписями. На шестой справа я прочитал: Комиссар.
Еще до того, как я увидел владельца этой комнаты, я уже знал, что тут меня ждет успех. Владелец походил на большой кусок мяса со свиными глазками и волосами альбиноса. Он поставил на стол стакан, из которого пил ликер, и посмотрел на меня.
— Служба рекламаций в глубине зала, — сказал он. — Здесь частное бюро.
Я пересек комнату, чтобы сесть на стул, стоящий у стола.
— Меня зовут Георг Дьюлфей, — сказал я спокойно. — Я новый инспектор, присланный Советом. Прошу вас подписать мои документы.
Рожа у него перекосилась, он так и впился в меня взглядом своих свинячьих с кровавыми прожилками глазок, потом, рассеянно взглянув на документ, который я ему протянул, он поставил свою подпись. Затем снова взглянул мне прямо в глаза.
— Новенький, а? — сказал он, выдавив из себя приветливую улыбку. — А что вы думаете о нашем прекрасном городе?
— Он воняет.
Это заявление не вызвало никакой отрицательной реакции с его стороны. Он откинулся на спинку кресла и сцепил ладони перед собой.
— Практически никаких изменений, — сказал он. — Четыре сотни умирают, столько же рождается. Попытки бегства заканчиваются наказанием. Анализ воды на сегодня, — он бросил взгляд на стену с целым комплексом мониторов, — вода — 65, кислород — 00, пандин — 5.
— А что говорит отдел исследований? — спросил я.
До сих пор мне удавалось удовлетворительно играть свою роль.
— Ничего, кроме неудач, как обычно, — сказал он, вздохнув. — Вы там, в Совете, знаете так же хорошо, как и я, что против чумы нет никаких средств…
Пришло время начинать первый этап, но я не хотел торопить события. Я вынул из кармана манильскую сигару, зажег ее и выпустил облако дыма в покрытый пятнами сырости потолок.
— Я думаю, отчет, как всегда, будет утвержден, — сказал я. — Но есть еще кое-что. Я хотел бы купить у вас немного энергии. Примерно шестнадцать тысяч графлосов…
Даже электрический разряд не заставил бы его так подскочить.
— Энергии! — повторил он. — Шестнадцать тысяч… — Его поросячьи глазки заблестели. — Черт возьми! А для чего это, позвольте вас спросить?
Я почувствовал, что пульс у меня участился, а горячая волна стала растекаться по моим жилам, но я точно знал, что внешне выгляжу совершенно спокойным.
— Если ваш отдел исследований считает, что против чумы нет средств, то у Совета есть и другие мнения, — сказал я. Мы хотим провести опыт. Направить шестнадцать тысяч графлосов энергии на каждый из семи городов, причем энергия будет передаваться посредством жесткого сконцентрированного луча при помощи повышающегося трансформатора, установленного в каждом из городов. Гарман — это сотрудник, назначенный Советом ответственным за всю операцию, — считает, что такое мощное излучение в состоянии разрушить вирусы чумных бацилл.
Комиссар придвинулся к столу. Он наполнил голубым лавандовым ликером свой стакан и осушил его.
— Черт возьми! — сказал он. — Вы не инспектор. А кто же вы?
— Вы видели мои документы.
Он снова взял их и принялся внимательно перечитывать. Я следил за его реакцией. Я чувствовал, как холодный пот ползет по моей спине. Затем я с облегчением увидел первые признаки доверия.
— Я вам верю, — сказал он. — Но скажите мне, думаете ли вы, что на самом деле есть хоть какой-нибудь шанс справиться с этой чумой?
— Такая возможность определенно существует, но, естественно, до ее реализации еще далеко, проект находится в стадии доработки. Вы, конечно, понимаете, что наша беседа совершенно конфиденциальна… А теперь… Где находится пульт управления энергией?
Он нажал на какую-то кнопку на пульте перед собой и пробормотал несколько слов в микрофон. Затем он встал и протянул руку.
— Идите по коридору, мистер Дьюлфэй. И да поможет вам Провидение.
Выйдя из бюро, я был вынужден на несколько минут прислониться к стене, чтобы унять нервную дрожь, охватившую все мое тело после этого нелегкого испытания. Первое препятствие было пройдено. Отныне, хотя впереди их тоже будет немало, мне предстоят в основном формальности. Я бросил сигару и пошел по коридору.
Он упирался в лестницу, по которой я поднялся на второй уровень. Пройдя через вестибюль, я вошел в зал энергии. Утонув в кресле, небольшой сморщенный человечек, сидевший перед огромным экраном дисплея, кивнул мне, чтобы показать, что он получил указание. Не колеблясь ни секунды, я тотчас отключил источник, вытащил из-под туники бобину с проводом и подключил ее к главной цепи.
Закончив, я перенес бобину через весь зал и опустил ее в окно. Я вылез вслед за ней на небольшой балкончик, служивший для монтирования дополнительного оборудования и как нельзя лучше подходивший для моей задачи, затем я вынул из рюкзака миниатюрный передатчик, подключил его к сети и прилепил к стене в укромном месте. Затем я включил часовое устройство. Точно через час я вернулся к моему трактокару и пустился в путь по равнине.
Если бы месяц назад мне кто-нибудь сказал, что я побываю не только в Профальдо, но и в каждом из зачумленных городов Большого Плато Ганимеда, я принял бы его за сумасшедшего. Но это было до того, как я познакомился с Хол-Даем.
Естественно, это не было его настоящее имя. Так его звали в психиатрической лечебнице, где я проходил практику. Это был первопроходец, один из первых колонистов, прилетевших с Земли. Он закончил там свои исследования в области внеземной медицины, и ему хотелось испытать их в действии.
Однажды он, как обычно, завел со мной разговор, и, за неимением других занятий во время дежурства, я рассеянно слушал его.
— Сын мой, — сказал он мне, — слышали ли вы о семи чумных городах: Профальдо, Сенаре, Колдрее, Вольтаре, Ксинане, Малакане и Кловаде?
Я кивнул головой.
— Да, Хол-Дай. Вам пора принимать лекарство.
Он принял две таблетки и показал мне лист бумаги, на котором что-то писал.
— Знаете ли вы, что эти города самые богатые в Системе?
— Богатые? Нет, Хол-Дай, должно быть, вы ошибаетесь. У них нет ничего, кроме чумы.
В ответ он улыбнулся.
— Чума — это охрана, сын мой. Победите ее — и вам достанется самое невероятное сокровище, о котором человечество когда-либо слыхало. Послушайте…
Что ж, я выслушал его до конца, сначала набравшись терпения, а потом со все более возрастающим интересом. Вообще-то, вся эта история была совершенно невероятна, однако в ней было нечто завораживающее. Я знал, как эти семь городов Большого Плато были сначала разграблены Конвоем и его шайкой и пришли в упадок после тысячелетнего развития на Ганимеде, третьем спутнике Юпитера. И как император этих семи городов, взятый в плен, поклялся отомстить за такое злодейское преступление против его рода и неизвестно каким образом послал на них странное и ужасное проклятье, превратившее некогда процветавшие города в чумные дыры.
И вдруг Хол-Дай сказал нечто, заставившее меня навострить уши.
— Как вы думаете, почему император наслал чуму? Только из мести? Но ведь это глупость — навсегда проклясть свой собственный народ. Нет, сын мой, причина в другом.
Я никак не реагировал, ожидая, что он скажет дальше.
— В течение трех тысяч лет семь городов жили за счет добычи, награбленной на Ио и Каллисто, первом и втором спутнике. И ни разу эти идиоты не задались вопросом, что же стало с огромной добычей.
— Ну, может быть, они об этом узнают, Хол-Дай, — сказал я. — придет день, и флот космических кораблей увезет все с собой.
Седовласый старец покачал головой.
— Не флот, сын мой. А один человек. В своей руке.
Я стал его расспрашивать. Через несколько минут я уже все знал. Ио и Каллисто были завоеваны народом Ганимеда и вынуждены выплатить огромную дань. В частичное погашение завоеватели получили драгоценный камень, который ганимедцы назвали Камнем Юпитера. Этот камень в футляре из белого пинардия содержал сжатую частичку люмино-активной сколотой породы, из которой состоит красное пятно Юпитера. И в этом камне достаточно энергии для работы половины всех заводов и других промышленных предприятий всей Солнечной системы. Да, я забыл сказать, что у Хол-Дая был диагноз неуравновешенного психоза.
— А где же этот камень? — спросил я.
— Он лежит в простом стеклянном футляре во дворце прежнего императора, в Кловаде, — отвечал он. — Однако… — он сделал предостерегающий жест. — Не думайте, что все так просто. Население Большого Плато Ганимеда знало цену своему сокровищу и приняло меры, чтобы спрятать его. Они поместили камень в немного искривленное пространство. В том месте, где камень находится, он так тяжел, что даже целая армия с подъемными механизмами не смогла бы ничего с ним сделать.
— И что же?
— Как же завладеть им? Есть способ, сын мой, очень опасный, который почти невозможно осуществить и на изобретение которого у меня ушла вся жизнь. Искривление пространства было осуществлено на базе семи источников, расположенных так же, как семь городов. Я изобрел устройство, испускающее волновой каскад по такой же схеме. Он в состоянии нейтрализовать искривление пространства. Но, чтобы собрать схему, надо побывать во всех семи городах, а это значит подвергнуться опасности заражения не одним, а семью видами чумы. Я позаботился и об этом. Я изобрел лекарство, позволяющее выработать временный иммунитет…
В этом месте сознание Хол-Дая снова помутилось, и он стал выдавать бессвязный лепет.
Я обдумывал его рассказ в течение недели. За это время я от корки до корки перечитал историю болезни Хол-Дая и выяснил, что моменты просветления у него бывали довольно регулярно и отличались примечательной последовательностью. Затем я отправился туда, где он раньше жил. Мое удостоверение открывало передо мной все двери, и я получил доступ к его бумагам. Их никто никогда не трогал. Я нашел также флакон с изобретенным им лекарством, к которому была приложена подробная инструкция по применению. А среди принадлежащих ему вещей и приборов я обнаружил семь миниатюрных передатчиков и бобины с проводами. Однако напрасно пытался я найти в его бумагах хоть какое-либо упоминание о Камне с Юпитера.
Но я не ограничился этим. Я стал посещать публичные библиотеки и архивы в поисках подтверждения рассказанного мне Хол-Даем. Там, где я не находил явного подтверждения, я, тем не менее, находил «возможность». То, что мне сказал старик, могло быть правдой.
Пока я читал историю Ганимеда, притягательность и очарование этого камня росли во мне. Вся история стала для меня чем-то вроде наркотика, я больше ни о чем не мог думать, пока не наступил момент, когда я понял, что должен действовать. Я взял себе всю экипировку Хол-Дая, флакон с таблетками и в течение недели штудировал расположение семи городов и подходы к ним. Я отправился на трактокаре к первому городу, Профальдо, и, как вы уже знаете, мне удалось установить первый передатчик.
— Семь минус один остается шесть, — сказал я себе. Я был совершенно уверен в успехе, настроение у меня было превосходное.
Второй город, Сенар, неожиданно появился из тумана. Высоко в небе необъятный диск Юпитера распространял красноватый свет на лежащий передо мной город. Как и раньше, все пересекавшие равнину дороги сходились к началу движущегося тротуара.
Я вошел в город, и мне показалось, что я вернулся назад, что предыдущие прожитые мной часы исчезли. Сенар был копией Профальдо. Все те же блестящие огнями кабаре и наполненные игроками казино. И извилистые улочки, утопающие в грязи.
И снова я оказался у здания с вывеской «Департамент Энергетики». Однако в бюро Комиссара меня ждал сюрприз. С вопросом во взгляде ко мне повернулась… девушка!
Она была высокой и стройной, с длинными черными волосами. Ее глаза с интересом рассматривали меня.
— Ну что? — сказала она.
Та же история, и все то же объяснение. Я протянул свои документы, выждал некоторое время и сообщил, что хочу купить немного энергии.
К моему большому удивлению, она восприняла предложение совершенно спокойно.
— Я знаю, — сказала она. — Вы Тепондикон.
— Я… кто?
— Или, по крайней мере, — отвечала она с улыбкой, — вы живое олицетворение легендарного героя. Если верить ганимедским легендам, с нашими семью городами должно было случиться большое несчастье, превозмочь которое должен храбрый воин, войдя в каждый город и в одиночку победив зло. Легенды называют его Тепондиконом.
— Ясно, — сказал я. — И вы думаете?..
— Что ж, катастрофа уже случилась — чума. А теперь пришли вы, чтобы попытаться победить ее.
Видя мое оцепенение, она беззаботно махнула рукой.
— Комиссар Профальдо предупредил меня о вашем визите. У нас еще остались кое-какие средства связи.
Тепондикон, ничего себе?! Пожалуй, это еще больше облегчало мое положение. Прежде чем я успел произнести хоть слово, она повела меня в зал энергии. Она оставалась там все время, пока я осуществлял необходимое мне подключение к главной сети, и последовала за мной наружу, когда я располагал второй передатчик на внешней стене здания. В тот момент, когда я включил часовой механизм, она взяла меня за руку и сказала:
— Ничто не заставляет вас тотчас уехать, мистер Дьюлфэй, — сказала она. — Я знаю, что у вас есть временный иммунитет против чумы. Вы не будете возражать, если я устрою для вас небольшую экскурсию по Сенару?
Разум говорил мне «нет». А мои глаза говорили «да». Она стояла передо мной, уверенная в очаровании своих чувственных губ. Ее агатовые глаза блестели. На ней было платье из волтекса, и мягкая материя подчеркивала все изгибы и округлости ее фигуры.
Через час я сидел в уютном кафе с приглушенным светом среди высокородных ганимедцев, юпитериан и землян, мужчин и женщин. Все они были в разной степени опьянения, однако все, я понимал это, старались скрыть свой ужас перед лицом ожидающей их неминуемой смерти.
Я сидел за одним столом с комиссаршей Сенара. Она пила боку и весело смеялась.
— Ну же, — сказала она. — Забудьте свои печали. Ведь вы Тепондикон.
Но что-то было не так. Я чувствовал это всеми фибрами кожи. Может быть, дело было в этом мужчине, который давно и в упор смотрел на меня. Он принимал слишком рассеянный вид и слишком быстро опускал глаза, когда я поворачивался в его сторону.
Я посмотрел вокруг, обдумывая, как бы отсюда смотаться. И тогда за другими столами я заметил других людей, точно так же исподтишка следивших за мной. Я выпил полный стакан боки, сделал вид, что выпил второй, и притворился пьяным. Затем я неловко опрокинул бутылку и, пошатываясь, с трудом поднялся.
— Мне тут надо в одно место, — сказал я, икая. — Прошу извинить. — Запинаясь, я пошел к стойке. Не доходя до нее, я повернулся и бросился к двери. За моей спиной тотчас раздались крики. Я побежал по проходам между столами, с грохотом опрокинув три из них.
Я добежал до двери. Разряд инфракрасного излучателя попал в стену, в нескольких сантиметрах от моей головы. Перепрыгивая через ступеньки, я поднялся на улицу и помчался по ней.
На повороте я остановился. Сзади слышались звуки ночного города, но признаков преследования не было. Я без помех выбрался из города и через полчаса спокойно ехал на своем трактокаре по безлюдной равнине. Профальдо и Сенар остались позади. Что ждало меня в следующем городе, Колдрее? Даже в самых своих смелых предположениях я не мог представить себе, какую встречу мне приготовили, Едва войдя в ворота Колдрея, я остановился как вкопанный. Улицы были заполнены праздничной толпой. Светящиеся вывески и транспаранты прославляли только одно имя: ТЕПОНДИКОН. Стяги и орифламмы развевались на всех балконах.
В то время как я неуверенным шагом ступил на улицы города, двое внушительного вида мужчин, одетых в старинные ганимедские доспехи, прокладывали мне путь. С террас некоторых зданий доносилась громкая музыка оркестров. Я знал, что это запись, но это была запись знаменитой и славной «Космической симфонии Бокарта».
Повсюду раздавались оглушительные аплодисменты и приветствия в мой адрес. Меня проводили к открытому автомобилю, и, сопровождаемый одетыми во все красное пажами, я отправился в путь по городу.
— Тепондикон! Тепондикон! — ревела толпа.
Это совершенно сбивало меня с толку. Все взгляды были направлены только на меня, любое мое движение было предметом пристального внимания. Любое слово или любое движение невпопад — и эти приветствия превратятся в проклятья… В то же время, пока автомобиль без помех мчал меня по праздничным улицам, до меня стало доходить значение всего этого.
Ведь эти люди были отбросами Системы. И разве имело значение, что они так заблуждались на мой счет? В любом случае они были обречены. И самое большее через четыре дня Камень Юпитера будет моим. До сих пор моя жизнь была непрерывной цепью неудач. Из Марсианского технологического колледжа меня исключили после второго курса всего лишь за то, что я продавал наркотики моим сокурсникам. Я пробовал мошенничать в азартных играх, но без особого успеха. И вот теперь меня ждала удача, я должен был наконец вылупиться из кокона своей посредственности, обрести заслуженный успех…
Кортеж остановился перед зданием Службы Энергетики. Комиссар уже ждал меня на ступенях лестницы.
В его бюро, вдали от уличного шума, наш разговор был похож на псе предыдущие. Он пододвинул ко мне через стол коробку с сигарами, откинулся на спинку и закурил сам с удовлетворенным видом.
— Подумать только, — сказал он, — что неделю назад я приказал подготовить мне список покончивших самоубийством, мистер Дьюлфэй… Я спрашиваю себя, отдаете ли вы себе отчет, что все это значит для народа. Избавиться от чумы. Ведь это невероятно!
— Не забывайте, — сказал я, — что речь идет пока только об экспериментах. Я ничего не могу вам обещать.
Он отрицательно покачал головой, отклоняя мое замечание.
— Вы справитесь, — сказал он. — Надежды тысяч людей не могут быть обмануты. Ну, а теперь займемся энергией. Все, что у нас есть, в вашем распоряжении.
Вольтар! Ксинан! Малакан!
В четвертом, пятом и шестом городах все шло, как по плану. В каждом городе меня ждал грандиозный прием. Народ скандировал «Тепондикон!» так, что стекла в окнах дрожали. Жители должны были выпотрошить все свои закрома, чтобы украсить стены города гирляндами и флагами. Теперь все это становилось похожим на массовую истерию. Последствия чумы отодвинулись на второй план. Как и легендарный герой Тепондикон, я стал воплощением их мечты и надежды.
Прежде чем войти в очередной город, я принимал соответствующие таблетки Хол-Дая. А прежде чем покинуть их, я подключался к энергетическим центрам и включал передатчики.
Наступила очередь Кловады, седьмого и последнего из городов. Через несколько часов пройдет разряд созданного мной поля на все семь городов. Искривление пространства будет уничтожено. Мне останется только пойти в королевский дворец, открыть стеклянный футляр и завладеть Камнем Юпитера. С помощью этого камня моя жизнь начнется сначала. Больше никакого мошенничества или других мелких афер. Я стану всемогущим повелителем.
Я не обращал внимания на невероятное нервное напряжение, в котором я жил все это время, до тех пор, пока не закончился официальный прием в Кловаде и меня не проводили в бюро Комиссара. Едва войдя туда, я рухнул в кресло и стал с нетерпением ждать его появления.
Комиссаром была женщина. Ничем не напоминающая соблазнительницу из Сенара, невысокого роста хрупкая девушка с огненно-рыжими волосами и голубыми глазами. Она энергично подошла ко мне и приветливо улыбнулась.
— Добро пожаловать, сеньор Тепондикон, — сказала она. Вот вы и у цели.
В ее голосе было нечто, заставившее меня внимательно присмотреться к ней. Неужели она что-то подозревает…
— Вы прибыли к нам издалека, — медленно проговорила она. — Вам встретилось много опасностей, и вы показали себя наилучшим образом. Разрешите спросить вас, мистер Дьюлфэй, какова ваша личная выгода во всем этом мероприятии?
— Да никакой, — ответил я совершенно беспечно. — Для ученого существуют только его исследования. А также благо народа.
— Тем не менее, — сказала она, удовлетворенно кивая головой, — редко случается, что человек идет на такой риск…
— Да, что касается энергии, — сказал я, перебив ее. — Как вы знаете, мне необходимо шестнадцать тысяч графлосов и…
Казалось, она не обратила на это внимания. Выражение ее лица стало торжественным.
— Скажите мне, мистер Дьюлфэй, слышали вы когда-либо о некоем предмете, хранящемся здесь, в Кловаде, известном под названием Камень Юпитера?
Я замер. А девушка продолжала:
— Не очень давно один великий ученый обратился ко мне, выдав себя за главного энергетика семи городов, с проектом, похожим на тот, который вы сейчас осуществляете. Это был необыкновенный человек, но в результате перенапряжения на работе он немного тронулся. Его отправили в психиатрическую лечебницу, где он сейчас и находится под именем Хол-Дая.
Незадолго до своей болезни Хол-Дай изобрел способ борьбы с чумой. Кто-то должен был посетить все семь городов. У него должен был выработаться временный иммунитет, но, естественно, он становился вирусоносителем. Когда он добирался до Кловады, он уже должен был превратиться в ходячую пробирку с бациллами.
Теперь о Камне Юпитера. Это нечто невероятное, способное произвести немыслимое количество энергии при правильном применении. До сих пор ученым не удалось применять камень, поскольку он защищен небольшим, но весьма эффективным искривлением пространства. Но у камня есть еще и другие преимущества. Этот человек, Хол-Дай, сделал, кроме того, открытие, что он может трансформировать бациллу чумы, превратив ее из положительной в отрицательную.
Другими словами, если этот предполагаемый посетитель семи городов в конце своего путешествия должен будет подвергнуться облучению Камня, произойдет нечто весьма любопытное. Он станет носителем микробов, которые, выйдя на волю, тотчас станут бороться с чумой. То есть станут антитоксинами. И, продолжая следовать гипотезе, если этот человек пустится в обратный путь, снова посещая каждый из семи городов, можно предположить, что чуме придет конец за несколько месяцев.
— Теперь понимаю, — сказал я. Где-то в глубине души у меня стало зарождаться сомнение. — Но почему до сих пор нельзя было это сделать?
— Потому что, — отвечала она улыбаясь, — до вашего прибытия никто не знал, как обеспечить временный иммунитет, и ни у кого не хватало храбрости заняться всем этим без него. Теперь я знаю, что вы нашли способ, как его обеспечить. Но, как вы, должно быть, знаете, если вы будете подвергнуты облучению Камнем Юпитера, вы умрете через шесть недель!
— Вы что хотите этим сказать?..
— Именно это: если вы до конца будете играть роль Тепондикона, вы не доживете до дня своей славы.
Она задумчиво побарабанила пальцами по своему столу и добавила:
— Я должна еще сказать, что Хол-Дай говорил с нами о своем плане уничтожения искривленного пространства вокруг Камня Юпитера. Однако, поскольку он заболел, мы так и не узнали о нем…
Я вздохнул с облегчением, Хол-Дай не обманул меня. Не эта девочка со всей ее болтовней насчет средства против чумы, должно быть, совсем идиотка. Какое мне дело до него? Мне нужен был только камень!
Она в упор посмотрела на меня.
— Я не знаю, кто вы, мистер Дьюлфэй, но, прошу вас, выслушайте меня. Когда-то эти семь городов были гордостью юпитерианской системы. Их жители были веселыми и здоровыми. Правда, на заре своей истории они эксплуатировали соседей с Ио и Каллисто, но это было очень давно. На протяжении многих поколений у них были совершенно мирные занятия: торговля, развитие промышленности и культуры.
А посмотрите на них сейчас. Города превратились в чумные ямы, где царят пороки и грехи, где нет будущего, а есть только сегодняшний день! Только представьте себе, если можете, все проклятье этой самой чумы. Вы, например, уже знаете точно, что заражены ею и что вас ждет неминуемая смерть. А теперь оцените эту легенду о Тепондиконе. Это не какой-то православный воин или рыцарь в доспехах, это обычный человек, который жертвует своей жизнью, чтобы спасти других. Это высшая слава. Мистер Дьюлфэй, — сказала она, вставая, — теперь я должна вас оставить. Но перед этим я хотела бы привлечь ваше внимание к двум дверям, через которые можно выйти из этого бюро. Та, через которую вы сюда вошли, это выход. Это выход на улицу, а по улице можно дойти до дворца и оказаться у Камня Юпитера. Он никем не охраняется. Если искривление пространства исчезнет, им легко завладеть.
Другая дверь ведет к пульту управления излучателем, изобретенным Хол-Даем. Там с помощью специальной установки излучение Камня Юпитера передается на экран дисплея. Если вы войдете в эту комнату и сядете перед экраном, то вирусы чумы, носителем которых вы являетесь, станут отрицательными. Тогда вы снова сможете посетить шесть других городов. Чума будет побеждена, но вы погибнете.
Она направилась к выходу.
— Теперь вам решать, — сказала она. — Все, что я могу сказать, — есть путь к вашей славе!
Она вышла, оставив меня в полной растерянности. В течение минуты я сидел неподвижно. Слава, сказала она. Да, это была бы слава. Но, в то же время, это была бы смерть. Такая же смерть, которая ждала обреченных обитателей семи обреченных городов. С другой стороны, Камень Юпитера, воплощавший все, за что я так долго боролся…
Я пересек комнату и уселся за комиссарский стол.
Надо, пожалуй, записать все мои мысли и дела прошедших дней.
Я должен сохранить все это. Если я выберу чумную дверь, это будет моим завещанием — и памятником мне.
Если я выберу ту, что ведет на улицу, если я установлю последний передатчик и наконец завладею Камнем, это будет приговором мне — а также проклятием, которое будет преследовать меня всю оставшуюся жизнь.
Именно этот документ вы сейчас прочитали!
Через час я встал и аккуратно сложил рукопись. В комнате было жарко, даже душно. Где-то старинные часы регулярно отбивали четверти. Тогда, рассмеявшись, я направился к одной из дверей.
Конечно, все вы знаете, какую дверь я выбрал…
Перевод с англ. С. Цырульникова

Джером Биксби
АНГЕЛЫ В РАКЕТАХ

По химическому составу эта планета сильно напоминала Землю, но была гораздо меньше размером. Она вращалась вокруг безымянной звезды класса К Звездного скопления 13. По утрам, наступавшим каждые 16 часов, четко виделся ее единственный материк, напоминающий по форме букву У. Планета располагала зеленой флорой высотой чуть ли не в милю и хищной фауной. Желто-красное небо часто дождило, серые реки плавно несли свои воды в серое море. Атмосфера планеты была пригодна для дыхания, если бы не одна существенная вещь. Из-за нее-то капитан Марчисон Дж. Додж и назвал планету Смертельной.
Межзвездная исследовательская экспедиция 411 находилась на одном из морских побережий Смертельной планеты уже три дня, когда Мабел Гуэрнси споткнулась об огромную, наполовину скрытую землей раковину моллюска. При падении она ударилась головой о гребень большой раковины. Ее кислородная маска слетела, и Мабел Гуэрнси сошла с ума.
Мабел посадили под замок. Ее привели на «Лэнс», который напоминал сияющий трехсотфунтовый кубок. Он стоял на пандусе из черно-коричневого абледиана, который образовался из песка, обданного раскаленными газами, вырывающимися из сопла корабля при посадке. Мабел ввели в каюту и поставили охрану, поставили перед дверью решетку и установили двадцатичетырехчасовое дежурство, дабы она не сбежала. Дело в том, что вскоре стало ясно, что единственное в мире, или, точнее, на Смертельной, что Мабел жаждала осуществить, было желание воистину ужасное желание — снять маски со всех окружающих, чтобы они стали такими же, как она.
Марчисон Додж был не только капитаном «Лэнса», но и физиобиологом, потому он отправился на исследование окружающей среды в поисках какого-нибудь средства от болезни, сильно напоминающей отравление спорыньей. Как при отравлении спорыньей, причиной болезненного состояния являлось наличие грибка, переносимого ветром и вдыхаемого в данном случае в виде странных микроскопических частиц, которые Марчисон Додж считал спорами. Как и при спорынье, они вызывали зуд и судороги, однако эти симптомы быстро исчезали, и в отличие от отравления спорыньей отсутствовали непроизвольные сокращения мышц, и жертва не умирала. Она только сходила с ума. По поведению Мабел психолог Руперт установил, что это была особая форма умопомешательства. Казалось, Мабел очень счастлива. И она страстно желала, чтобы другие тоже были счастливы, как она. Она пыталась сорвать с них маски, пока ее не заперли.
Додж отправился на поиски лекарства. Он улетел на два дня. А после его ухода ночной часовой у каюты-тюрьмы Мабел, астронавт по имени Краус, которого никто не любил, почувствовал сильное возбуждение от близости на редкость привлекательной и провокационно невменяемой женщины, сорвал решетки, открыл дверь и вошел в каюту, надеясь безнаказанно осчастливить ее своей любовью.
Когда Додж вернулся на маленьком катере, «Лэнса» не было.
Далеко внизу яркое пятно — красно-сине-пурпурное со слабым мерцанием стали — подсказывало Доджу, что это и есть, похоже, его своенравный космический корабль.
Слава Богу, они не отправились в межзвездное путешествие или самоубийственный скачок на местное солнце. Такова была его первая мысль. И тут он обнаружил оставленную записку и принялся гадать, что же могло случиться.
Записка была выложена на песке большими раковинами и была длиной в сто футов. Она гласила: «Ты сумасшедший. Мы уходим. Ты никогда нас не найдешь».
Ниже из маленьких раковин, аккуратно подобранных по цвету и размеру, были составлены имена шестидесяти трех астронавтов и исследователей «Лэнса».
Додж вздохнул и отключил реактивные двигатели, так он удерживал катер на спаде скорости. Летающее крыло катера со свистом вышло в атмосферу, похожую на земную, но раза в два плотнее. Зеленый горизонт Смертельной планеты скользнул по кругу от носового люка и был заменен медным небом, желтыми облаками и подернутым туманом оранжевым заревом, оказавшимся солнцем. В этот момент неподвижности Додж раскрыл парашют. Он вылез, закрывая небо, облака, солнце. Потом взвился и раскрылся. Глубокое кресло Доджа и пустое кресло напарника затряслись, возбуждая неприятные ощущения, потом медленно приподнялись. Додж наполовину сидел, наполовину лежал, ощущая тяжесть в плечах, и смотрел на плотную белую обратную сторону парашюта красными глазами, горящими под сухими веками. Его руки потянулись к пульту, чтобы выпрямить кресло, но он передумал. Полулежачее состояние было очень удобно после восьмидесяти часов без сна и еды в ходе поисков.
Маленький катер спускался вниз, раскачиваясь на тросах, и каждое покачивание открывало ему картинку за краем парашюта. Медное небо. Желтые облака. Затуманенное солнце.
Туда-сюда, туда-сюда, и неожиданно мелькание медных и желтых тонов сменилось появлением зеленого цвета, и катер очутился среди огромных деревьев. Теперь при каждом повороте Додж видел стену из зеленых и коричневых стволов, равномерно и тихо скользящих мимо. Круговые движения катера Доджа сопровождались тихим жужжанием. Рука капитана лежала на приборной панели, готовая запустить двигатели, если парашют запутается или порвется.
Додж включил гирю, и раскачивания прекратились.
Капитан открыл экран заднего обзора. И даже заморгал от того, что увидел далеко внизу среди гигантских корней гигантских деревьев, хотя готовился к чему-то подобному. Он стал бить по клавишам, управляющим тросом. Снижающийся катер полетел влево, по направлению к лесной прогалине.
После некоторой регулировки управления катер встал на стабилизаторы в центре деревенской площади.
Утомленный Додж нажал на педали, желая втянуть парашют в корзину и автоматически упаковать его. Потом один за другим он включил экраны бокового обзора и получил панораму.
Люди собрались кругом, наблюдая за катером. Все улыбались. Все были вооружены. Даже маленький бактериолог Янсен, часто выражавший отвращение к оружию, носил пару бластеров у толстого бедра. Вдоль морского берега выли кошмарные зверюги. Додж подумал, что их тут не меньше, чем в обширных лесах Смертельной. Оружие доказывало, что сумасшедшие были в состоянии распознать опасность и собрались защищать свои жизни.
Блеска стали на корабле стало гораздо больше, он стоял, огромный, высокий и какой-то неполный. Оболочка гордого «Лэнса» была ободрана. Во всю его длину зияли неровные и широкие пробоины, корабль напоминал просматривающийся насквозь скелет, из него были убраны огромные вогнутые диски. Додж машинально отметил, что большинство их изуродовано. «Лэнс» никогда не покинет Смертельную.
А эта пестрота…
Додж почувствовал холодное покалывание за ухом. Это разноцветие создала примерно дюжина огромных сосновых ящиков из хранилищ «Лэнса» и потускневшие диски с его корпуса вперемешку с новыми сияющими дисками из ремонтного запаса — все переломанное, распиленное, погнутое и смятое, лежащее рядом и штабелями, сваренное, сбитое, склеенное, раскрашенное и переделанное в дикую пародию на деревню.
В ящиках были выпилены или вырублены отверстия — окна и двери; судя по количеству засовов и подпорок, видных снаружи, многие имели двойные запасы. Ящики стояли на густой зеленой траве, как гигантские детские кубики, в беспорядке брошенные на лужайке. Разноцветные с сумасшедшими углами; какие-то оборки и мишура; створки раковины и дешевые украшения, конфеты и игрушки, тряпки в горошек и яркая клетчатая ткань, похожая на льняную. Неровные занавески на окнах, колышущиеся от ветерка, и половинки, еще недавно бывшие диванными подушками в главной кают-компании «Лэнса», с высыхающими оранжевыми надписями «Добро пожаловать». Стены одного из домов-ящиков были покрыты пурпурно-желто-зеленой росписью, чье беспорядочное, запутанное уродство могло иметь какое-то значение только для безумных творцов.
Додж решил, что краски разведены на машинном масле из резервуаров «Лэнса», а сами красители получены из цветных глин, которых было множество на Смертельной. Краска была неровной и по большей части очень жирной.
Маленький серый ручеек бежал через поляну (Додж нашел «Лэнс», методически следуя за всеми ручьями вдоль и поперек континента), несколько небрежных садовых участков уже разместились рядом. Дальше за кромкой поляны стояла большая теплица и металлическая груда машин, находившихся в ящиках.
Додж выключил гиро, но из предосторожности оставил наготове стартовые двигатели: вдруг ему придется спешно бежать. Дрожащие, грязные руки капитана нашли нужные рычаги, и кресло медленно встало вертикально; ослабевшего, его поддерживали ремни. Додж поднялся и глубоко вдохнул резкий запах двигателей. Потом перешагнул через порог и нащупал ногой лестницу. Капитан спустился в тамбур.
Сквозь прозрачный тамбур Додж мог видеть все до самой земли, то есть футов на пятнадцать, и любоваться на людей, изучающих его.
Янсен, Галдберг, Чабот, де Сильва, Мабел Гуэрнси, молодой Джонс, Мериэн — его сердце екнуло, когда он увидел в толпе ее лицо, такое милое, со слабой улыбкой на устах, — Стрикленд, четверо большеглазых детей и все остальные. Они стояли широким кругом, в центре которого находился катер, а радиус круга была его остроносая тень. Некоторые из собравшихся были одеты вполне прилично, другие нелепо, как де Сильва, на котором были шелковые женские чулки и купальные плавки, а сверху его любимая куртка, которую он надевал на вечеринки на борту корабля. Многие были вовсе не одеты. Додж увидел старого, величественного Руперта, которого, должно быть, выбрали для наблюдения за катером. Он стоял обнаженный на некотором расстоянии от катера перед домом-ящиком и смотрел в сторону. Руперт застыл в неподвижной позе, с руками, скрещенными у головы, спина его была изогнута дугой. Его ноги стояли в луже. Руперт изображал памятник.
Додж включил тамбурный механизм и оставил люк приоткрытым: у него не было уверенности, что при первой же возможности ему не снесут голову. И прежде всего он, естественно, надел кислородную маску.
Глядя сквозь приоткрытый люк, Додж наконец заговорил. Под маской его голос звучал гнусаво:
— Ну вы, черти…
— Так это Додж, — произнес Чабот, главный инженер «Лэнса». Он стоял на траве, голова на свету, тело в тени, отбрасываемой катером.
— Это Бог, — закричала Мабел Гуэрнси и сжалась в ужасе. Некоторые сделали то же самое.
— Да нет, — презрительно бросил Чабот через плечо. — Это всего лишь капитан.
Додж взглянул на Мериэн. Она двинулась к передней группе людей, и он смог полностью разглядеть ее. Она загорела, на ней петлей висела веревка, и ничего больше не было, кроме подаренного ей Доджем при обручении бриллиантового кольца с Меркурия. Оно сверкало в шафрановом свете солнца при каждом ее движении. Сонными глазами Мериэн взглянула на его закрытое маской лицо. Он печально задумался, понимает ли она, кто он. Ее волосы в отличие от грязных косм других женщин были хорошо уложены, но тело было грязным, со струйками пота. Мериэн всегда гордилась своими волосами.
Додж пристально посмотрел в искрящиеся черные глаза Чабота, появившегося перед толпой и остановившегося прямо под тамбуром. Додж вспомнил, что на корабле Чабот был рубахой-парнем, всегда организующим какие-нибудь развлечения; теперь эта склонность к активной деятельности сделала его чем-то вроде временного руководителя. Без сомнения, он собирался ораторствовать. Додж начал подыскивать подходящие слова.
Мабел подняла лицо от травы и уставилась на Доджа. Потом встала, демонстрируя исчезновение страха перед божеством. Она принялась расхаживать вокруг катера среди толпы, пялящейся на гладкие металлические борта. Несколько детей побежали следом за ней, тоненькими голосами распевая какую-то бессмыслицу.
Додж решил, что лучше всего начать с формальностей. Он придал своему голосу капитанскую решительность:
— Вы меня помните, Чабот?
— Конечно, помню, — ответил с улыбкой Чабот. В его вьющихся волосах, столь же черных, как и глаза, было много крупных хлопьев перхоти. — Вы сумасшедший. Вы просто чокнутый! Вы и нас хотели сделать сумасшедшими.
Глаза Доджа стали ледяными, он надеялся суровым взглядом заставить Чабота повиноваться, но потом вспомнил, что за маской его глаз все равно не будет видно. Испытывая неудовлетворение, он вновь стал думать, что же сказать.
— Я освободилась, — сказала Мабел Гуэрнси, совершая инспекционный осмотр катера. — Вошел Краус, я выскочила, он погнался за мной. Я открыла тамбур и выскочила наружу. Краус не стал закрывать тамбур, а оставил его открытым. Все спали без масок. И все проснулись счастливыми, как Краус и я.
— Потом мы ушли, — продолжал Чабот, — пока вы не вернулись. Мы надеялись, вы не найдете нас. Нам очень жаль, но, в конце концов, вы же сумасшедший, сами знаете. А теперь вы не уйдете, — добавил он, все еще улыбаясь, — пока не снимете маску. Или мы вас убьем.
Все навели на люк оружие.
Додж подался вглубь тамбура, откуда мог наблюдать за их действиями сквозь прозрачный люк. В случае, если бы началась пальба, он бы долго выдерживал огонь, пока Додж не исчез из их поля зрения.
Значит, у них был план действий на случай его прихода. Они защищались. Они бы потерпели поражение, если бы Додж нашел средство от безумия, которое искал. Но он его не нашел. Потребовались бы месяцы на исследование и проведение опытов для производства лекарства.
Он не мог им помочь. И себе он не мог помочь.
Он был здесь.
И они были здесь.
Он был голоден. Он не ел с начала поиска «Лэнса» после безнадежных исследований, почти четыре дня. Когда он покидал «Лэнс», на катере был обычный запас продовольствия, на два дня, не больше. Его желудок сводило от голода. И он устал. Господи, как он устал!
Додж посмотрел на их запрокинутые лица, на высокий изуродованный «Лэнс», который никогда не покинет эту планету, и подумал, что он самый одинокий человек во всей Вселенной.
— Ну правда, — громко произнес Чабот, — вы бы лучше сняли маску и шли бы себе. Снимите маску и уходите, или мы опрокинем катер, влезем и схватим вас.
Он стоял с улыбкой и ждал. Глядя на него. Додж подумал, что как ни смотри, но должны же сумасшедшие что-то есть, во всяком случае Чабот не похудел. Его передернуло от мысли, что они едят друг друга.
За спиной Чабота грациозно пошевелилась Мериэн, ее грация всегда возбуждала Доджа. Она сделала несколько шагов и уставилась на Руперта, все еще изображавшего статую посреди фонтана. Тот отодвинулся назад, его насупленные брови поползли вверх. Мериэн опрокинула его. И легла рядом…
Додж закрыл глаза. Мериэн и старый Руперт… Значит, женская страстность, которую он чувствовал в ней, нашла-таки, но слишком рано свою реализацию. Медленно тянулись черные минуты. Наконец Додж заставил себя открыть глаза и почувствовал мрачное, тупое облегчение. Руперт казался слегка потрепанным. Он вновь изображал фонтан, а Мериэн вновь сидела и рассматривала катер.
Чувство облегчения ушло, как бы все это ни было нелепо, оставляя черную дыру в его сознании и болезненную пустоту, а тихий лихорадочный голос убедил его, что все это первоклассная трагикомедия. Додж устало прислонился к тамбурному люку. Под маской было жарко, выступила испарина. Он почувствовал, что его трясет, внутри все сжимается, кулаки оказались рядом с маской, и он попытался засунуть их в рот; по лицу текли слезы.
— Считаю до трех, — крикнул Чабот. — Ра-а-аз!
Додж ощутил во рту привычный вкус крови.
Окружающие подхватили счет как песню, продолжая:
— Два-а-а-а!
Додж согнулся у люка и заплакал, как ребенок.
— Три!
Во главе с Чаботом они окружили катер, дикими криками подстегивая дисциплину. Они стали раскачивать катер. Додж стремительно взбежал по лестнице. Он перегнулся через оба кресла, чтобы включить гиро-контроль. Гиро загудел, заработал, и колебания прекратились. И тут Додж услышал хохот. Он вовремя спустился по лестнице в тамбур и ударил по грязным пальцам, ухватившимся за край люка, чтобы его отжать. Человек с воем упал. Глядя сквозь прозрачный люк. Додж узнал де Сильву, стоявшего на плечах других людей.
Де Сильва лежал на траве и цедил сквозь зубы:
— Ты, чертов капитан, ты сломал мне руку.
Из-за угла дома появилась женщина, Сюзен Мей Ларкин, нобелевский лауреат в области физики. Она не шла, а прыгала. В одной руке она держала букет неизвестных цветов и прикрывала им свое лицо. Ноги вместе, присела и прыгнула. Ноги вместе, присела, прыгнула! Огромный, похожий на медведя мужчина, один из тех, кто обслуживал двигатель, ухмыляясь, вышел за ней из-за угла. Он грубо схватил ее за руку и повел назад. Она продолжала прыгать.
Негромкие, высокие звуки, производимые ударением друг о друга чайниками, кастрюлями и другими предметами кухонной утвари с «Лэнса», неслись из темноты грубо вытесанного занавешенного окна. Явная периодичность позволяла предположить, что это музыка. За катером на всю деревню женский голос в самом верхнем регистре немелодично стал выводить: «Ла-ла-ла». Поющие дети смолкли и прислушались.
Додж произнес ровным голосом:
— Чабот, иди сюда.
Чабот покачал головой.
— А вы меня сделаете сумасшедшим. Ну нет!
— Я не собираюсь делать тебя сумасшедшим, — терпеливо сказал Додж. — Вспомни, Чабот, я все еще капитан «Лэнса». Иди сюда. Я лишь хочу…
Он остановился, не зная, что говорить дальше. Хочет чего? Лекарства от безумия у него нет. Чабот там внизу думает, что оно есть, и боится, но лекарства нет. Использовать Чабота как заложника, а потом? Зачем? Угрозой смерти Чабота он может заставить их принести ему поесть. Но кислородные запасы в резервуарах катера не сохранятся вечно. Даже неделю. И они могут отречься от Чабота или забыть о нем, и угроза Доджа будет бесполезной. Да и Чабот не собирается выходить на передний план.
Что он мог сделать?
— Ладно, — произнес Додж. — Оставайся там.
— Я так и делаю, — улыбнулся Чабот.
Не так уж и глупо, думал Додж. Для безумного он рассуждает довольно логично.
Вращение Смертельной передвинуло тень катера по периметру толпы, как огромную стрелку гигантских часов, отсчитывающих чужеземные минуты на улыбающихся с безумными глазами людях.
Его сознание взорвалось от неожиданного, чисто физического толчка. Он должен что-то сделать. Не что-то разумное и нужное, что могло бы улучшить его положение, ничего подобного сделать было нельзя. Но просто что-нибудь. Его рассудок требовал действий.
— Я разнесу на куски вашу идиотскую деревню, — сказал он помертвевшим голосом. — Разнесу протонными пушками!..
— Ты не сможешь, — сказал Чабот. — Мы уже думали об этом, — не поворачиваясь, он коротко приказал. — Джонс!..
Из толпы выбежал Нед Джонс, стюард и ученик кока. Гибкий, стройный, молодой, он прыгнул на широкий опорный край правого стабилизатора.
Побалансировав здесь, он нашел устойчивое положение выше, в чаше радара. Закрепившись, он наклонился вперед к гладкому борту катера и подпрыгнул. Его голова оказалась на одном уровне с большим овальным стволом протонной пушки. Возможно, он упал бы назад, но он всунул руку в жерло. Его тело повисло. Под тяжестью Джонса жерло на дюйм сдвинулось вниз и остановилось. Рука с хрустом сломалась. Джонс висел и кричал от боли.
— Видишь, — сказал Чабот, — ты не сможешь стрелять, Додж.
Совсем не умно, думал Додж. Нет, я не буду стрелять. Но не потому, что этот мальчишка может помешать стрельбе. Он будет наказан, во всяком случае, его рука, если я нажму спуск. Но я не буду стрелять, я не могу поступить так с ним. И потом нет смысла стрелять и разрушать. Ничего нельзя сделать, только плакать, испытывая потребность что-то делать.
Но что он мог сделать?
Он был здесь.
И они были здесь.
Большой одинокий мир, думал Додж, а кислород не вечен.
Мериэн вновь оказалась впереди толпы, пристально наблюдая за катером и Доджем. Веревка была отброшена, он увидел ее на траве, а Мериэн стояла прямая, высокая и загорелая. Своей осанкой она всегда гордилась.
Безумие, думал Додж, такое же как у всех; оно ухудшило качество суждений, но не настолько, чтобы разрушить логический стиль их поступков. Каждый поражен — Чабот, Мериэн, Руперт, чье желание быть фонтаном могло свидетельствовать о боязни выстрелов. Янсен, с двумя бластерами, де Сильва с его шелковыми чулками — все стали карикатурами на самих себя. Шлюзы прорвало, думал Додж, и они живут бессознательно и счастливо.
Он чувствовал, что должен что-то совершить. Человек должен быть способен к действию.
— Я ухожу, — громко объявил он. — Отойдите. Вы сгорите при старте, если не отойдете.
Чабот не двигался. Он смеялся.
— Ты никуда не уйдешь. Постарайся, и катер взорвется, а ты умрешь. — Он стоял, руки на бедрах. — Мы посадили в реактивные двигатели ангелов.
Он вновь засмеялся. Смех подхватили, и он прокатился по толпе.
Мериэн впервые заговорила:
— Ангелы в ракетах, — удивленно повторила она.
А Додж вспоминал ее умение обращаться с карандашом, бесспорный талант в рисовании.
Ангелы. Просто ангелы. Маленькие толстенькие крылатые ангелы — херувимчики.
Он смотрел на Мериэн, когда она легкой походкой, выражая несомненный интерес, прошла мимо Чабота и исчезла под кормой катера. Потом до него донеслось восклицание. Видит ангелов, подумал он. Значит, безумие включало сильную восприимчивость к внушению.
Додж взглянул наверх. Медное небо. Желтые облака. Гигантские деревья и деревня. И он, съежившийся от ужаса в катере. Огромный одинокий мир. Уйти? В огромный одинокий мир? А зачем?
Он сел рядом с приоткрытым люком, помолился, кончики пальцев касались холодной стали. Он был насторожен, как зверь, Сзади шум от гиро и цикловодителя показался ему вдруг песней смерти.
Во имя чего живет человек? Инстинкт Доджа толкал его к единственному ответу: по всему видно, человек живет, чтобы жить.
Может, лет через десять спасательный корабль будет исследовать звездное скопление 13. Но это будет безнадежное дело. А, возможно, этого и вовсе не будет, ведь исследовательские экспедиции были автономными, и если от них не было сигналов, считались погибшими.
— Да, — произнес он. — Думаю, ты прав, Чабот. Если я уйду, то погибну.
Он нажал на механизм замка. Люк скользнул в сторону, завершая остаток пути. Додж встал, сорвал кислородную маску сорвал быстро, не давая себе времени на раздумье, глубоко вздохнул раз, два, три…
Он направился к выходу, мгновение поколебался у края нового мира. Его горящие глаза заметили маленькое зеркало на стене, он увидел свое лицо, заглянул в свои глаза, которые некогда знал, и сказал:
— Прощай…
И, пока он смотрел, они изменились.
Мягкая, звенящая мелодия из какого-то дома коснулась его ушей, доставляя удовольствие. Он повернулся и стал спускаться по металлическим ступеням вдоль борта и думал: «Но я не ощущаю большой разницы!» По пути он остановился, дотянулся до Джонсона и помог ему выбраться из жерла пушки. Вдвоем они спрыгнули на землю.
Как только проблема сумасшедшего в их рядах была разрешена, толпа потеряла к нему всякий интерес. Они расходились по одному и в компании, смеясь и болтая. Джонс улыбнулся и тоже пошел прочь, поддерживая сломанную руку. И Додж с удивлением заметил, что у Джонса есть еще две руки. Без сомнения, это был Джонс. Как странно, что Додж никогда не замечал трех рук раньше. Ладно, не имеет значения…
Мериэн вышла из-под кормы, ее глаза сияли. Она прошла мимо, провокационно покачивая бедрами. Он подошел и схватил ее за плечо, оставляя на теле синяки. Неожиданно она оказалась у него на руках.
— Ты мне тоже нравишься, — сказала она хрипло и страстно. — Ты мне тоже нравишься.
Они взялись за руки и пошли. Мериэн вспомнила прыгающую женщину и тоже стала прыгать. Вскоре это превратилось в танец. Со счастливым смехом Додж присоединился к ней.
Разгуливая на четвереньках, он споткнулся, когда входил в лес, и смог заглянуть под катер, там в ракетах он увидел фигуры приплясывающих ангелов.
Перевод с англ. Ю. Беловой

Альфред Бестер
5 271 009

Возьмите две части от Вельзевула,[5] две от Израиля,[6] одну от Монте-Кристо, одну от Сирано,[7] тщательно смешайте, приправьте все это таинственностью, и вы получите господина Солона Акилу. Он высок и худощав, у него веселые, но резковатые манеры. Когда он смеется, его темные глаза прячутся в глазницах. Неизвестно, чем он занимается. Он богат без видимых источников богатства. Его везде видят и каким-то образом все понимают. В его жизни много необычного.
Каждый хотел бы для себя тех странностей, которые происходят с Акилой. Когда он прогуливается, ему не приходится ждать нужного сигнала светофора. Когда он едет куда-либо, свободное такси всегда под рукой. Когда он вбегает в отель — лифт уже ждет. Когда он входит в магазин — продавец всегда свободен, чтобы обслужить его. Всегда, когда он заходит в ресторан, для него имеется столик. Всегда в последнюю минуту кто-нибудь сдает билет, если господину Акиле взбредет в голову развлечься на представлении, на которое давно уже распроданы все билеты.
Вы можете расспросить официантов, водителей такси, девушек-лифтеров, продавцов, кассиров. Здесь отсутствует сговор. Господин Акила не дает взяток, он не занимается ради таких удобств шантажом. Да и как можно дать взятку автоматическим часам, управляющим городской системой светофоров! Все эти случайности, так упрощающие его жизнь, просто происходят. Так что господин Солон Акила никогда не знал разочарований. Сейчас вы узнаете о его первом разочаровании и увидите, к чему это привело.
Господина Акилу видали в низкопробных саунах и фешенебельных барах. Его встречали в публичных домах и на коронациях, на казнях, в цирках, в городских судах и конторах букмекеров. Было известно, что он покупает старинные машины, исторические драгоценности, инкунабулы,[8] порнографию, химические препараты, потом призмы, пони для игры в поло и всевозможное оружие.
— Himmel Herr Gott Sei Dank![9] Я сумасшедший, сумасшедший, — твердил он ошеломленному управляющему супермаркета. Мой идеал — готы. Tout le monde.[10] Черт возьми!
Говорил он эффектно, смешивая метафоры и значения. Полдюжины языков и диалектов, извергающихся пулеметной очередью. Он и лгал точно так же — ad libitut.[11]
— Sacre blen![12] — говорил он — Имя Акила происходит из латинского языка. И означает «орлиный». О tempora, о mores.[13] Речь Цицерона.[14] Мой предок.
В другой раз:
— Мой идеал — Киплинг. Даже мое имя взято у него. Акила один из его героев. Черт возьми. Самый великий негритянский писатель со времен «Хижины дяди Тома».[15]
В то утро, когда господин Акила был потрясен своим первым разочарованием, он влетел с студию Логана и Дереликта, дельцов в области живописи, скульптуры и антиквариата.
Он собирался приобрести картину. Джеймс Дереликт уже давно знал его как клиента. Незадолго до этого Акила успел купить картины Федерика Релингтона и Унслоу Хомера,[16] по странному стечению обстоятельств забежав в магазинчик на Мэдисон-авеню через минуту после того, как желаемые картины были выставлены на продажу.
— Bon soir, bel espit,[17] Джимми, — крикнул господин Акила. Он всех звал по имени. — Холодный денек, да! Прохладно. Я бы хотел купить картину.
— Доброе утро, господин Акила, — ответил Дереликт. Его лицо напоминало лицо шулера, но честные голубые глаза и улыбка были обезоруживающими, однако на этот раз улыбка Дереликта была натянутой, как будто стремительное появление Акилы его расстроило.
— Я настроился на вашего парня, клянусь Христом, — продолжал Акила, постукивая по безделушкам из слоновой кости и фарфору. — Как его имя, старина? Художник типа Босха.[18] Вы уже имели с ним дело, черт возьми! Единственный в своем роде. О si sic omnia,[19] клянусь Зевсом!
— Джеффри Халсон? — робко спросил Дереликт.
— Вот! — воскликнул Акила. — Какая память! Из золота и слоновой кости! Именно этот художник мне и нужен. Мой любимец. Маленький Джеффри Халсон для Акилы, bitte.[20] Заверните картину.
— Даже не знаю…
— Ага! Нет экспертизы, — воскликнул Акила, размахивая изящной вазой. — Caveat emptor.[21] Черт возьми. Ну, Джимми? Нет в запасе Халсона?
— Это очень странно, господин Акила, — казалось, Дереликт борется с самим собой. — Вы так пришли… Не прошло и пяти минут, как прибыло последнее произведение Халсона.
— Вот видите! Давайте!
— И все-таки я не покажу его вам. По личным причинам, господин Акила.
— Himmel Herr Gott![22] Pourquoi?[23] Картина заказана?
— Н-н-нет, сэр. Дело не во мне. Дело в вас.
— Да? Черт возьми! Объяснитесь.
— В любом случае это нельзя продать, господин Акила. Это невозможно продать.
— Да? Почему? Говори, тухлая рыба с картошкой!
— Не могу.
— Zut alors![24] Мне надо выворачивать вам руки, Джимми? Показать вы не можете. Продать — тоже. И это мне, испытывающему потребность в Джеффри Халсоне. Моем любимце. Черт возьми. Покажите Халсона или sic transit gloria mundi.[25] Слышите, Джимми?
После некоторого колебания Дереликт пожал плечами.
— Хорошо, я покажу.
Он повел Акилу мимо ящиков с фарфором и серебром, мимо покрытых лаком сияющих бронзовых доспехов в галерею запасника, где на серых стенах висели картины, светящиеся под яркими лампами. Дереликт открыл выдвижной ящик и взял конверт из манильской бумаги. На конверте красовалась надпись «Институт Вавилона». Из конверта Дереликт вытащил долларовую банкноту и протянул ее Акиле.
— Последнее произведение Джеффри Халсона, — произнес он. Поверх портрета Джорджа Вашингтона умелая рука с помощью тонкого пера и черных чернил нарисовала на долларовой бумажке другое лицо. Это изображенное на фоне ада лицо, злобное и внушающее отвращение, было точным портретом господина Акилы.
— Черт возьми, — произнес Акила.
— Видите? Я не хотел оскорбить вас.
— Теперь я должен им завладеть, мой мальчик, — господин Акила был очарован портретом. — Это случайность или он так и замышлял? Он меня знает? Ergo sum.[26]
— Я не знаю, господин Акила. Но в любом случае, я не могу продать этот рисунок. Ведь это свидетельство преступления… порча валюты Соединенных Штатов. Надо это уничтожить.
— Никогда! — господин Акила схватил рисунок, будто боялся, что Дереликт немедленно разведет огонь. — Никогда, Джимми. Черт возьми, почему он рисует на деньгах? Мой портрет, pfui.[27] Преступная дискредитация, да ладно. Но деньги? Расточительство. Goci causa.[28]
— Он сумасшедший, господин Акила.
— Нет! Серьезно? Сумасшедший? — Акила был шокирован.
— Конечно, это очень печально. Он тратит время, рисуя на деньгах.
— Черт возьми, mon ami.[29] Кто дает ему деньги?
— Я, господин Акила. И его друзья. Когда мы навещаем его, он клянчит деньги для рисования.
— Боже! Почему же вы не дадите ему бумаги, товарищ моих прежних дней?
Дереликт печально улыбнулся.
— Мы пытались. Но и когда мы давали Джеффу бумагу, он рисовал на деньгах.
— Himmel Herr Gott! Мой любимый художник! Помешанный! Eh bieh.[30] Так, во имя ада, как мне купить его картину?
— Это невозможно, господин Акила. Боюсь, уже никто не купит картины Халсона. Он безнадежен.
— Как же он съехал с катушки, Джимми?
— Это называется бегство от действительности. Все дело в его успехе.
— Да? Докажите.
— Сейчас. Он еще молод, ему чуть больше тридцати, совсем незрелый. Придя к успеху, он оказался неподготовленным к нему. Он не был готов к ответственности за свою жизнь и карьеру. Так мне заявил доктор. Вот он и сбежал в детство.
— Да? И рисует на деньгах?
— Это символ бегства в детство. Он слишком молод, чтобы знать ценность деньгам.
— Да? Ладно. Ja.[31] Очень проницательно. А мой портрет?
— Этого я не могу объяснить, господин Акила, разве что вы встречались в прошлом, и он вас вспомнил.
— Гм-м-м. Возможно. Так. Знаете что? Я разочарован. Я никогда не забываю. У меня случались разочарования. Как! Больше ни одного Халсона? Merde![32] Мой лозунг. Надо что-то сделать С Джеффри Халсоном. Я не намерен разочаровываться в будущем.
Господин Солон Акила многозначительно кивнул, вытащил сигарету, зажигалку, помолчал, углубившись в свои мысли. После долгой паузы он еще раз кивнул, на этот раз приняв решение, и сделал странную вещь. Он положил зажигалку в карман, достал другую, быстро осмотрелся и неожиданно зажег ее под носом господина Дереликта.
Тот не прореагировал. Он замер. Господин Акила осторожно положил горящую зажигалку на полочку перед торговцем произведениями искусств, который стоял не двигаясь. Оранжевое пламя мерцало в его остекленевших глазах.
Акила бросился из запасника в магазин, перерыл там все и нашел редкий китайский хрустальный шар. Он вытащил его из ящика, прижал к сердцу, а потом вглядывался в него. Он что-то бормотал. Кивал. Положил шар на место, подошел к столику кассира, взял блокнот, карандаш и стал что-то писать символами, не имеющими ничего общего с каким-либо языком Земли. Опять кивнул, вырвал листок бумаги и вытащил свой бумажник.
Из бумажника он взял долларовую банкноту. Положил ее на стеклянную конторку, вытащил из кармана набор авторучек, выбрал одну и повернул. Осторожно прикрыв глаза, он дал одной капле с кончика пера упасть на банкноту. Последовала ослепительная вспышка света, потом дребезжащий, постепенно стихающий звук.
Господин Акила положил ручки обратно в карман, осторожно, за уголок поднял доллар и побежал назад в галерею, где торговец все еще стоял, уставившись неподвижным взором на оранжевое пламя. Акила помахал банкнотой перед потухшими глазами Дереликта.
— Слушай, почтенный, — прошептал Акила. — Сегодня в полдень ты посетишь Джеффри Халсона. Когда он будет просить материал для рисования, дашь ему этот доллар. Да? Черт возьми!
Он вытащил из кармана Дереликта бумажник, вложил туда доллар и вернул бумажник на место.
— Ты посетишь его, — продолжал Акила, — по следующей причине: тебя вдохновил Ie Diable Boiteux.[33] Nolens volens.[34] Хромой Бес одарил тебя планом исцеления Джеффри Халсона. Черт возьми. Ты покажешь ему его старые произведения великого искусства, это вернет ему рассудок. Память — мать всему. Himmel Herr Gott! Слышишь? Ты сделаешь это. Теперь иди, и к черту остающихся.
Господин Акила взял горящую зажигалку, затем сигарету и дал пламени потухнуть. Одновременно он продолжал говорить:
— Нет, моя святая святых! Джеффри Халсон слишком великий художник, чтобы томиться в сумасшедшем доме. Он должен вернуться в мир. Он должен вернуться ко мне. Я не желаю разочаровываться. Ясно, Джимми? Не желаю!
— Кажется, у меня есть надежда, господин Акила, — произнес Джеймс Дереликт. — Пока вы говорили, со мной что-то произошло… способ вернуть Джеффу рассудок. Я попытаюсь сегодня днем.
Рисуя поверх портрета Джорджа Вашингтона лицо Далекого Злого Духа, Джеффри Халсон одновременно диктовал в никуда свою биографию.
— Как Челлини,[35] — объявил он. — Вместе рисование и литература. Рука об руку, хотя все искусство — едино. Святые братья, рядом друг с другом. Чудесно. Начинаю. Я родился. Я мертв. Маленький хочет доллар…
Он поднялся с обитого войлоком пола и в ярости бегал между обитыми стенами, представляя гнев, как темно-фиолетовую ведьму, сражающуюся с бледно-лиловой, благодаря волшебству его живописной манеры, контрастам, умелому смешению красок и украденному Далеким Злым Духом гению Джеффри Халсона.
— Попробуем еще раз, — пробормотал он. — Затемним светлое пятно.
Он бросился на пол, схватил рисовальное перо, которым нельзя было заколоться, окунул его в чернила, которыми нельзя было отравиться, и повернулся к отвратительному лику Далекого Злого Духа, занявшему на долларе место первого президента США.
— Я родился, — диктовал он в пространство, в то время как его руки творили дьявольскую красоту. — Я жил в мире. У меня была надежда. Искусство. Был мир. Мама. Папа. Можно водички? О-о-о! Потом большой страшный человек посмотрел на меня, ужасный взгляд… Маленький боится. Мама! Маленький хочет рисовать картиночки на красивеньких листочках для мамочки и папочки. Смотри, мама. Маленький сделал портретик плохого человека, который напугал маленького черным взглядом черных глаз, как дыры ада, как холодное пламя ужаса, как злой дух из далеких страхов. Кто там?!
Отворачивались болты, на которые запиралась дверь. Пока она открывалась, Халсон забился в угол и съежился, голый и несчастный, ожидая Злого Духа. Но вошли только врач в белом халате и незнакомый мужчина в черном костюме, черной фетровой шляпе с черным портфелем, украшенным инициалами Д.Д. из массивных золотых готических букв.
— Ну, Джеффри? — мягко начал врач.
— Доллар? — жалобно скулил Халсон. — Можно маленькому доллар?
— Я привел твоего старого друга, Джеффри. Ты помнишь господина Дереликта?
— Доллар, — хныкал Халсон. — Маленький хочет доллар.
— А что со старым, Джеффри? Ты еще не закончил его, так?
Халсон хотел сесть на доллар, чтобы спрятать, но врач оказался проворнее. Он схватил банкноту и стал рассматривать вместе с незнакомцем.
— Замечательно, как и все остальные, — отметил Дереликт. — Даже еще лучше. Какой талант гибнет.
Халсон заплакал.
— Маленький хочет доллар, — жаловался он.
Незнакомец открыл бумажник, вытащил долларовую бумажку и передал Халсону. Как только тот коснулся банкноты, он услышал, что она поет, и хотел было тоже запеть, но песня была с секретом, и пришлось слушать.
Это был чудесный доллар: гладкий, но не слишком новый, со слабо стертой поверхностью, которая чудесно впитывала чернила. Джордж Вашингтон выглядел смиренным и немного укоризненным. Он был много старше своих лет на этом долларе под серийным номером 5 271 009.
Пока Халсон жался к полу и макал в чернила перо, как ему велел доллар, врач беседовал с Дереликтом,
— Вряд ли я имею право оставлять вас здесь одного, господин Дереликт.
— Это необходимо, доктор. Джеффри очень стеснителен. Он мог обсуждать свои произведения только наедине со мной.
— Сколько времени вам понадобится?
— Дайте мне час.
— Не знаю, правильно ли это.
— Но это же не причинит вреда.
— Надеюсь. Хорошо, господин Дереликт. Когда решите уходить, позовете санитара.
Дверь открылась и закрылась. Незнакомец по имени Дереликт по-дружески положил руку на плечо Халсона. Халсон посмотрел на него, хитро усмехаясь, и стал ждать, когда завернут дверные болты. Наконец он услышал этот звук — последний гвоздь, забивающий гроб.
— Джефф, я принес кое-что из твоих работ, — заговорил Дереликт, чей голос Халсон смутно помнил. — Я думал, тебе приятно будет посмотреть.
— У вас есть часы? — поинтересовался художник.
Сдерживая удивление, вызванное нормальным тоном Халсона, торговец вытащил нормальные часы и показал.
— Одолжите на минутку.
Дереликт отстегнул цепочку и отдал часы. Халсон осторожно взял их и произнес:
— Чудесно. Валяйте со своими картинками.
— Джефф! — воскликнул Дереликт. — Это опять ты, да? Ты всегда так…
— Тридцать, — перебил Халсон. — Тридцать пять, сорок, сорок пять, пятьдесят, пятьдесят пять, ОДИН.
— Нет, не то, — пробормотал делец. — Мне только показалось… А, ладно.
Он открыл портфель и вытащил рисунки.
— Сорок, сорок пять, пятьдесят, пятьдесят пять, ДВА.
— Это одна из твоих ранних работ, Джефф. Помнишь, когда ты впервые пришел, дурно одетый, мы решили, что ты нумеровщик из агентства? Потребовалось несколько месяцев, чтобы ты нас простил. Ты утверждал, что мы купили твое первое произведение, только чтобы извиниться. Ты и теперь так думаешь?
— Сорок, сорок пять, пятьдесят, пятьдесят пять, ТРИ.
— Эта темпера причинила тебе столько хлопот. Я удивлялся, почему бы тебе не попробовать чего-нибудь другого? Я и не догадывался, что это такая сложная техника. Я бы очень хотел, чтобы ты еще раз попытался, теперь, когда твоя техника гораздо совершеннее. Что ты говоришь?
— Сорок, сорок пять, пятьдесят, пятьдесят пять, ЧЕТЫРЕ.
— Джефф, положи часы!
— Десять, пятнадцать, двадцать, двадцать пять…
— Какого черта ты считаешь минуты?
— Ладно, — сказал Халсон. — Иногда они закрывают дверь и уходят. В другой раз они закрывают дверь, но остаются и шпионят за мной. Но они никогда не шпионят дольше трех минут. На всякий случай я даю им пять минут, для верности, ПЯТЬ.
Халсон зажал маленькие карманные часы в своем большом кулаке и заехал кулаком по челюсти Дереликта. Делец упал, не издав ни звука. Халсон прислонил его к стене, раздел, оделся в его одежду, сунул рисунки в портфель и закрыл его. Потом поднял долларовую бумажку и положил ее в карман. Наконец Халсон взял бутылочку совершенно безвредных чернил и выплеснул их себе на лицо.
Своими криками он заставил санитара подскочить к двери.
— Выпустите меня отсюда! — кричал Халсон, изменив голос. — Этот маньяк плеснул мне в лицо чернила. Выпустите меня!
Дверь открыли. Халсон отпихнул санитара, притворно вытирая лицо, а на самом деле размазывая чернила по всему лицу. Санитар хотел было войти внутрь, но Халсон остановил его:
— Не волнуйтесь о Халсоне. С ним все в порядке. Дайте мне полотенце или что-нибудь такое. Живо!
Санитар закрыл дверь, повернулся и побежал по коридору. Халсон подождал, пока он не скроется из виду, а потом побежал в противоположном направлении. Он шел по коридору, размазывая чернила по лицу и отплевываясь в притворном негодовании. Он прошел уже половину пути, а тревоги все еще не было. Художник прекрасно знал этот медный звон колоколов, звонивших каждую среду в полдень.
Это все игра, говорил он себе. Забавная игра. Ничего страшного. Я вновь ребенок. Сейчас я сбегаю домой к маме, а папочка прочитает мне сказку. Я опять маленький мальчик, навсегда.
Он дошел до ворот, а криков и погони все еще не было. Он пожаловался охране, подделывая подпись Джеймса Дереликта в книге посетителей. Его вымазанные чернилами пальцы так испачкали страницу, что подделка прошла незамеченной. Охранник нажал на кнопку, и ворота открылись. Халсон вышел на улицу. Он уже уходил, когда услышал звон.
Художник побежал. Остановился. Хотел идти спокойным шагом, но не мог. Шатаясь, он шел по улице, но тут раздались крики охраны. Он метнулся за угол, за другой, стараясь вырваться из бесконечного лабиринта улиц, слыша вокруг звуки машин, сирены, колоколов, крики, приказы. Он метнулся в отчаянной попытке найти убежище и кинулся в какой-то дом.
Халсон взбирался вверх по этажам. Сначала он перепрыгивал через три ступеньки, потом через две, наконец стал подниматься с трудом. Его дыхание останавливалось, он был парализован страхом. Халсон споткнулся на лестничной площадке и упал рядом с дверью. Дверь открылась. За ней стоял Злой Дух.
— Черт возьми, — воскликнул он. — Входите, старина. Я ждал вас. Не будьте столь робким.
Халсон пронзительно закричал.
— Нет, нет, нет! Не надо Strurm und Drang,[36] мой красавчик.
Господин Акила зажал Халсону рот и втащил внутрь.
— Возвращение Джеффри Халсона из круга смерти, — засмеялся он. — Dieu vous garde.[37]
Халсон вновь закричал, он пинался и кусался. Господин Акила с трудом залез в карман и вытащил зажигалку. Он сунул ее под нос Халсону, и художник сразу затих. Он даже позволил отвести себя на кушетку, где Акила вытер ему лицо и руки.
— Лучше, а? — ласково осведомился Акила. — Черт возьми. Стоит выпить.
Он наполнил из графина стакан, добавил кубик красного льда из дымящегося ведерка и сунул стакан в ладонь Халсона. Принужденный жестом Акилы, художник выпил. В голове зашумело. Он осмотрелся, тяжело дыша. Он был в роскошной приемной врача с Парк-авеню. Мебель времен королевы Анны.[38] На стенах в позолоченных рамах картины Морланды и Крома. «Они были гениями», — в изумлении понял Халсон. Потом с еще большим удивлением понял, что рассуждает нормально и связно. Его сознание прояснилось.
Он сбросил со лба тяжелую руку.
— Что случилось? — слабо спросил он. — Это что-то… Что-то вроде лихорадки. Ночной кошмар.
— Вы были больны, — ответил Акила. — Я ослабил болезнь, мой дорогой. Временно. Черт возьми! Это не подвиг. Это может любой врач. Никотиновая кислота плюс углекислота.
— Что это за место?
— Это? Мой кабинет. Прихожей нет, комната консультаций внизу, лаборатория — налево. В Бога мы веруем.[39]
— Я вас знаю, — пробормотал Халсон, — откуда-то я вас знаю. Я помню ваше лицо.
— Oui.[40] В вашей лихорадке вы только и делали, что рисовали мой портрет. Ессе homo.[41] Но у вас есть преимущество, Халсон. Где вы меня видели? Я задавал себе этот вопрос.
Акила надел сверкающий отражатель, спустил его на левый глаз и направил свет прямо в лицо Халсону.
— Теперь я спрашиваю вас. Где мы встречались?
Жмурясь от света, Халсон ответил:
— На Балу поклонников искусства… давно… до лихорадки…
— A? Si.[42] Это было полгода назад. Неудачная ночь.
— Нет. Чудесная ночь… Радость, счастье, забава… Как на школьном балу…
— Все время тянет в детство, да? — прошептал господин Акила. — Надо это отменить. Cetera desunt,[43] молодой Лохинвар. Продолжайте.
— Я был с Джуди… В эту ночь мы поняли, что любим друг друга. Мы поняли, что жизнь прекрасна. А потом мимо прошли вы и посмотрели на меня. Лишь один раз. Но это было ужасно.
Господин Акила с досадой щелкнул языком.
— Теперь я припоминаю этот случай. Я был неосторожен. Плохие новости из дома.
— Вы прошли в красном и черном… Сатана. Без маски, вы посмотрели на меня… Никогда не забуду этот взгляд… Взгляд черных глаз, напоминающих врата ада, холодное пламя ужаса… Своим взглядом вы отняли у меня все… радость, надежду, любовь, жизнь…
— Нет, нет, нет! — живо сказал господин Акила. — Давайте разберемся. Моя неосторожность была лишь толчком. Но в бездну вы упали сами. Как бы то ни было, старое пиво, это надо изменить. Мы должны вернуть вас на грешную землю. Бог мой! Ради этого я и организовал нашу встречу. Так что теперь мне надо все изменить, так? Но из ямы вы должны вылезти самостоятельно. Распутать запутанный клубок. Идемте.
Он взял Халсона за руку и повел по коридору в сверкающую белую лабораторию. Она была вся из стекла и кафеля. Множество полок с пузырьками химических реактивов, фильтры, электрические печи, банки с кислотой. В центре лаборатории находился маленький круглый подъемник, что-то вроде платформы. Господин Акила поставил на платформу стул, усадил на него Халсона, облачился в белый лабораторный халат и стал собирать аппаратуру.
— Вы, — говорил он, — один из величайших художников. И вдруг Джимми Дереликт сообщил, что вы не работаете. Черт возьми! «Мы должны вернуть его искусству», — сказал я. Солон Акила должен иметь много холстов Джеффри Халсона. Мы его вылечим. На том стоим.
— Вы врач? — спросил Халсон.
— Нет. Если позволите — волшебник. Строго говоря — колдун. Очень высокого класса. Я не занимаюсь такой чепухой, как универсальные лекарства. Только современная магия. Черная и белая магия устарели. Я убираю общий спектр и специализируюсь в основном на 15000 ангстрем.
— Вы колдун?! Нет!
— Да, да, да.
— В таком месте?
— Ага! Вы тоже угодили в эту ловушку? Это маскировка. Многие современные лаборатории, о которых думают, что они занимаются наукой, работают с магией. Parbleu![44] Мы идем в ногу со временем, мы — маги. Наше колдовское варево не нарушает Акта о лекарственных препаратах. Знакомая стопроцентная стерильность. Завернутые в целлофан проклятия. Отец Сатана в резиновых перчатках. Спасибо лорду Лестеру, или это был Пастер?[45] Мой идол.
Колдун сделал какие-то вычисления на компьютере и продолжал болтовню.
— Figit Hora,[46] — молвил Акила — Ваша проблема, мой друг, в потере рассудка. Oui? Потеря чувства реальности из-за одного моего неосторожного взгляда. Helas![47] Я прошу у вас прощения.
Предметом, напоминающим разметчик линий в теннисе, Акила нарисовал вокруг платформы Халсона окружность.

— Но вот в чем беда: безопасности вы ищете в детстве. Вам же надо искать ее в зрелости. Черт возьми.
С помощью сверкающих циркулей и линеек Акила рисовал окружности и пятигранники. Потом принялся взвешивать на микровесах какие-то порошки, капал в плавильный тигель различные жидкости из градуированных склянок и рассказывал:
— Множество колдунов ведут оживленную торговлю настойкой из Фонтана Молодости. Да. Молодости вообще много, и фонтанов тоже. Но это не для вас. Молодость не для художников. Для вас лекарство — возраст. Мы должны сделать вас старше.
— Нет, — запротестовал Халсон. — Нет. Молодость — это искусство. Молодость — это мечта. Молодость — это блаженство.
— Для некоторых, да, для всех — нет. И не для вас. Вы прокляты, мой мальчик. Жажда власти. Тяга к сексу. Бегство от реальности. Страсть к мщению. О да, отец Фрейд[48] тоже мой идол. Мы покончим с прошлым за ничтожную цену.
— И какова цена?
— Увидите, когда мы закончим.
Господин Акила разместил жидкости и порошки вокруг беспомощного художника в плавильных тиглях и чашках Петри. Он подготовил запал и собрал цепь от окружности до электротаймера, который тщательно отрегулировал. Он подошел к полке, где стояли бутылочки с серой, взял маленькую склянку под номером 5 271 009, наполнил шприц и сделал Халсону инъекцию.
— Мы начинаем, — произнес Акила, — очищение ваших снов. Voila![49]
Он пустил таймер и стал расхаживать перед полками. Наступило молчание. Неожиданно заиграла музыка, и записанный на пленку голос начал непереносимое песнопение. И сразу же окружающие Халсона порошки и жидкости вспыхнули ярким пламенем. Он засыпал от музыки и дыма. Мир беспорядочно вращался вокруг него.
К Халсону прибежал председатель Объединенных наций. Это был высокий, худощавый человек, веселый, но грубоватый. Он размахивал руками.
— Господин Халсон! Господин Халсон! — кричал он. — Где вы были, мой сладкий? Черт возьми! Hoc tempore.[50] Вы знаете, что случилось?
— Нет, — ответил Халсон. — А что случилось?
— После вашего спасения из сумасшедшего дома… водородные бомбы. Двухчасовая война. Все кончено. Hora fugit. Утеряна способность к деторождению.
— Что?!
— Жесткая радиация, господин Халсон, уничтожила способность к деторождению. Черт возьми. Вы единственный мужчина, сохранивший свою потенцию. Нет сомнений в загадочной мутации в вашем роду, благодаря чему вы отличаетесь от других. Черт возьми!
— Нет.
— Oui. Вы ответственны за население мира. Мы сняли вам апартаменты в Одене. Там три спальни, мой родной. Три. Первого класса.
— Да это моя мечта!
Его поездка в Оден была триумфальной. Он был увешан гирляндами цветов, ему пели серенады, ему аплодировали. Восторженные женщины выпрашивали его внимание. В своих апартаментах Халсон вдоволь ел и пил. Раболепно вышел высокий и худощавый мужчина. Он был весел, но резок. С собой он принес список.
— Я Мировой Сводник, господин Халсон, — сообщил он. Черт возьми. 5 271 009 женщин требуют вашего внимания. Красота каждой гарантирована. Начинайте с номера один и дальше.
— Значит, начинаем с рыжей, — заявил Халсон.
Привели рыжеволосую девушку. Она была по-мальчишески стройной, с маленькой твердой грудью. Следующая была широка в кости. Пятая напоминала Юнону,[51] а ее груди были похожи на африканские груши. Десятая воскрешала в памяти женщин Рембрандта.[52] Двадцатая была очень гибкой. Тридцатая — юношески стройной, с небольшими твердыми грудями.
— Кажется, мы уже встречались? — спросил Халсон.
— Нет, — ответила она.
Следующая была широка в кости.
— Знакомое тело, — произнес Халсон.
— Да нет же, — было ответом.
Пятидесятая напоминала Юнону с грудями, как африканские груши.
— Мы знакомы? — спросил Халсон.
— Нет.
Вошел Мировой Сводник с настойкой для поддержания сил.
— Никогда не пользовался этим, — заявил Халсон.
— Черт возьми! — воскликнул Сводник. — Да вы исполин. Слон. Неудивительно, что вы возлюбленный Адам. Теперь понятно, почему они рыдают от любви к вам.
И он сам выпил настойку.
— Вы заметили, что все они одинаковы? — пожаловался Халсон.
— Нет! Они совсем не похожи. Parbleu! Это оскорбление моей службы.
— О, они, конечно, отличаются одна от другой, но типы повторяются.
— Да! Такова жизнь, мой друг. Как известно, жизнь циклична. Разве вы, художник, этого не замечали?
— Я не предполагал, что это относится и к любви.
— Ко всему. Wahrheit und Dichtung.[53]
— Это вы там говорили, будто они рыдают?
— Oui. Они рыдают.
— Почему?
— Страсть к вам. Черт возьми.
Халсон задумался о по-мальчишечьи стройных, ширококостных, похожих на Юнон, на женщин Рембрандта, гибких, рыжеволосых, блондинках, брюнетках, белых, черных и коричневых женщинах.
— Я не заметил ничего подобного, — произнес он.
— Так посмотрите сегодня, отец мира. Начнем?
И правда, раньше Халсон не замечал, что все эти женщины льют по нему слезы. Он был польщен, но слегка расстроен.
— Почему бы вам не улыбнуться? — произнес он.
Но они не улыбались или не могли улыбаться.
На крыше, где Халсон обычно делал зарядку, он решил проконсультироваться с тренером, высоким, худощавым человеком с веселыми, но резкими манерами.
— А? — протянул тренер. — Черт возьми. Не знаю, виски с содовой. Должно быть, для них это тяжелый опыт.
— Тяжелый? — обиделся Халсон. — Почему? Что я такого им сделал?
— Шутите, да? Весь мир знает, что вы делаете.
— Нет, я хотел сказать… Что в этом тяжелого? Они же только и ждут меня, разве нет? Разве меня не ждали?
— Загадка. А теперь, возлюбленный отец мира, займемся упражнениями. Готовы? Начали.
Внизу, в ресторане, Халсон расспросил старшего официанта, высокого, худощавого человека с веселыми, но резкими манерами.
— Конечно, вы понимаете, господин Халсон. Эти женщины обожают вас и могут надеяться на нечто большее, чем одна ночь любви. Черт возьми. Конечно, они разочарованы.
— Чего они хотят?
— Того, чего хотят все женщины, мой дорогой. Постоянных отношений. Брака.
— Брака?
— Oui.
— Со всеми?
— Oui.
— Ладно. Я женюсь на всех 5 271 009.
Но тут запротестовал Мировой Сводник.
— Нет, нет, нет, молодой Лохинвар. Черт возьми. Невозможно. Даже оставив в стороне религиозные различия… они ведь тоже люди. Черт возьми. Кто сможет управиться с таким гаремом?
— Тогда я женюсь на одной.
— Нет, нет, нет. Подумайте. Как вы сделаете выбор? Как выберете одну? С помощью лотереи? Бросая монету?
— Я уже выбрал.
— Да? И кого?
— Мою девушку, — тихо сказал Халсон. — Джудит Филд.
— Вот как? Ваша возлюбленная?
— Да.
— В списке она далеко за номером 5 000 000.
— В моем списке она всегда под номером первым. Я люблю Джудит, — вздохнул Халсон. — Я помню ее глаза на балу… Была полная луна…
— Но, дорогой мой, полной луны не будет до двадцать шестого.
— Я люблю Джудит.
— Да ее разорвут от ревности. Нет, нет, нет, господин Халсон, будем следовать распорядку. Одну ночь на каждую, не больше.
— Я хочу Джудит…
— Мы обсудим это, черт возьми.
Объединенные Нации собрались на совет, состоящий из дюжины делегатов, высоких и худощавых мужчин с оживленными и резкими манерами. Они решили разрешить Джеффри Халсону один тайный брак.
— Но никаких семейных обязательств, — настаивал Мировой Сводник. — Никакой верности жене. Это следует запомнить. Мы не можем обойтись без вас. Вы незаменимы.
Привезли Джудит Филд. Это была высокая девушка с темными вьющимися волосами и чудесными ногами теннисистки. Халсон взял ее за руку. Сводник на цыпочках удалился.
— Здравствуй, дорогая, — пробормотал Халсон.
— Если ты дотронешься до меня, Джефф, — заговорила Джудит сдавленным голосом, — я убью тебя.
— Джуди!
— Этот мерзкий человек все мне объяснил. И вряд ли он понял то, что пыталась ему объяснить я… Джефф, я молилась, чтобы ты умер раньше, чем очередь дойдет до меня.
— Но ведь я женюсь, Джуди.
— Скорее я умру.
— Я тебе не верю. Ведь мы любим друг друга.
— Ради Бога, Джефф, для тебя не существует любви. Неужели ты не понимаешь? Эти женщины плачут, потому что ненавидят тебя. Я ненавижу тебя. Мир ненавидит тебя. Ты омерзителен!
Халсон уставился на девушку и по ее лицу понял, что она говорит правду. В приступе ярости он попытался схватить ее. Девушка отчаянно отбивалась. Опрокидывая мебель, они метались по огромной гостиной; их дыхание прерывалось, ненависть достигла предела. В конце концов Халсон кулаком ударил Джудит Филд. Она пошатнулась, ухватилась за портьеру и, разбив окно, упала вниз, пролетев четырнадцать этажей, как большая кукла.
Халсон в ужасе выглянул из окна. Вокруг тела собиралась толпа. Поднятые вверх лица. Трясущиеся кулаки. Дикий шум.
В комнату вбежал Мировой Сводник.
— Мой дорогой! — кричал он. — Что вы натворили? Эта искра разбудит зверя. Вы в опасности. Черт возьми.
— Они и правда ненавидят меня?
— Helas! Как вы узнали? Эта несдержанная девушка? Я предупредил ее. Oui. Вас ненавидят.
— Но вы уверяли, что меня любят. Новый Адам. Отец мира.
— Oui. Вы отец, но какой ребенок не ненавидит своего отца? По закону вы также насильник. А какой женщине понравится заключать мужчину в объятия по принуждению… даже если это необходимо для выживания? Поспешите, мой хлебный. Вы в большой опасности.
Он втащил Халсона в лифт, который доставил их в подвал.
— Армия увезет вас отсюда. Мы отправим вас в Турцию и добьемся компромисса.
Халсона передали на попечение высокого, худощавого и резкого полковника. По подземным переходам они вышли на улицу, где их ждала машина. Полковник впихнул Халсона внутрь.
— Поторопись, капрал. Защити несчастного. В аэропорт.
— Черт возьми, сэр, — ответил капрал. Он отсалютовал полковнику и рванул машину с места. Пока они на огромной скорости неслись по улице, Халсон рассматривал водителя. Тот был высок и худощав, с веселыми, но резкими манерами.
— Черт, черт, — бормотал капрал, — Иисус!
Поперек улицы была наскоро выстроена огромная баррикада из бочек, мебели и перевернутых машин. Капралу пришлось затормозить. Пока он разворачивался, из дверей домов и магазинов появилась толпа женщин. Они пронзительно кричали и размахивали дубинками.
— Excelsior![54] — завопил капрал. — Черт возьми.
Он пытался выхватить из кобуры пистолет. Женщины распахнули дверцы машины и выволокли Халсона и капрала. Халсон вырвался, метнулся в боковой проход, споткнулся и упал в открытый угольный желоб. Он оказался в безбрежном черном пространстве. У него закружилась голова. Перед глазами пронеслись звезды.
Он дрейфовал в космосе, мученик, жертва страшной несправедливости.
Он был прикован к тому, что когда-то было стеной 5 камеры, 27 блока, 100 яруса, 9 крыла тюрьма на Каллисто, пока внезапный взрыв не разнес по кусочкам огромную подземную тюрьму, которая была больше замка Иф. Халсон знал, что взрыв устроили Грсш.
Его имущество состояло из одежды заключенного, шлема, одного баллона кислорода и секретного знания, как уничтожить Грсш.
Грсш были мародерами с Омикрон Цети, космическими выродками, космическими империалистами, зависящими от ужаса, порождаемого в человеке с помощью мыслительного контроля, захватывали Галактику. Они были очень сильны, эти Грсш, потому что обладали способностью находиться в двух местах одновременно.
В космосе медленно двигалась световая точка. Халсон понял, что это спасательный корабль прочесывает космос в поисках выживших после взрыва. Он размышлял, позволит ли счет Юпитера, заливающий его своими лучами, разглядеть его. Он размышлял, хочет ли он быть спасенным.
— Все начнется сначала, — с раздражением думал Халсон. Ложное обвинение робота Балорсена… Несправедливый приговор отца Джудит… И отречение самой Джудит… Опять тюрьма… И в конце концов Грсш уничтожат последнюю твердыню Земли… Так почему же не умереть сейчас?
Но даже говоря так, он понимал, что лжет. Он был единственным человеком, способным спасти Землю и Галактику. Он должен выжить. Он должен бороться.
С силой, приобретенной в копях Грсш, где он работал как заключенный, Халсон стал размахивать руками. Но корабль не изменил курса. И тут Халсон заметил, что металлическое кольцо одной из цепей бьется о кремневый камень обломка стены. Он решился на отчаянную попытку привлечь внимание спасательного корабля.
Он отсоединил пластиковый шланг кислородного баллона от пластикового шлема, позволив живительному кислороду уноситься в космос. Дрожащими руками он взял звенья цепи и резко ударил ими по камню под струей кислорода. Вспыхнула искра. Кислород загорелся. Яркий гейзер белого пламени вырвался в космос.
В отчаянной попытке спастись Халсон экономил остатки кислорода. Давление в шлеме падало. В ушах шумело. Зрение померкло. Он потерял сознание.
Когда Халсон пришел в себя, он обнаружил, что лежит в пластиковой постели, в каюте звездного корабля. Неприятный ноющий звук подсказал, что корабль пошел на ускорение. Халсон посмотрел вокруг. Перед его койкой стояли Балорсен, робот Балорсена, Верховный Судья Филд и его дочь Джудит. Джудит плакала. Робот вздрагивал, когда генерал Балорсен ударял его своим оружием.
— Parbleu! Черт возьми! — проскрежетал робот. — Это правда, я сфабриковал дело против Джеффри Халсона. Ох! Я был космическим пиратом и грабил космических перевозчиков грузов. Черт возьми. Ох! Моим сообщником был бармен из космического бара. Потом Джексон устроил катастрофу летающего такси, которое я пригнал в космический гараж до убийства О’Лири. Вот.
— Теперь у вас есть признание, Халсон, — проскрипел генерал Балорсен. Он был высок, худощав и резок. — Вы невиновны.
— Я несправедливо осудил вас, — проскрипел судья Филд. Он был высок, худощав и резок. — Мы просим у вас прощения.
— Мы были неправы, Джефф, — прошептала Джудит. — Сможешь ли ты простить нас? Скажи, что прощаешь!
— Вы сожалеете, что так обращались со мной, — говорил Халсон. — И вот из-за того, что благодаря загадочной мутации в моем роду я стал не таким, как вы, и я единственный человек, знающий, как спасти Галактику от Грсш.
— Нет, нет, нет, мой джин и тоник, — просил генерал Балорсен. — Черт возьми. Не держи зла. Спаси нас от Грсш.
— Parbleu! Спаси нас, Джефф, — проронил судья Филд.
— О, пожалуйста, Джефф, пожалуйста, — умоляла Джудит. Грсш везде. Мы отвезем тебя в Объединенные Нации. Ты должен сказать, как остановить этих Грсш.
Звездный корабль приземлился на Губернаторском острове, где сановные делегаты со всего мира встретили Халсона и спешно повезли на Генеральную Ассамблею ООН.
Зал заседания Генеральной Ассамблеи был полон, когда появился Халсон. Сотни высоких, худощавых и резких дипломатов стоя аплодировали ему, пока он шел к трибуне, все еще одетый в арестантскую одежду. Халсон обиженно глядел на них.
— Да, — раздраженно сказал он. — Вы все аплодируете. Теперь вы меня уважаете. Но где вы были раньше, когда меня ложно обвинили, осудили и заточили в тюрьму… невиновного человека? Где вы были тогда?
— Халсон, прости нас. Черт возьми! — кричали они.
— Никогда! Я семнадцать лет страдал на рудниках Грсш. Теперь ваша очередь…
— Пожалуйста, Халсон!
— Где ваши эксперты? Профессора? Специалисты? Где ваши компьютеры? Суперкомпьютеры? Пусть они решают.
— Они не могут. Entre nous.[55] Спаси нас, Халсон. Auf wiedersehen.[56]
Джудит коснулась его руки.
— Не ради меня, Джефф, — шептала она. — Я понимаю, ты никогда не простишь меня за причиненные тебе страдания. Но ради других девушек Галактики, тех, кто любит и кого любят.
— Я все еще люблю тебя, Джудит.
— Я всегда любила тебя, Джефф.
— Ладно. Я не хотел им говорить, но ради тебя…
Халсон поднял руку, призывая к тишине. Когда она наступила, зазвучал его мягкий голос.
— Секрет прост, джентльмены. Ваши компьютеры собирают данные с целью выявить слабые стороны Грсш. И вы не нашли ничего. В результате вы решили, что Грсш не имеет уязвимых сторон. Это было неверное предположение.
Генеральная Ассамблея затаила дыхание.
— Вот в чем секрет. Вам давно надо было понять, что с компьютерами неладно.
— Черт возьми! — кричали делегаты. — Почему мы не подумали об этом?!
— И я знаю, что неладно!
Тишина была оглушающей.
Вдруг двери резко распахнулись, и в зал шатаясь вошел высокий, худощавый и резкий профессор Дисхаш.
— Эврика! — закричал он. — Я нашел! Черт возьми. Погрешности в компьютере. Три идет после двух, а не до.
Генеральная Ассамблея взорвалась аплодисментами. В порыве счастья все бросились обнимать профессора. Открыли бутылки. Пили за его здоровье. Наградили его несколькими медалями. Профессор сел.
— Эй-эй! — закричал Халсон. — Это мой секрет. Я единственный человек…
Застучал телеграфный аппарат:
ВНИМАНИЕ. ВНИМАНИЕ. Хашенков из Москвы сообщает о дефекте компьютеров. 3 идет после 2, а не перед. Повторяю: после, а не перед.
Прибежал почтальон.
— Специальное сообщение от доктора Лайфхаша. Говорит, что-то неладное с компьютерами. Три идет после двух, а не до. Мальчик принес телеграмму:
Погрешность компьютеров тчк три идет после двух тчк не впереди тчк
Фон Дримхаш, Гейдельберг
В окно влетела бутылка. Она разбилась об пол, и все увидели клочок бумаги, на котором было нацарапано: «Как можно думать, что цифра 3 идет перед цифрой 2? Господин Хаш-Хаш».
Халсон бросился к судье Филду.
— Какого черта? — спросил он. — Я думал, я единственный человек в мире…
— Himmel Herr Gott! — нетерпеливо крикнул судья. — Все одинаковы. Мечтаете, будто вы единственный знаете секрет, будто только с вами поступили несправедливо, с девушкой, без девушки или что там еще! Черт возьми. Вы мне надоели, мечтатели. Убирайтесь.
Судья Филд ушел. Генерал Балорсен повернулся к нему спиной. Джудит Филд игнорировала его. Коварный робот Балорсен отправил его на Нептун, где находились Грсш, и исчез, а Халсон оставался, пронзительно крича и рыдая от ужаса, что было чудесным ужином для Грсш, но страшным кошмаром для Халсона… Его разбудила мама и сказала:
— Это научит тебя, Джефф, не есть сэндвичи посреди ночи.
— Мама?
— Да, пора вставать, родной. Ты опоздаешь в школу.
Мать вышла из комнаты. Халсон посмотрел вокруг. Посмотрел на себя. Да, это была правда. К нему пришла удача. Его мечта осуществилась. Ему снова было десять лет, у него снова было тело десятилетнего ребенка, он снова жил в доме своего детства, в тридцатых годах. Но в его голове сохранились знания и опыт тридцатитрехлетнего мужчины.
— Здорово! — воскликнул он. — Это будет мой триумф! Триумф!
В школе он будет гением. Он удивит родителей, потрясет учителей, смутит экспертов. Выиграет стипендию. Усмирит того мальчишку Реннахана, который вечно его задирал. Возьмет напрокат печатную машинку и напишет все популярные пьесы, рассказы и романы, которые помнит. Он украдет открытия и изобретения, будет выигрывать пари, играть на бирже. И в конце концов он станет властелином мира.
Джефф с трудом оделся. Он забыл, где его одежда. Он с трудом позавтракал. Было не время объяснять маме, что по утрам он любит кофе с коньяком. Он ужасно скучал по сигарете. Он понятия не имел, где его учебники. Мать бесцеремонно выставила его.
— Джефф опять не в духе, — услышал он ее слова. — Будем надеяться, что день лройдет нормально.
День начался с Реннахана, подстерегавшего его за углом. Халсон помнил его, как большого злобного мальчишку. Поэтому он очень удивился, обнаружив Реннахана тощим, изможденным заморышем, доведенным издевательствами до исступления.
— Слушай, я же тебе не враг, — начал Халсон. — Ты просто запутавшийся мальчик, старающийся что-то доказать.
Реннахан ударил его.
— Приятель, — продолжал Халсон. — Ты же хочешь быть моим другом. Просто ты не уверен в себе, вот и вынужден драться.

Реннахан ударил сильнее.
— Лучше оставь меня в покое, — посоветовал Халсон — Самоутверждайся на ком-нибудь другом.
Двумя быстрыми движениями Реннахан выбил книгу из рук Халсона и порвал ему воротник. Пришлось драться. Двадцать лет просмотров фильмов с Джо Луисом не помогли Халсону. Его поколотили. К тому же он опоздал в школу. И вот тут у него появилась возможность удивить учителей.
— Вообще-то, — объяснял он мисс Ральф в пятом классе, — у меня есть некоторые соображения насчет неврастении. Я могу вам рассказать…
Мисс Ральф шлепнула его и отправила к директору школы с запиской о его неслыханной дерзости.
— Похоже, в этой школе и не слышали о психоанализе. Как вы можете считаться компетентным учителем, если вы не…
— Грязный мальчишка! — перебил господин Снайдер. Директор был высоким, худощавым и резким мужчиной.
— Читаешь грязные книжонки, да?
— Что, черт возьми, грязного во Фрейде?
— И ругаешься, да? Надо задать тебе урок, грязное маленькое животное!
Халсона отправили домой с запиской к родителям о его плохом поведении, о необходимости их визита в школу и срочной консультации по выбору профессии.
Вместо того чтобы идти домой, он пошел к киоску, чтобы, изучив газеты, решить, на какое событие поставить. Заголовки газет сообщали о парусных состязаниях. Но кто, черт возьми, победил, в 1931 году? Он не вспомнил бы об этом даже под страхом смерти. А как дела на бирже? На этот счет он вообще ничего не помнил. В его памяти было пусто.
Он решил сходить в библиотеку. Высокий, худощавый и резкий библиотекарь не пустил его, потому что до детского часа было далеко. Халсон пошел побродить по улицам. Но где бы он ни был, его гнали худощавые и резкие взрослые. Он стал понимать, что для десятилетних мальчиков ограничены возможности удивить мир.
Во время ленча Халсон встретил Джуди Филд и проводил ее домой. Его ужаснули ее худые колени и короткие вьющиеся волосы. Ему не понравился ее запах. Но он был очарован ее матерью, которая была точным образом будущей взрослой Джудит. Он забылся и позволил себе одну или две вещи, очень смутившие госпожу Филд. Она выпроводила его и позвонила его матери, причем ее голос дрожал от гнева.
Халсон пошел к Гудзону и бродил у парома, пока его не прогнали. Он пошел узнать, нельзя ли взять напрокат печатную машинку, но его прогнали. Он искал тихое местечко, где можно было бы посидеть, подумать, может, вспомнить популярный рассказ. Но таких мест, куда бы пускали десятилетних мальчиков, не было.
Он пришел домой в 4.30, кинул книги, прошел в гостиную, стащил сигаретку и собирался уходить, но тут обнаружил, что за ним наблюдают мать и отец. Мать казалась шокированной. Отец был высок, худощав и резок.
— Так, — произнес Халсон. — Должно быть, звонил Снайдер. Я и забыл.
— Господин Снайдер, — поправила мать.
— И госпожа Филд, — добавил отец.
— Послушайте, — начал Халсон. — Нам надо разобраться. Можете вы выслушать меня? Всего несколько минут. Я должен вам кое-что сказать, и мы решим, как быть…
Он охнул. Отец взял его за ухо и вывел в прихожую. Родители не могут слушать своих детей даже в течение минуты. Они вообще не слушают.
— Пап… подожди минутку… пожалуйста! Я объясню… На самом деле мне не десять лет, мне тридцать три. Это петля времени, понимаешь? Благодаря загадочной му…
— Черт возьми! Тихо! — рявкнул отец. Гнев в голосе отца заставил Халсона замолчать. Он страдал, пока его вели четыре квартала до школы, до кабинета господина Снайдера, где вместе с директором школы его ждал психолог. Это был высокий, худощавый человек, резкий, но веселый.
— Так-так, — сказал он. — Наш маленький нарушитель. Наш Аль Капоне. Ну что ж, мы возьмем его в клинику и посмотрим. Будем надеяться на лучшее. Не может же он быть полностью испорченным. Психолог взял Халсона за руку, тот вырвался.
— Послушайте, вы же взрослый, умный человек. Выслушайте меня. У моего отца проблема и…
Отец дал ему оплеуху, схватил за руку и толкнул в руки врача. Халсон разразился слезами. Психолог вывел его из кабинета и привел в маленькую школьную клинику. У Халсона началась истерика.
— Неужели никто не выслушает меня? — рыдал он. — Неужели никто не попытается понять? И так любят детей? И все дети проходят через это?!
— Тихо, мой сладкий, — пробормотал психолог. Он сунул в рот Халсона таблетку и заставил его выпить воды.
— Какие вы злые, — плакал Халсон. — Вы держите нас вдали от своего мира. Но если вы не уважаете нас, почему вы не оставите нас в покое?
— Начинаешь понимать? — проговорил психолог. — Мы — две разные породы животных — дети и взрослые. Черт возьми. Я говорю с тобой откровенно. Никакого взаимопонимания. Les absents ont tou jours tort.[57] Ничего другого быть не может только война. Поэтому, когда дети вырастают, они ненавидят свое детство и жаждут реванша. Но эта мечта неосуществима. Разве может кошка оскорбить короля?
— Это от… вратительно, — бормотал Халсон. Таблетка быстро начала действовать. — Весь мир… уж…жасен… Сплошь кон…конфликты… и… оскорб…ления… их не разре…шить… не…отплатить… Это как шу… шу…тка… кто-то с… сы… сыграл… Глуп… пая шут…тка… да?
Он летел в темноту и слышал смешок психолога, но не мог понять, над чем тот смеется.
Халсон поднял лопату и последовал за первым могильщиком на кладбище.[58] Первый могильщик был высок, худощав, резок, но весел.
— Разве такую можно погребать христианским погребением, которая самочинно ищет своего же спасения? — спросил первый могильщик.
— Я тебе говорю, что можно, — ответил Халсон, — и потому копай ей могилу живее; следователь рассмотрел и признал христианское погребение.
— Как же это может быть, если она утопилась не в самозащите?
— Да так уж признали.
Они начали копать могилу. Первый могильщик вновь заговорил:
— Требуется необходимое нападение; иначе нельзя. Ибо в этом вся суть: ежели я топлюсь умышленно, то это доказывает действие, а всякое действие имеет три статьи: действие, поступок и совершение; следовательно, она утопилась умышленно.
— Нет, ты послушай, господин копатель… — начал Халсон.
— Погоди, — перебил первый могильщик и углубился в скучную речь о законах. Потом он весело отпустил несколько профессиональных шуток. Халсон пошел к Йогену[59] промочить горло. Когда он вернулся, первый могильщик болтал с двумя джентльменами, которые случайно забрели на кладбище. Один из них был сильно взволнован видом черепа.
Появилась похоронная процессия: гроб, брат умершей девушки, король и королева, священники и лорды. Девушку похоронили, потом брат и один из джентльменов стали ссориться над могилой. Халсон не обращал на это внимания. В процессии участвовала хорошенькая девушка, с темными волосами, короткими, вьющимися волосами и чудесными длинными ногами. Он подмигнул ей. Она тоже подмигнула ему. Он стал медленно приближаться к ней, переговариваясь с ней взглядами.
Потом он поднял лопату и пошел за первым могильщиком на кладбище. Тот был высок, худощав и резок, но не весел.
— Разве такую можно погребать христианским погребением, которая самочинно ищет своего же спасения? — спросил первый могильщик.
— Я тебе говорю, что можно, — ответил Халсон, — и потому копай ей могилу живее; следователь рассматривал и признал христианское погребение.
— Как же это может быть, если она утопилась не в самозащите?
— Разве ты не говорил этого раньше? — поинтересовался Халсон.
— Заткнись, глупец. Отвечай на вопрос.
— Могу поклясться, что все это уже было.
— Черт возьми! Будешь ты отвечать?
— Да так уж признали.
Они начали копать могилу. Первый могильщик углубился в нудную речь о законах. Потом стал отпускать остроты. Наконец Халсон пошел к Йогену выпить. Вернувшись, он обнаружил над могилой двух незнакомцев, а потом появилась похоронная процессия.
В процессии участвовала хорошенькая девушка с короткими, темными вьющимися волосами и красивыми длинными ногами. Халсон подмигнул ей. Она ответила. Он стал медленно к ней пробираться, беседуя с ней взглядами.
— Как вас зовут? — прошептал он.
— Джудит, — ответила она.
— Ваше имя для меня как набат.
— Вы лжете, сэр.
— Я могу это доказать, госпожа. Увидимся ли мы сегодня?
Прежде чем она успела ответить, он взял лопату и поплелся за первым могильщиком на кладбище. Первый могильщик был высоким, худощавым человеком, с резкими, но веселыми манерами.
— Ради Бога! — взмолился Халсон. — Могу поклясться, все это уже было!
— Разве такую можно погребать христианским погребением, которая самочинно ищет своего спасения? — говорил первый могильщик.
— Я же знаю, мы уже прошли через это.
— Отвечай на вопрос!
— Послушай, — упрямо заявил Халсон. — Может, я сумасшедший, может — нет. Но мне кажется, что все это уже было. Это кажется нереальным. Жизнь нереальна!
Первый могильщик покачал головой.
— Himmel Hell Gott! — выругался он. — Этого я и боялся. Lux et veritas.[60] По какой-то загадочной мутации в твоем роду ты стал не похож на других, а теперь вступаешь на опасную дорогу. Ewigkeit![61] Отвечай на вопрос.
— Если я ответил раз, то я уже ответил сотни раз.
— Ветчина с яичницей! — взорвался первый могильщик. — Ты ответил 5 271 009 раз. Черт возьми. Отвечай снова.
— Зачем?
— Ты должен. Все так живут.
— И это называется жизнью? Делать одно и то же? Подмигнуть девушке и не продвинуться вперед ни на один шаг?
— Нет, нет, нет. Donner und Blitren.[62] Никаких вопросов. Это договор, который нельзя нарушать. Так живут все. Каждый человек делает одно и то же вновь и вновь. От этого не избавиться.
— Почему?
— Не могу сказать. Vox poputi.[63] Другие задавали вопросы и исчезли. Я боюсь.
— Чего?
— Наших хозяев.
— Что? У нас есть хозяева?
— Si. Ja. У всех нас. Реальности не существует. Нет жизни, нет свободы, нет воли. Черт возьми. Разве ты не знаешь? Мы… Все мы герои книги. Когда книгу читают, мы пляшем. Читают вновь — опять пляшем. Одно и то же сотни раз. Разве такую можно погребать христианским погребением, которая самолично ищет своего же спасения?
— Что ты несешь? — в ужасе крикнул Халсон. — Мы марионетки?
— Отвечай на вопрос!
— Если нет свободы, нет воли, как можем мы говорить об этом?
— Кто-то читает книгу в полусне. Idem est.[64] Отвечай на вопрос.
— Не буду. Я взбунтуюсь. Я не стану плясать под чужую дудку. Я найду лучшую жизнь. Я найду реальность…
— Нет, нет! Это сумасшествие, Джеффри!
— Нам нужен лидер. Остальное придет само собой. Мы уничтожим договор.
— Это невозможно. Отвечай на вопрос.
Халсон ответил тем, что схватил лопату и ударил первого могильщика по голове. Могильщик даже не заметил этого.
— Разве такую девушку можно погребать христианским погребением, которая самолично ищет своего спасения? — спросил он.
— Бунт! — закричал Халсон и снова ударил его.
Могильщик начал петь. Появились два господина. Один произнес:
— Или этот молодец не чувствует, чем он занят, что он поет, роя могилу?
— Бунт! За мной! — продолжал кричать Халсон и ударил лопатой по металлической голове этого господина. Тот не обратил внимания. Он болтал с другом и первым могильщиком. Халсон кружился вокруг, жак дервиш, нанося удары один за другим. Господин поднял череп и стал философствовать о каком-то типе по имени Йорик.
Появилась похоронная процессия. Халсон атаковал ее с безумием человека, находящегося во сне.
— Прекратите читать книгу! — кричал он. — Выпустите меня со страниц! Слышите вы?! Хватит! Я хочу сам принимать решения! Выпустите меня!
Раздался гром, как если бы кто-то с силой захлопнул книгу. В ту же секунду Халсон был выкинут в третий пояс седьмого круга Ада в четырнадцатой Песне Божественной Комедии, где вечно мучились в пламени согрешившие против божества и искусства. Здесь он пронзительно кричал, пока не прошел соответствующие испытания. Только тогда ему позволили придумать собственную историю, и он придумал новый мир — романтический мир, мир его самой заветной мечты.
Он был последним человеком на Земле. Он был последним человеком, и он выл. Холмы, долины, горы, водопады принадлежали ему, ему одному, и он выл.
5 271 009 домов были его кровом. 5 271 009 кроватей ждали его на отдых. Магазины принадлежали ему. Драгоценности всего мира были его. Все предметы первой необходимости, все предметы роскоши — все принадлежало последнему человеку на земле, и он выл.
Воя, он оставил поля Коннектикута, где выбрал себе имение, и отправился в Вестчестер. Воя, он пересек Манхеттенский мост. Воя, он осматривал супермаркеты и потрясающие дворцы. Воя, шел по Пятой авеню, а на углу Пятидесятой улицы увидел человеческую фигуру.
Она была жива. Дышала. Красивая женщина. Она была высокой, с темными короткими вьющимися волосами и длинными ногами. На ней была белая блузка, бриджи для верховой езды и лакированные ботинки. Она несла ружье. У бедра красовался револьвер. Она ела тушеные помидоры из банки, а потом уставилась на Халсона, не веря своим глазам. Халсон выл. Подбежал к ней.
— Я думал, я единственное человеческое существо на Земле, — призналась она.
— Ты последняя женщина, — простонал Халсон. — А я последний мужчина. Ты дантист?
— Нет, — ответила она. — Я дочь несчастного профессора Филда, чей хорошо задуманный, но плохо выполненный эксперимент по расщеплению ядра стер человечество с лица Земли, оставив меня и тебя, которые из-за загадочной мутации в наших родах стали отличными от других людей. Поэтому мы последние люди старой цивилизации и первые новой.
— Неужели отец не обучил тебя стоматологии? — со стоном спросил Халсон.
— Нет, — ответила она.
— Тогда одолжи мне свой пистолет.
Она вытащила револьвер из кобуры и передала Халсону. Он взвел курок.
— Я надеялся, что ты дантист, — сказал он, подвывая.
— Я красивая женщина с коэффициентом умственных способностей 141, что гораздо важнее для новой смелой расы красивых людей, которые унаследуют нашу Землю, — важно сказала она.
— Но не с моими зубами, — промычал Халсон.
Он приставил пистолет к виску и вышиб себе мозг.
Халсон проснулся с ужасной головной болью. Он лежал на подъемнике радом со стулом, ушибленный висок касался холодного пола, появился господин Акила и включил вентилятор, чтобы очистить воздух.
— Браво, мой дорогой, — посмеиваясь, сказал он, — Последнее вы сделали самостоятельно, да? Но вы свалились раньше, чем я мог подхватить вас. Черт возьми.
Он помог Халсону встать и отвел его в кабинет, где усадил в кресло и дал стакан бренди.
— Гарантирую, тут лекарства нет, — произнес он. — Noblesse oblige.[65] Теперь обсудим, чего мы достигли. Черт возьми.
Он сел на стол, по-прежнему веселый, но резкий, и добродушно посмотрел на Халсона.
— Человек живет, принимая решения, так? — начал он. — Мы согласны, oui? Человек делает 5 271 009 решений в ходе своей жизни. Peste![66] Вы согласны?
Халсон кивнул.
— Итак, кофе с пончиком, именно зрелость в принятии решений является показателем, стал человек взрослым или нет. А человек не может стать взрослым, не избавившись от детских мечтаний. Черт побери эти фантазии. С ними надо расстаться. Pfui.
— Нет, — тихо сказал Халсон. — Эти мечты лежат в основе искусства. Мечты и фантазии я трансформировал в линии и цвет.
— Черт возьми! Oui. Согласен. Но только взрослые мечты, а не детские. Детские же мечты!.. Pfui. Они есть у всех… Быть последним человеком на Земле и владеть ею… Быть последним мужчиной, способным зачинать детей, и обладать всеми женщинами… Повернуть время, вернуться в детство, сохранив все свои знания, и всегда побеждать… Бежать от реальности, считая, что жизнь — выдумка… Избежать ответственности фантазиями о несправедливости, мученичестве со счастливым концом… И сотни других, одинаково популярных и бессмысленных. Благослови Господь Фрейда. Он примерял смерть ко всей этой чепухе. Sic semper tyrannis.[67]
— Но если такие мечты есть у каждого, значит, это вовсе не так плохо, разве нет?
— Черт возьми! В XIV столетии у всех были вши. Было ли это хорошо? Нет, мой друг, оставьте эти мечты детям. К сожалению, слишком много взрослых продолжают оставаться детьми. И вы, художники, должны наставлять их, как я вас сейчас.
— Зачем вы это делаете?
— Потому что верю в вас. Вам будет нелегко. Длинная трудная дорога и одиночество.
— Видимо, мне следует испытывать благодарность, — пробормотал Халсон. — Но я чувствую… черт… пустоту. Обман.
— О да, черт возьми. Если вы долго жили с язвой, то начинаете тосковать, если ее вырежут. Вы прятались в своей язве. А я ее у вас украл. Ergo,[68] вы чувствуете себя обманутым. Подождите. Сейчас вы почувствуете себя еще больше обманутым. Вот цена, о которой я говорил. Вы ее заплатили. Смотрите!
Господин Акила подал Халсону зеркало. Тот глянул и не мог оторваться. На него смотрело огрубевшее лицо, все в морщинах. Лицо пятидесятилетнего мужчины. Халсон вскочил.
— Спокойно, спокойно, — успокаивал Акила. — Это не так уж и плохо. Это просто замечательно. Физиологически вам все еще 33 года. Что за потеря? Смазливое лицо, чтобы завлекать девушек? Из-за этого вы беситесь?
— Боже! — закричал Халсон.
— Спокойно, мой мальчик. Вот вы здесь, без иллюзий, счастья, одной ногой на трудной дороге к зрелости. Хотите, чтобы всего этого не было? Я могу так сделать. Итак, вы в десяти секундах от бегства. Можете пожелать назад ваше лицо. Можете вернуться в свои язвы… вновь ребенок. Хотите?
— Вы не сможете!
— Смогу. Для 15000 ангстрем нет пределов.
— Будьте вы прокляты! Вы Сатана? Люцифер? Лишь дьявол может иметь такую власть.
— Или ангел.
— Вы не похожи на ангела: вы похожи на Сатану.
— Да? До падения Сатана был ангелом. У него много связей на небесах. Тут, без сомнения, семейственность. Черт возьми.
Господин Акила перестал смеяться. Он перегнулся через стол, и веселость исчезла с его лица. Осталась лишь резкость.
— Сказать вам, кто я, мой цыпленочек? Объяснить, почему один мой неосторожный взгляд обратил вас в пропасть?
Халсон кивнул, не в силах говорить.
— Я подлец, паршивая овца, шалопай. Я эмигрант, живущий на деньги с родины. Да. Черт возьми! По вашим стандартам я великий человек с неограниченной властью. Как тот эмигрант из Европы для наивных аборигенов на берегах Таити. Так и я достиг берегов вашей планеты ради забавы, маленькой надежды, ничтожной радости, пока проходят годы моего существования…
— Я отвратителен, — холодным безжалостным голосом говорил Акила. — Я испорчен. Дома нет места, где бы меня терпели. И бывают моменты, когда моя болезненность и отчаяние переполняют мои глаза и ударяют ужасом в ваши жаждущие души. Так я поразил ужасом вас. Да?
Халсон вновь кивнул.
— Солон Акила был ребенком, когда заболел, что разрушило его жизнь. Oui, я тоже страдал от детских фантазий, от которых не мог избавиться. Не повторяйте этой ошибки.
Акила взглянул на часы. Оживление вернулось к нему.
— Уже поздно. Время решать, бурдон с содой. Кем быть? Старое или молодое лицо? Реальность мечты или мечта реальности?
— Сколько, вы говорите, решений должен принять человек в жизни?
— 5 271 009. Плюс минус тысячу. Черт возьми.
— А сколько осталось мне?
— Вам? Два миллиона шестьсот тридцать пять тысяч пятьсот пять…
— Но и это много.
— Конечно. — Акила подошел к двери, положил руку на кнопку выключателя и многозначительно посмотрел на художника. Voila tont,[69] — сказал он. — Решайте.
— Я выбираю этот трудный путь, — решил Халсон.
Раздался серебряный звон, свечение, беззвучный взрыв, и Джеффри Халсон был готов к 2 635 505 решениям.
Перевод с англ. Ю. Беловой

Чарльз Бимон
ЗЕМЛЯ ЗАДАРОМ

Ни одна птица еще не выглядела так после смерти. Ее кости, сложенные горкой на одной стороне тарелки, были похожи на растопку: белые, сухие и чистые, озаряемые мягким белым светом люстры в ресторане. Лишь кости с надкрыльями и без единого волоконца мяса. Тарелка была похожа на огромную сверкающую раковину.
Остальные маленькие тарелки и фужеры сверкали девственной чистотой. Они блестели, соперничая друг с другом. Весь поток бледного матового света сконцентрирован на белизне скатерти, на которую даже сервировка не бросила теней и не было пятен от кофе, хлебных крошек, пепла сигарет и следов пальцев.
Лишь кости покойной птицы и разводы подобно узорам густого красного желатина, робко прилепившегося ко дну десертной чашки, свидетельствовали о том, что эти останки когда-то были великолепным обедом из шести блюд.
Мистер Аорта, мужчина огромного роста, негромко рыгнув, свернул газету, которую нашел на стуле, и оглядел свою жилетку. Не найдя на ней остатков пищи, быстро двинулся к кассе.
Старик глянул на чек.
— Да, сэр. — сказала кассирша.
— Все верно, — сказал мистер Аорта и достал из верхнего кармана большой черный бумажник. Он небрежно открыл его, насвистывая сквозь передние зубы песенку «О семи прелестях Мери».
Мелодия резко оборвалась, мистер Аорта посерьезнел. Он заглянул в бумажник и начал вытаскивать все из него.
Он остолбенел.
— Трудности, сэр? — спросила кассирша.
— Да нет, — ответил толстяк, — никаких.
Хоть и было очевидно, что бумажник пуст, он продолжал рассматривать его боковые отделения, переворачивал его вверх дном и тряс, напоминая бешеную летучую мышь.
Мистер Аорта растерянно улыбался, продолжая вытряхивать свои многочисленные карманы. Мгновенье, и прилавок был буквально завален дребеденью.
— Ну вот, — промолвил он взволнованно. — Что за чушь! Черт возьми! Знаете, что случилось? Жена отправилась куда-то и забыла оставить мне мелочь. Хей-хо, я — Джеймс Брокел Херт, работаю в Пшофильм корпорации, обычно ем в ресторане, и здесь… Нет, я просто настаиваю. Вы неприятно удивлены, так же, как и я сам. Я настоятельно прошу вас разрешить мне оставить мою визитную карточку. Запомните, я вернусь завтра вечером в это же время и возмещу все.
Мистер Аорта сунул визитку на клочке картона кассирше в руки, покачал головой, остальные визитки рассовал по карманам и, вытащив из коробки зубочистку, покинул ресторан.
Он был вполне доволен собой — неизменная его реакция при получении чего-либо, не отдавая ничего взамен. Как гладко все прошло, а какой замечательный обед!
Он направился к автобусной остановке, беззастенчиво пялясь на обнаженные манекены в витринах универмага.
Как всегда, это сработало и в автобусе, когда он начинал шарить у себя по карманам. (Влезал в толпу пассажиров, выглядит смущенным, не бросался в глаза, добросовестно рылся в своих карманах, пока был в поле зрения кондуктора, а затем усаживался в конце салона и почитывал газету). За четыре года, по подсчетам мистера Аорты, он сэкономил 211 долларов и 20 центов.
Старая газета не нарушила его безмятежного чувства. Он пробежал глазами объявления о том, где можно развлечься, а затем перешел к разбору кроссворда, разгадка которого сулила тысячи. Тысячи долларов совершенно за так. Получить их, ничего не отдавая взамен. Как мистер Аорта любил кроссворды! Но мелкий шрифт невозможно было прочесть. Мистер Аорта глянул на пожилую даму, стоявшую поблизости от него, глаза которой были полны мольбы и растерянности, он отвернулся и внезапно увидел закрытые решетками окна.
То, что он увидел, заставило его затрепетать. Это был район, который он проезжал ежедневно, удивительно, что он никогда не замечал этого прежде, — хотя и мало было привлекательного в том, что носило название Смертного ряда, — мрачная серия мертвецких, колумбариев и тому подобного, располагающаяся в пяти блоках.
Он нажал на сигнал и вышел через заднюю дверь. Через несколько секунд он подошел к тому, что увидел из окна автобуса.
Это было объявление, безвкусно отпечатанное, хотя и без ошибок. Оно было уже старое, так как белая краска размазалась и потрескалась, а от ржавых гвоздей тянулись грязные подтеки по всему объявлению.
Оно гласило:
«Предлагается бесплатно почва. Обращаться на кладбище Лиливейл».
Объявление было прикреплено на деревянной доске, покрытой зеленой плесенью.
Сейчас мистер Аорта вновь испытал знакомое чувство. Оно возникало в нем всякий раз, когда он встречал слово бесплатно — магическое слово, оказывающее странное и великолепное воздействие на его пищеварение!
— Бесплатно! Что бы это значило? Почему можно что-то получить, не отдав ничего взамен?
Мы уже подчеркнули, что для мистера Аорты особым удовольствием в его бренной жизни было получить что-то задаром. То, что на сей раз бесплатно предлагалась земля, нисколько не смущало его. Его отношение к таким вещам было непринципиальным; или, как он рассуждал, брать можно все. Другие неуловимые обстоятельства этого объявления с трудом доходили до него: почему предлагали землю? Откуда на кладбище появилась земля? и т. д.
Не думал он и о качестве почвы. Душевные колебания мистера Аорты касались лишь вопроса — нет ли тут подвоха. Сколько почвы он может забрать домой и нет ли при этом ограничений? Если нет, то как ее лучше привезти?
В конце концов, решить можно все проблемы. Мистер Аорта улыбнулся в душе, оглянулся и наконец обнаружил вход на кладбище Лиливейл.
Эта заброшенная территория, на которой разместилась фабрика по производству бечевки, обивочной ткани и дамской обуви, окутана парами миазмов, хотя поблизости нет ни одного болота. Запах шел из многочисленных дымовых труб. Длинные холмики, с возвышающимися над ними крестами и надгробиями, угрожающе серыми и мрачными в вечерних сумерках, — одно удовольствие описывать такое местечко. Как жалко, что никто не заметил, как оно выглядело в тот вечер, поскольку до нашего толстяка никому не было дела, никто за ним и не наблюдал.
Важно лишь одно, там было полно покойников, лежавших под землей, разложившихся и разлагающихся.
Мистер Аорта торопился, поскольку он ненавидел пустое времяпрепровождение. Незадолго до этого он встретился со служителем и имел беседу следующего содержания.
— Я понял, что вы бесплатно предлагаете почву.
— Да.
— Сколько можно взять?
— Сколько захотите.
— Когда?
— В любой день, здесь всегда есть свежая.
Мистер Аорта вздохнул подобно тому, как вздыхают люди, получившие наследство, которого им хватит на всю оставшуюся жизнь, или постоянный доход. Затем он договорился на следующую субботу и отправился домой, чтобы поразмышлять о том, что произошло.
В половине десятого ночи ему пришла в голову блестящая мысль о том, где можно использовать эту почву.
Задворки дома, в котором он жил, представляли собой заброшенный высохший пустырь, где ничего не могло уродиться, кроме сорняков. Однажды на этом пустыре выросло дерево, которое служило пристанищем окрестных птиц; но потом птицы исчезли, наверно, не от хорошей жизни. Это случилось, когда в доме поселился мистер Аорта, — дерево превратилось в совершенно высохшую голую корягу.
Дети не играли на этом дворе. Вот это и заинтересовало мистера Аорту. Кто скажет с уверенностью: может быть, что-то вырастет здесь. Давно уже он заказывал одной фирме семена по бесплатной подписке. Ему их прислали столько, что можно было накормить целый полк. Но его первые тогдашние эксперименты так и провалились из-за его лени. И вот теперь…
Сосед по имени Джозеф Вильям Сантуччи был страшно перепуган. Он дал Аорте свою старую тележку, и через несколько часов на задворках уже возвышалась аккуратная насыпь. С каким восторгом смотрел на нее мистер Аорта, несмотря на усталость. Затем последовала вторая партия почвы, затем третья, четвертая; было уже далеко за полночь, когда прибыла последняя партия. Мистер Аорта вернул тележку и рухнул в тяжелом забытье.
На следующий день соседей разбудили не только звуки колоколов близлежащей церкви, но и звуки лопаты, выравнивающей почву, привезенную с кладбища, перемешивающей ее с глиноземом. Она напоминала почву с Европейского континента, эта новая земля: темная, она казалась черной и мрачной — она еще не просохла, хотя солнце было уже высоко.
Вскоре большая часть двора была покрыта землей, и мистер Аорта вернулся в дом.
Он включил радио в тот момент, когда нужно было угадать название популярной песенки, тут же записал ответ на открытке и отправил ее в надежде получить за свой правильный ответ либо тостер, либо набор нейлоновых носков с подтяжками.
После этого он завернул четыре свертка, в которых находились половина упаковки витаминов, полбанки кофе, половина бутылки пятновыводителя и чуть заполненная коробка стирального порошка. Все это он отправил по почте, сопроводив записками, в которых он выразил неудовольствие по поводу качества товара с тем, чтобы компании компенсировали его затраты.
Приближалось время ужина, и мистер Аорта просто горел от нетерпения. Он принялся поглощать деликатесы: анчоусы, сардины, грибы, икру, оливки. Он поедал все это не потому, что был гурманом, а по той самой простой причине, что все эти деликатесы были упакованы в небольшие коробки, которые он мог незаметно спереть в больших магазинах.
Мистер Аорта так тщательно вычистил тарелки, что ни одна кошка не могла бы с ним соревноваться: пустые коробки из-под консервов блестели, как новенькие; даже крышки консервных банок сверкали и переливались. Мистер Аорта посмотрел в свою книжку доходов-расходов и подошел к окну, выходящему во двор. Он не был женат, поэтому не торопился прилечь после ужина.
Луна холодно освещала двор. Ее лучи проникали сквозь высокий забор, который наш герой соорудил из камней, собранных в округе. Ее лучи угрюмо освещали чернеющую во мгле почву.
Аорта, немного подумав, отложил свою приходно-расходную книгу и достал коробки с семенами. Они были как новенькие.
Тележка Джозефа Вильяма Сантуччи служила соседу каждую субботу в течение пяти недель. Этот добряк с любопытством взирал на своего соседа, который каждый раз привозил все больше и больше земли. Он уже поделился со своей женой наблюдениями за чудачествами соседа, но она и слушать не хотела о мистере Аорте.
— Дурень, он ограбил нас, — сказала она. — Посмотри! Он носит твое старье, пьет чай с моим сахаром и изюмом и занимает у нас все, что только пожелает! Я сказала занимает? Я имею в виду ворует! Несколько лет подряд! Я еще не видела такого типа, как этот, который не платит ни за что! Где он работает, чтобы так мало зарабатывать?
Ни один из супругов Сантуччи не знал, что заработки Аорты — это подаяния нищему, в которого он перевоплощается, напялив черные очки и протягивая прохожим консервную банку для подаяний. Оба они не раз проходили мимо него, бросали мелкие деньги, с трудом сдерживая отвращение. Отвращение Аорты было припрятано надежно вместе с мелочью в свободной ячейке камеры хранения на конечной станции.
Наступило время сева, и наш герой приступил к этому занятию, педантично следуя инструкциям, почерпнутым в библиотеке. Новые ряды разнообразных летних овощей были засажены в богатую черную почву: горох, бобы, лук, свекла, ревень, аспарагус, салат и, конечно, много всего другого. Когда все грядки были засеяны, а у Аорты еще оставались пакеты с семенами, он побросал в землю семена земляники, арбуза и какие-то неизвестные семена. Вскоре все пакетики опустели.
Прошло несколько дней, пора было отправляться на кладбище за новой землей, а мистер Аорта сделал удивительное открытие.
В черной сочной земле образовались небольшие отверстия. При более близком рассмотрении он понял, что семена дали всходы.
Хоть мистер Аорта много чего не знал о возделывании посевов, он рискнул заняться этим. Он с удивлением воспринимал изменения, но не испугался. Он видел, как растут овощи, вот что было важно. Все это превратится в еду!
Порадовавшись своей наблюдательности, он поспешил на кладбище. Новости беспокоили его: оказалось, что в последние дни смертность была не на высоте. Земли было маловато, лишь одна тележка. Ну, да ладно. Цыплят по осени считают! И отправился с тем, что было.
Он отметил, что растения заметно подросли. Стебли стали выше, и его огород уже более не походил на пустыню.
До следующей субботы он уже не смог утерпеть. Видимо, земля, которую он привозил, была для его огорода отличным удобрением — то, что он мог бесплатно получить еду, заставляло его снова и снова отправляться на кладбище.
Но в следующее воскресенье все его надежды рухнули. Растения начали гибнуть. Он не привез ни тележки. Огород начал чахнуть.
Аорта сразу же попытался раздобыть новой почвы и удобрений, какие только существовали. Результата не было. Его огород, обещавший столь щедрый урожай, вернулся в свое первоначальное состояние. Аорта не мог мириться с этим, ведь он приложил столько сил, чтобы взрастить все это, его труд не должен быть напрасным. Эта мысль и оказала влияние на дальнейшую предприимчивость.
Итак, однажды ночью, дрожа от ужаса, он ступил через ворота кладбища в те уголки, где могилы еще пустовали. Ему пришлось углубить каждую из них еще сантиметров на тридцать. Никто этого и не заметил.
Нет нужды говорить о том, как ему пришлось потрудиться. Достаточно того, что тележка Сантуччи была оставлена за квартал от кладбища и заполнена лишь на четверть.
К утру растения в огороде вновь пышно зазеленели.
Так и повелось. Когда была нужна новая почва, Аорта находил ее и привозил. А огород разрастался до тех пор, пока…
И вот все распустилось! Как быстро эти маленькие растения превратили огород в настоящие прерии, напоминавшие цветочно-овощной Эдем. Зерна в кукурузных початках желтели сквозь зелень, горошины перламутрово зеленели в своих полураскрывшихся стручках, все другие великолепные овощи свидетельствовали о прелести жизни и ее силе. Ряды овощей.
Энтузиазм охватил Аорту. Он взирал на все это как истинный гурман, но он был профаном в заготовках. Тем не менее, он начал действовать.
Совсем немного времени отнимал у него уход. Терпеливо очищал он огород от сорняков, листьев и всего того, что нельзя было есть.
Он мыл, чистил, связывал. Наконец варил. Он собрал все, что можно было готовить, и разрезал в виде геометрических фигурок на столах, стульях и делал это до тех пор, пока еда не была готова.
Вот тут началось! Первым следовал аспарагус — в алфавитном порядке. Он жевал и жевал; далее следовали свекла, сельдерей, ревень. Глоток воды, и новый плод пережевывался Аортой, пока он не дошел до салата. К тому времени начало щемить желудок, но это была сладкая боль; он лишь глубоко вздохнул и, медленно пережевывая, покончил с последним куском.
Тарелки блестели первозданной чистотой. Все было съедено.
Аорта испытывал чуть ли не сексуальное удовлетворение, что для него означало — на сегодня довольно. Ему даже не рыгалось.
Счастливые мысли нашли на него. Две величайшие страсти были удовлетворены; значение всей жизни символично выступало в форме обобщенного человеческого образа. Он думал только о двух вещах.
Случайно он взглянул на свой огород. То, что увидел, напоминало сиянье посреди тьмы. Там, где-то в конце огорода, слабое, но отчетливое.
Словно бронтозавр, попавший в западню. Аорта поднялся со стула, дошел до двери и вышел в огород, который лелеял, словно дитя. Он проковылял, шаркая ногами, мимо растений, отбрасывавших уродливые тени.
Казалось, что сияние исчезло, он огляделся, щуря глаза, стараясь привыкнуть к лунному свету. А потом он увидел это! Белое растение, лепестки которого походили на ветви пальмы, это был лишь цветок, вернее, то, что от него осталось.
Аорта был удивлен. Цветок рос на дне ямки у высохшего дерева. Он не мог вспомнить, откуда здесь было взяться яме, видно, очередные проделки соседской ребятни. Как хорошо, что все удалось вовремя съесть.
Аорта наклонился над краем ямы и простер руку к светящемуся цветку, но рука не дотянулась до него.
Он не отличался особым проворством, но все же наподобие художника, кладущего последний мазок, он наклонился сильнее и — бац! — полетел с обрыва ямы вниз. Дурная голова — теперь нужно карабкаться наверх. Но цветок… Он нащупал дно ямы, цветка не было. Аорта поднял голову, и его поразило, что дно было глубже, чем он полагал, а цветок развевался на ветру на краю, где он только что стоял.
Боль в желудке стремительно нарастала, с каждой минутой усиливаясь. От боли распирало ребра.
В тот момент, когда он понял, что ему не выбраться, он увидел цветок в лунном сиянии. Он напоминал руку, большую руку человека, негнущуюся, с восковым оттенком, растущую из земли. Ветер подхватил ее, легко понес, роняя землю на лицо Аорты.
Он подумал, оценил ситуацию и начал отчаянно карабкаться. Но боль была настолько сильна, что его скрутило.
Вновь подул ветер, и в яму посыпалась земля. Вскоре странное растение начало раскачиваться из стороны в сторону, и земля прямо-таки повалилась в яму. Все больше и больше.
До этой минуты Аорта не нашел подходящего момента, чтобы закричать, но тут он закричал. Кричал отчаянно, но его никто не слышал.
Супруги Сантуччи обнаружили соседа лежащим на полу перед несколькими столами. На них стояли тарелки, сверкая чистотой. Его живот был раздут до такой степени, что ремень, пуговицы, молнию было невозможно расстегнуть. Он походил на большого белого кита, подымающегося из морской пучины.
— Обожрался до смерти, — заключил Сантуччи.
Он подошел к покойнику и убрал с его лица крошки земли, рассматривая их. Он подумал о том…
Он старался не думать об этом, но когда вскрытие засвидетельствовало, что в желудке покойного было несколько фунтов земли, и ничего больше, то Сантуччи с неделю не спал.
Они отнесли тело Аорты сквозь заросший сорняком пустой двор, мимо высохшего дерева, за забор из камней.
Они положили его под стену, на которую наползали заросли. Небольшой знак на стене, выведенный безвкусно, но по всем правилам правописания.
Ветер дул абсолютно бесплатно.
Перевод с англ. Н. Макаровой

Р. Брэдбери
СЛАДКИЙ ДАР

Все началось с запаха шоколада.
В дождливый июньский день, ближе к вечеру, отец Мэлли дремал в исповедальне в ожидании грешников.
— Ума не приложу, куда они подевались? — недоумевал он. Бесконечные пути греха скрывались где-то за теплым дождем. А почему бы не быть и бесконечным путям покаяния? Отец Мэлли устроился поудобнее и закрыл глаза.
Нынешние грешники так быстро носятся в автомобилях, что наша старая церковь мелькает для них каким-то пятнышком на обочине. А сам он? Древний акварельный священник — краски уже выцвели.
«Подождем еще пять минут и хватит», — подумал он не то чтобы в панике, но с тихим стыдом и отчаянием, которым лучше бы возлечь на чьи-нибудь другие плечи.
За решеткой исповедальни послышался скрип открываемой двери.
Отец Мэлли встрепенулся. Из-за решетки повеяло запахом шоколада.
«О Господи, — подумал святой отец, — какой-нибудь паренек со своей маленькой корзинкой грехов, вывалит и уйдет. Ну давай…»
Старый священник склонился к решетке, откуда несся шоколадный дух и откуда должны были воспоследовать слова.
Но слов не было. Никаких «отпусти грех мой, отец, ибо я…» Только странный шорох, как будто кто-то… жует! Грешник за перегородкой — зашей, Господи, его рот — сидел и просто жрал шоколад!
— Нет! — прошептал священник сам себе.
В желудке его, получившем новую информацию, заурчало, напоминая, что с самого утра он ничего не ел. От некоего греха гордыни, в котором он сам себе не признался бы, он пригвоздил себя к диете, сгодившейся бы и для страстотерпца, а тут… на тебе!
Жевание за стенкой продолжалось.
Желудок отца Мэлли зарычал. Он почти прижался губами к решетке, закрыл глаза и крикнул:
— Да хватит же!
Мышиная возня, запах шоколада стал улетучиваться. Юношеский голос произнес:
— Это как раз то, с чем я пришел, отец.
Священник открыл один глаз и обозрел тень за завесой.
— То есть с чем именно?
— Это все шоколад, отец.
— Что?
— Да вы не сердитесь, отец.
— Да кто тут сердится?!
— Вы, отец. Меня просто придавило звуком вашего голоса, я и начать не успел.
Священник откинулся в скрипнувшем кожей кресле, стер с лица гримасу и встряхнулся.
— Да, да. День жаркий. И я немного не в духе. Да и вообще…
— Чуть позднее станет прохладнее, отец, и вам будет хорошо.
Старый священник разглядывал завесу.
— Тут кто, собственно, исповедуется и кто дает отпущение?
— Да я, отец…
— Ну так приступай!
Голос быстро выпалил:
— Вы почувствовали запах шоколада, отец?
Священников желудок глухо ответил за него.
Оба прислушались к печальному звуку.
— Понимаете, отец, если по правде, то я… шоколадный наркоман.
Что-то давно забытое вспыхнуло в глазах священника. Любопытство уступило место юмору, затем со смехом вернулось обратно.
— И ты поэтому пришел сегодня к исповеди?
— Да, сударь, то есть святой отец.
— А не из-за того, что задумал блудодеяние с сестрой своей или из-за изнурительной войны с онанизмом?
— Нет, отец, — сокрушенно ответил голос.
Священник нашел нужный тон и сказал:
— Ну, ну все в порядке. Давай к делу. По правде сказать, ты для меня большое облегчение. Я уже по горло сыт рыщущими особями мужского пола и страдающими от одиночества — женского и всем этим мусором, который они вычитали из книг… Продолжай, ты меня заинтересовал. Рассказывай дальше.
— Понимаете, отец, вот уже десять или двенадцать лет, я съедаю фунт или два шоколада в день и никак не могу бросить. Тут и конец и начало всего.
— Звучит как эпидемия прыщей, угрей и карбункулов.
— Вот именно.
— И не прибавляет стройности фигуре.
— Если я сейчас попытаюсь наклониться, отец, я опрокину исповедальню.
Послышался скрип, все вокруг них затрещало, когда невидимая фигура зашевелилась.
— Тихо, сидеть! — крикнул священник.
Треск прекратился.
Священник проснулся окончательно и чувствовал себя прекрасно. Давно уже он не ощущал себя таким живым, так, чтобы сердце билось уверенно и кровь доходила бы до самых отдаленных уголков тела.
Жара спала.
Он почувствовал бесконечную прохладу. Какое-то радостное чувство пульсировало в запястьях и наполняло горло. Он наклонился к решетке почти совсем как возлюбленный к предмету своей страсти:
— Вот какой ты исключительный.
— И печальный, отец, и двадцатидвухлетний, и обманутый, и ненавидящий себя за обжорство, и желающий от него избавиться.
— А ты не пробовал жевать подольше, а глотать пореже?
— Каждую ночь ложусь спать со словами: «Убери, Господи, с моего пути все хрустящие плитки и молочно-шоколадные поцелуи фирмы «Хершиз». Каждое утро выскакиваю из постели и бегу в винный магазин, но не за выпивкой, а за восемью плитками «Hectle»! У меня уже гипертония к обеду.
— Я думаю, что это предмет медицины, а не исповеди.
— Да на меня уж и доктор орет.
— Приходится.
— А я его не слушаю, отец.
— А надо бы.
— И мать мне не в помощь, она сама толстая, как поросенок, от шоколада.
— Я надеюсь, ты не из тех, кто держится за мамину юбку?
— А куда я денусь, отец?
— Господи, да надо закон издать, чтобы мальчики не болтались в пределах округлой тени их мамочек. А отец твой… еще жив?
— Более или менее.
— А его вес?
— Ирвин Великий — зовет он себя из-за роста и веса, это не настоящее имя.
— А когда идете втроем, то от одного тротуара и до другого?
— А велосипеду не проехать, отец.
— Христос в пустыне, — пробормотал священник, — голодал сорок дней.
— Ужасная диета, отец.
— Если бы на примете была подходящая пустыня, я бы тебя туда выпихнул.
— Выпихните, отец. От папы с мамой помощи не дождешься, так же, как и от доктора и тощих друзей, которые только хихикают, на меня глядя. Я уже из бюджета выхожу от этого ожирения. Никогда не думал встретиться с вами… и вот наконец добрался. Если бы только друзья узнали, моя мамочка, папочка и этот сумасшедший доктор — что я здесь с вами в эту минуту!..
Было слышно, как что-то тяжелое наклонилось и побежало.
— Подожди!
Раздался слоновый топот. Видимо, молодой человек ушел. Остался только запах шоколада, напоминая обо всем без слов.
Сразу вернулась дневная жара, и старому священнику стало душно и грустно.
Ему пришлось выбраться из исповедальни, потому что он знал, что если останется, то начнет ругаться, а потом надо будет бежать за отпущением грехов в соседний приход.
— Я страдаю от сварливости, Господи. За это сколько раз надо прочесть «Богородицу»? Ну-ка подумай, сколько — за одну тонну шоколада?
«Вернись!» — крикнул он мысленно в пустой церкви. «Нет, теперь уж не вернется, — подумал он, — я так на него набросился».
И с этим тяжелым чувством он пошел домой принять прохладную ванну — вдруг станет полегче на душе.
Прошел день, два, неделя.
Зной растворил старого священника до состояния потного ступора и кислого расположения духа. Он дремал в спальне или перебирал бумаги в библиотеке, бросал взгляды на неухоженный газон, периодически напоминая себе, что надо бы поразвлечься с косилкой в ближайшие дни. Но в основном он пребывал в раздражении. Прелюбодеяние было разменной монетой общества, а мастурбация его служанкой — по крайней мере, так явствовало из шепота, проникавшего через решетку исповедальни день за днем.
На пятнадцатый день июля месяца он поймал себя на том, что глазеет на ребят, которые не спеша ехали мимо на велосипедах, набивая себе рты шоколадом, который они жевали и проглатывали.
Той же ночью он проснулся и принялся мысленно перебирать разные сорта шоколада.
Некоторое время он пытался бороться с собой, потом встал, попробовал читать книгу, отшвырнул ее, проследовал в неосвещенную церковь и наконец, тихонько топоча, подошел к алтарю и помолился об одной вещи.
На следующий день молодой человек, так страстно любивший шоколад, наконец появился.
— Благодарю Тебя, Господи, — пробормотал священник, когда почувствовал, как под огромной тяжестью осела другая половина исповедальни, подобно перегруженному кораблю.
— Что? — переспросил шепотом молодой голос с той стороны.
— Это я не тебе, — сказал священник.
Он открыл глаза и вдохнул. Ворота шоколадной фабрики были открыты, и приятный аромат шел оттуда, чтобы преобразить землю.
А затем случилось невероятное.
Резкие слова вырвались из уст отца Мэлли:
— Тебе не следовало приходить!
— Что, что, отец?
— Иди куда-нибудь еще! Я не смогу тебе помочь. Здесь нужны специальные познания. Нет, нет.
Старый священник был ошеломлен собственными словами, как он от выговорить такое? От жары, что ли, или слишком долгого ожидания этого изверга? Но изо рта продолжало выпрыгивать:
— Не смогу помочь! Нет, нет. За этим иди…
— В дурдом, что ли? — прервал его голос, удивительно спокойный, как перед взрывом.
— Да, да, к этим… психиатрам.
Последнее слово было совсем уж невероятным. Он им пользовался-то редко.
— О Господи, отец, да что они понимают? — сказал молодой человек.
«На самом деле, — подумал отец Мэлли, его уже далеко занесло в этом карнавальном разговоре. — Какая жалость, что нельзя прикрыть лицо воротником и нацепить бороду», — подумал он, но продолжал более спокойно:
— Что они понимают, сын мой? Да как будто они заявляют, что знают все.
— Прямо как церковь когда-то, так, отец?
Тишина. Потом:
— Есть разница между заявлениями и знанием, — ответил старый священник, спокойно, насколько позволяло его бьющееся сердце.
— И церковь знает?
— Ну, если не она, то я знаю!
— Не заводитесь опять, отец, — молодой человек помолчал и вздохнул. — Я ведь пришел не для того, чтобы наблюдать вместе с вами, как ангелы танцуют на острие булавки. Может быть, я начну исповедь?
— Давно, как будто, пора, — священник присобрался, устроился поудобнее, закрыл глаза. — Ну?
И голос на другой стороне, с дыханием ребенка и языком, тронутым поцелуями серебряной фольги и медовыми сотами, движимым свежей сладостью и воспоминаниями о роскошествах «Кэдбери», начал описывать жизнь, где встают по утрам, и ходят весь день, и ложатся спать с «Восторгами Швейцарии» и искушениями от «Хершиз» и где сжевывают сначала наружную оболочку «Кларк Бар», а потом смакуют хрустящий наполнитель… праздник души, которая просит, а язык требует, а желудок принимает, а кровь танцует под ритмы «Пауэр Хаус», обещания «Лав Нест» и нашептывания «Баттерфингера», но самый экстаз это сладкое африканское мурлыканье темного шоколада между зубами, окрашивающее десны, наполняющее благоуханием небо, так что во сне уже бормочете, шепчете, мурлыкаете на языках Конго, Замбези, Чада…
И чем больше голос говорил — по мере того, как проходили дни, недели, а старый священник все слушал, — тем легче становился груз по ту сторону решетки. Отец Мэлли, даже не глядя, знал, что плоть, заключающая в себе этот голос, таяла и убывала. Поступь делалась не такой тяжелой. Исповедальня уже не скрипела в таком диком испуге, когда тело входило в соседнюю дверь. И голос, и молодой человек были на месте, но запах шоколада отчетливо убыл и почти исчез.
И это было самое чудесное лето в жизни старого священника.
Когда-то, много лет назад, когда он был очень молодым человеком, с ним случилось нечто такое же странное и не похожее ни на что.
Девушка, судя по голосу, не старше шестнадцать лет, приходила каждый день в свои летние каникулы, пока не настала пора снова идти в школу.
И все то долгое лето ее милый голос и шепот приводили его в настолько трепетное чувство, насколько это возможно для священника. Он слышал ее сквозь ее июльскую прелесть, августовское безумие, сентябрьское разочарование, и когда она, как всегда, ушла в октябре в слезах, ему захотелось крикнуть: «Останься, останься! Выходи за меня замуж!»
«Но я жених невестам Христовым», — прошептал другой голос.
И он не выбежал, очень молодой священник, на скрещения путей этого мира.
А теперь, когда подходит уже к шестидесяти, юная душа в нем вздохнула, зашевелилась, вспомнила, сравнила старое потертое воспоминание с этой новой, в чем-то смешной и в то же время печальной, внезапной встречей с потерянной душой, чья любовь была — нет, не знойная страсть к девушкам в завлекательных купальных костюмах, — но шоколад, развернутый украдкой и сожранный тайком.
— Отец, — сказал голос однажды ближе к вечеру, — это было чудесное лето.
— Странно, что ты это говоришь, — сказал священник, — это я так думал.
— Отец, я должен поведать вам одну ужасную вещь.
— Я думаю, меня ты не смутишь.
— Отец, я не из вашего прихода.
— Это нормально.
— И, отец, простите меня, но я…
— Продолжай.
— Я даже не католик.
— Что?! — вскричал старик.
— Я даже не католик, отец. Это ужасно?
— Ужасно?
— Я имею в виду, я сожалею. Я прошу прощения. Я крещусь, если хотите, отец, чтобы уладить это дело.
— «Крещусь», болван?! — крикнул старик. — Поздно уже! Ты знаешь, что ты наделал? Сознаешь ли ты глубину греха, в которую погрузился? Ты отнимал мое время, заставляя слушать себя, доводил до бешенства, просил совета, нуждаясь, между прочим, в психиатре, оспаривал религию, критиковал папу, насколько я помню (а я помню!), отнял у меня три месяца, восемьдесят или девяносто дней, а теперь, теперь ты хочешь креститься и «уладить это дело»?
— Если вы, конечно, не возражаете, отец.
— Возражаю! Возражаю! — прокричал священнослужитель и отключился секунд на десять.
Он уже был готов распахнуть дверь и выволочь греховодника на свет Божий. Но тут…
— Это было не совсем напрасно, — сказал голос по ту сторону решетки.
Священник замер.
— Потому что, отец, вы помогли мне, храни вас Господь.
Священник почти перестал дышать.
— Да, отец, вы, мне так много помогли, я вам признателен, — шептал голос. — Вы не спрашиваете, ведь вы догадались? Я сбросил вес. Вы даже не поверите, сколько я сбросил. Восемьдесят, восемьдесят пять, девяносто фунтов. Благодаря вам, отец. Оставил обжорство. Оставил. Сделайте глубокий вдох. Вдохните!
Священник — против своей воли — вдохнул.
— Что чувствуете?
— Ничего.
— Ничего, отец, ничего! Все в прошлом. И запах шоколада, и сам шоколад. В прошлом. В прошлом. Я свободен.
Старый священник сидел, не зная, что сказать. У него зачесались веки.
— Вы сделали работу Христа, отец, и вы, конечно, это знаете. Он шел по миру и помогал. Вы идете по миру и помогаете. Когда я падал, вы протянули руку, отец, и спасли меня.
А затем произошло нечто весьма странное. Отец Мэлли почувствовал, как из глаз его брызнули слезы. Просто потекли. Они струились по щекам. Они собирались у его сжатых губ. Он разжал их, и слезы стали капать с подбородка. Он не мог их остановить. Они пришли, о Господи, они пришли, как весенний ливень после семи лет засухи, а он танцует в одиночестве, благодарный, под дождем…
Он услышал звуки из-за перегородки и хотя не был точно уверен, но как-то почувствовал, что тот, другой, тоже плачет.
Так они сидели — пока грешный мир мчался мимо по своим дорогам — здесь, в пахнущем ладаном полумраке, два человека, по разным сторонам хрупкой перегородки, вечером, в конце лета и плакали.
А потом они совсем успокоились, и голос участливо спросил:
— Вы в порядке, отец?
Священник наконец ответил, глаза его при этом были закрыты:
— Спасибо, все хорошо.
— Я могу чем-нибудь помочь?
— Да ты уж все сделал, сын мой.
— А насчет… крещения? Я вот что имел в виду.
— Не стоит беспокоиться.
— Нет, именно стоит. Я крещусь. Пусть даже я еврей.
— Ч-что?
— Я сказал «еврей», но я ирландский еврей, если так лучше.
— О да! — промычал старый священник. — Так лучше, лучше!
— А чего такого забавного, отец?
— Не знаю, но о-очень, о-очень забавно!
И тут он разразился такими пароксизмами смеха, что даже заплакал, а потоки слез заставили его опять хохотать, пока все не смешалось в каком-то буйстве. Церковь отозвалась многократным эхом очищающего смеха. Единственное, что он знал в этот момент, это то, что завтра, когда он расскажет все это своему исповеднику, епископу Келли, ему все простится. Церковь очищается и украшается не только слезами скорби, но и свежим ветром прощения себя и других, который дается Богом только человеку и который называется смехом.
Восклицания с обеих сторон долго не стихали, потому что молодой человек перестал плакать и переключился на веселье. Церковь покачивалась от их голосов. Сопение прекратилось. Радость билась о стены, как птица, которая хочет вылететь на свободу.
Наконец все стихло. Они сидели, вытирая лица, невидимые друг для друга.
Затем, как будто мир почувствовал, что пора сменить декорации, ветер широко распахнул створки церковной двери и бросил в проход немного листьев. Сумерки наполнились запахом осени. Лето на самом деле кончилось.
Через дверь было видно, как ветер гонит осенние листья, и вдруг, как весной, отец Мэлли захотел улететь с ними. Его существо требовало выхода, но выхода не было.
— Я ухожу, отец.
Священник выпрямился.
— Ты имеешь в виду, до завтра?
— Нет, совсем ухожу. Это последний раз.
«Ты не смеешь!» — подумал священник и почти сказал вслух.
Вместо этого он сказал спокойно, как только мог:
— И куда ты отправляешься, сын мой?
— Вокруг света, отец, во много мест. Я тут было испугался. Я никогда нигде не бывал. Но теперь, когда я в порядке, я еду. Надо побывать во многих местах, попробовать новую работу.
— И как долго тебя не будет?
— Год, пять лет, десять. А вы еще здесь будете через десять лет, отец?
— С Божьей помощью.
— Когда я буду в Риме, я куплю для вас что-нибудь, освящу у папы, а потом подарю, когда вернусь.
— Освященный дар?
— Да. Вы меня прощаете, отец?
— За что?
— За все.
— Мы уже простили друг друга, дорогой мальчик, и это самое лучшее, что люди могут сделать друг для друга.
С другой стороны послышался шорох ног.
— Ну я пошел, отец. А правда, что «гуд-бай» означает «с вами Бог»?
— Как раз это и означает.
— Ну тогда гуд-бай, отец.
— Гуд-бай — в самом первоначальном смысле.
И исповедальня опустела.
Молодой человек исчез.
Последнее событие, заполнившее жизнь отца Мэлли до конца, произошло много лет спустя, когда он стал уже совсем сонливым старцем. Однажды, ближе к вечеру, когда он дремал в исповедальне, слушая, как идет дождь, он вдруг ощутил странный и в то же время знакомый запах и открыл глаза.
Едва уловимый аромат шоколада нежно просачивался сквозь решетку.
Исповедальня скрипнула. На той стороне кто-то силился найти нужные слова.
Старый священник подался вперед, сердце его заколотилось от изумления и замешательства.
— Да? — произнес он, замирая.
— Спасибо, — прошептал наконец кто-то.
— Прошу прощения?..
— Давным-давно, — слышался шепот, — вы помогли. Меня долго не было. В городе на один день. Увидел церковь. Спасибо. Вот и все. Ваш дар в кружке для пожертвований. Спасибо.
Быстро удаляющиеся шаги.
Священник впервые в своей жизни рванулся из исповедальни.
— Подожди!
Но невидимка уже исчез, высокий или маленький, худой или толстый… Церковь была пуста, вот и весь разговор.
Он помедлил в темноте около кружки для сбора в пользу бедных. Затем протянул руку. Там была большая плитка шоколада за восемьдесят девять центов.
«Однажды, отец, — зашептал давно забытый голос, — я принесу вам дар, освященный папой».
Так это то самое? Старый священник вертел в руках плитку, пальцы его дрожали. А почему бы и нет? Что может быть более подходящим?
Он увидел, как это было. В Кастель Гондольфо летним полднем пятитысячная толпа потных, прижатых друг к другу туристов — внизу, в пыли, а высоко над ними, на своем балконе, папа простирает руку для благословения. И вдруг среди суматохи, в этом море воздетых рук, одна смелая рука высоко поднимает…
И в руке этой сверкает завернутая в серебряную фольгу плитка шоколада.
Старый священник кивнул, не удивляясь ничему.
Он запер шоколад в особый ящик своего стола и иногда, уже годы спустя, позади алтаря, когда удушающая погода давила на окна, а отчаяние лилось сквозь замочные скважины, он доставал плитку шоколада и откусывал от нее — чуть-чуть.
Это, конечно, было не тело Христово, нет. Но это была жизнь. И жизнь была его. И в таких случаях, не частых, но все-таки, когда он отщипывал кусочек, она была на вкус (прости, Господи) — на вкус она была такой сладкой!
Перевод с англ. И. Софронова
И НОВИЗНОЙ ОНИ ГОНИМЫ
Я не был в Дублине несколько лет. Странствовал по всему свету, был везде, кроме Ирландии, и вот, часа не прошло с момента моего приезда в Ирландский Королевский отель, как зазвонил телефон.
О, Господи! Это сама Нора!
— Чарльз? Чарли? Лапочка? Ты разбогател наконец? А богатые писатели покупают сказочные замки?
— Нора! — рассмеялся я. — Ты когда научишься здороваться?
— Жизнь слишком коротка, чтобы здороваться, а сейчас нет времени даже чтобы как следует попрощаться. Ты мог бы купить Гринвуд?
— Нора, Нора, ваш фамильный дом, которому двести лет? А что тогда станет с ирландской светской жизнью, с вечерами, выпивками, сплетнями? Ведь ты не сможешь без этого жить!
— Смогу и сделаю. О, сейчас у меня целые чемоданы денег мокнут под дождем. Но, Чарли, Чарли, в доме одна я. Слуги удрали, чтобы помочь Аге. И в эту ночь, лапочка, мне нужен писатель-мужчина, чтобы взглянуть в глаза призраку. У тебя пятки еще не горят? Приезжай. У меня есть таинства и есть дом, который я собираюсь покинуть. Чарли, о голубчик, о Чарли.
Щелк. И тишина.
Через десять минут моя машина уже ревела по извилистой как змея дороге сквозь зеленые холмы к голубому озеру и мягким лугам, туда, где спрятался сказочный дом под названием Гринвуд.
Я снова рассмеялся. Милая Нора! Что бы она ни болтала, а скорее всего, намечалась вечеринка, очередной маленький катаклизм. Верти, наверное, прилетит из Лондона, Ник — из Парижа, Алиса, скорее всего, прикатит из Хайлуэя. В течение часа свяжутся с каким-нибудь кинопродюсером, который спустится на парашюте или на вертолете, этакий в меру потрепанный мэн в темных очках. Марион явится с труппой пекинессов, которые каждый раз напиваются и болеют потом больше хозяйки.
Мне стало весело, и я нажал на газ.
Примерно к восьми, подумал я, ты порядочно налижешься, а к полуночи тебя вытолкают спать, до полудня ты будешь дрыхнуть без задних ног, а за плотным воскресным ужином тебя накачают еще больше. Где-то между всем этим будет изысканная музыкальная игра, подобная старинной шкатулке, с ирландскими и французскими графинями и леди, а также с налетевшими из Сорбонны и поднаторевшими там в искусстве мужчинами.
В понедельник покажется, что прошло 10 миллионов лет, а во вторник я, слава Богу, буду возвращаться в Дублин, и мое тело будет подобно огромному полуразрушенному зубу мудрости. Я буду чересчур мудро вести себя с женщинами, а от воспоминаний во мне будет вспыхивать боль.
Я вздрогнул, когда вспомнил, как меня заманили к Hope впервые, когда мне было двадцать один год.
Сумасшедшая старая герцогиня с напудренными щеками и зубами как у морской щуки заставила маня мчаться в спортивном автомобиле по этой самой дороге пятнадцать лет тому назад. При этом она орала мне прямо у ухо:
— Тебе понравится Норин бродячий зверинец, и ее сад, и все, что там есть. Ее друзья — звери и лесничие, тигры и кошки, рододендроны и кендыри. В ее ручьях водятся рыбы с холодным телом и нежные форели. У нее есть огромные вольеры, где звери вырастают больше нормальных размеров, их подпитывают искусственным воздухом. Приезжайте к Hope Б пятницу, на чистые простыни, до понедельника вы будете закутаны во влажные, нежные, пропитанные целебными грязями пелены. Вы почувствуете, что за это время вдохнули настоящего воздуха, ваши щеки разрумянились, ваша душа расцвела и вообще что вы испытали истинный соблазн. Проклятие, Осуждение и Обвинение. Поживите у Норы, и вам покажется, что вы находитесь за теплой щекой огромного великана, вас будут ежечасно кормить, вас обманут, но сладок будет обман. Вас пропустят в дом в качестве одного из поставщиков провизии, и сами вы будете изысканнейшим яством. Но как только будет выпита последняя бутылка вашего кисло-сладкого вина, г. из ваших молодых сахарных косточек высосан мозг, вас выбросят на пустынную холодную железнодорожную платформу под дождь.
— Я что, покрыт энзимами? — перекрикивал я гул мотора. Ни одному дому не удастся распотрошить меня или сыграть на каких-то моих тайных пороках.
— Дурак! — засмеялась герцогиня. — В воскресенье, лишь солнце взойдет, все твои тайные пороки и тщательно скрываемые слабости будут как на ладони.
Я остановил воспоминания, как только выехал на живописный крутой спуск и притормозил. Красота природы заставляла ровнее биться сердце, успокаивала рассудок, замедляя ток крови, не позволяла давить на акселератор.
Там, под сине-озерным небом, рядом с небесно-синим озером, раскинулось фамильное Норино поместье, огромное, нежно любимое, именуемое Гринвудом.
Гринвуд уютно пристроился среди самых высоких деревьев, самые крутые холмы окружали его. Его башни были сооружены тысячу лет назад неизвестно кем, невоспетые архитекторы возвели их с давно позабытыми целями. Его сады расцвели впервые пятьсот лет назад. В результате какого-то созидательного катаклизма, произошедшего двести лет назад, среди древних склепов и гробниц возникли новые здания. Здесь был монастырский холл, превращенный в конюшню, новые флигели, выстроенные девяносто лет тому назад. По берегу озера лежали руины охотничьих замков, где одичавшие лошади могли окунуться в обманчивый сумрак над зацветшей водой все еще прохладных прудов, над заброшенными могилами дщерей человеческих, чьи языческие грехи и после смерти влекли их к девственной природе и бесследно растворяли в ее вечном мраке.
Словно приветствуя меня, солнце сверкало в десятках окон. Ослепленный, я выжал сцепление, надавил на тормоз, и машина остановилась. Зажмурив глаза, я облизнул губы.
Я вспомнил свою первую ночь в Гринвуде.
Нора сама открыла парадную дверь. Она была совершенно голая и сразу же заявила:
— Ты слишком поздно. Все уже закончилось.
— Ерунда. Держи-ка, парень, это, и это тоже.
Герцогиня тремя быстрыми движениями бесстыдно скинула одежду и теперь, словно обваренная устрица, жалась на холоде у дверей.
Я в ужасе замер, машинально стискивая в руках ее тряпки.
— Входи, мальчик, здесь ты обретешь смерть свою. — И голая герцогиня преспокойно удалилась к разодетым в пух и прах гостям.
— О, я проиграла мной же придуманную игру! — воскликнула Нора. — Теперь, чтобы отыграться, я должна снова полностью одеться. А я так хотела тебя поразить.
— Не расстраивайся, — ответил я. — Тебе это вполне удалось.
— Пойдем, поможешь мне одеться.
Мы очутились в нише среди беспорядочно разбросанной по паркетному полу одежды, издающей мускатный аромат.
— Подержи мои трусики, сейчас я их надену. Ты ведь Чарльз?
— Ну и как вы тут поживаете? — быстро спросил я и неожиданно для самого себя разразился смехом.
— Извини меня, — сказал я наконец, застегивая бюстгальтер у нее на спине. — Вечер только начался, а я впихиваю тебя в одежду. Я…
Где-то хлопнула дверь. Я повернулся, ожидая увидеть герцогиню.
— Ушла, — пробормотал я. — Дом поглотил ее.
И действительно, я не видел ее до того самого дождливого утра во вторник, в точности, как она и предсказывала. К тому времени она уже забыла мое имя, мое лицо и мою душу.
— О Господи, — произнес я. — Что это? А это что?
Нора все еще одевалась на ходу, когда мы подошли к двери в библиотеку. Гости были словно разделены гигантским зеркалом, казалось, одна группа была отражением другой.
— Это, — махнула рукой Нора, — балет из Манхэттена, они прилетели сюда на реактивном самолете. Слева — танцоры из Гамбурга, они летели в противоположном направлении. Божественный состав. Соперники в балете, они не в состоянии выразить взаимное презрение и сарказмы словами. Они вынуждены продолжать свою мышиную возню средствами пантомимы. Встань в сторону, Чарли. Валькирия должна превратиться в рейнскую служанку. А вон те парни уже и так рейнские служанки. Защищайте фланг!
Нора была права.
В бой влились новые силы.
Красные лилии громоздились одна на другую, взметая языки пламени, чтобы опасть, отступить и догореть. Хлопая дверьми, противники врывались в комнаты. То, что было ужасом, превращалось в ужасную дружбу, а дружба оборачивалась в жаркую, беззастенчивую, хотя, слава Богу, скрытую страсть.
Кроме того, на уик-энд обрушилась целая лавина писателей, художников, режиссеров, поэтов.
И я попался. Среди сплетения тел свободных молодых женщин я забыл о реальности, я вернулся в нее только в понедельник.
Прошло много времени, я пропустил множество вечеров, и вот я снова здесь.
Вот оно, это имение, вот оно, Гринвуд, и как же тихо вокруг… Не слышно музыки, не подъезжают машины. Ну, привет, подумал я. На берегу озера застыла новая статуя. Еще раз привет… Нет, это не статуя…
Это была сама Нора. Одна, ноги поджаты под платье, она неподвижным взглядом уставилась на Гринвуд, как будто я вовсе не приехал, как будто она меня не видела.
— Нора? — Но взгляд ее так неотрывно был устремлен на дом, на его тяжелую крышу, на окна, полные бездонного неба, что я тоже повернулся и уставился на него.
Что-то было не так. То ли дом ушел на пару футов в землю, то ли, наоборот, земля вокруг него осела, обнажив, словно сидящий на мели, вывешенный в прохладном воздухе фундамент.
Может быть, случилось землетрясение, и дом тряхнуло бесцеремонно, перекосив оконные рамы и дверные проемы.
Парадная дверь Гринвуда была распахнута настежь. И через эту дверь дом дохнул на меня. Странно и таинственно. Подобно тому, как иногда просыпаешься ночью и чувствуешь теплое дыхание жены. Ты хочешь ее встряхнуть, разбудить, зовешь по имени. Кто она, как, что? Но сердце срывается, и ты остаешься лежать в постели без сна, рядом с чужой, незнакомой женщиной.
Я сделал шаг. Я чувствовал свое отражение в тысяче окон, когда прошел по траве и встал рядом с Норой.
Тысячи «я» тихо сели.
Нора, подумал я. О Боже, вот мы и снова здесь.
Мой первый визит в Гринвуд…
В течение всех этих лет мы встречались то тут, то там, как люди, увлекаемые толпой. Как любовники на остановке, мы пожимали друг другу руки, или наши тела сжимала толпа, рвущаяся к открытым дверям. И потом, на улице, — ни единого прикосновения, ни единого слова… Ничего в течение многих лет.
Или же, как будто в жаркий полдень в разгар лета мы разошлись на берегу реки и ушли вниз и вверх по течению, не думая о том, что вернемся и наши судьбы встретятся. И вот закончилось еще одно лето, солнце зашло, и сюда пришла Нора, волоча пустое ведро, и я вернулся сюда с ссадинами и язвами на коленях. Пляж пуст, миновал еще один странный сезон, оставив нам возможность сказать друг другу: «Привет, Чарльз» «Привет, Нора». И поднялся ветер, море почернело, словно огромная стая осьминогов прошла мимо, оставив после себя чернильное облако.
Я часто думал, вот придет наконец день, когда мы, совершив долгий круг, вернемся к точке исхода и останемся. Может быть, лет двадцать тому назад и был такой момент, когда наши теплые дыхания с разных сторон надежно удерживали в равновесии нашу любовь, словно перышко на кончике пальца.
Это было, когда я наткнулся на Нору в Венеции, далеко от дома, далеко от Гринвуда, там, где она могла принадлежать кому угодно, даже мне. Но так или иначе, мы были слишком заняты друг другом и не успели произнести слова, которые сделали бы наш союз постоянным. И на другой день, дав отдых губам, уставшим от взаимных нападок, мы не сыскали в себе сил, чтобы сказать, что навсегда останемся вместе. И завтра, и послезавтра, снимем где-нибудь квартиру или купим дом, только не Гринвуд, больше никакого Гринвуда, никогда. Но то ли дневной свет был слишком жесток, высвечивая слишком много пустот в душах, то ли, что верней всего, капризным детям опять все наскучило.
А может быть, мы боялись тюрьмы для двоих? Какая бы причина ни была, перышко, удерживаемое в равновесии дыханиями шампанского, дрогнуло. И никто не знал, чье дыхание пресеклось первым. Нора сказала, что ей якобы пришла срочная телеграмма, и укатила в Гринвуд.
Наша связь распалась. Испорченные дети никогда не писали писем. Я не знал, какие песочные замки она разрушила. А она не знала, какие покрывала выцвели от любовного пота, выступавшего на моей спине. Я женился, потом развелся, потом слонялся по свету.
И вот мы снова приехали сюда, к знакомому озеру. Мы пришли из разных краев в этот странный день. Мы беззвучно взывали друг к другу, стремились друг к другу, не двигаясь с места, как будто и не расставались все эти годы.
— Нора, — я взял ее за руку. Рука была холодна. — Что стряслось?
— Стряслось?! — она рассмеялась, потом умолкла, отвернувшись. И вдруг снова рассмеялась срывающимся, надрывным смехом, который мог в любой момент перейти в рыдания.
— О, мой милый Чарли, мне лезут в голову дикие мысли о чем попало, я с криком просыпаюсь ночью, когда мне снятся кошмары. Стряслось, Чарли, стряслось!
Она вдруг испуганно умолкла…
— А где же слуги? Гости?
Она ответила:
— Вечер был вчера.
— Невероятно. Ты никогда не устраивала ночных гулянок по пятницам.
По воскресеньям по всей этой лужайке лежали несчастные, закутанные в постельное белье. В чем дело?
— Ты хочешь спросить, Чарли, зачем я тебя пригласила сюда сегодня? — Нора все еще смотрела на дом. — Чтобы передать тебе Гринвуд. Это подарок, Чарли, если ты найдешь в себе силы остаться здесь, если ты сможешь с этим примириться.
— Я не хочу этот дом! — взорвался я.
— О, дело не в том, хочешь ли ты его, дело в том, хочет ли он тебя. Он всех выставил, Чарли.
— Прошлой ночью?..
Последний вечер в Гринвуде не удался. Маг прилетел из Парижа, Ага прислала из Ниццы сочинительницу небылиц. Здесь были Роджер, Перси, Эвелин, Вивиан, Джон. Здесь был и тореадор, который чуть не прикончил драматурга из-за балерины. Ирландский драматург, который все время падал со сцены из-за того, что постоянно пьян, тоже был здесь. Вчера между пятью и семью часами девяносто семь гостей вошли в эту дверь. К полночи не осталось никого.
Я прошелся по лужайке.
Да, на траве еще остались следы трех десятков машин.
— Он не позволил нам устроить вечер, Чарльз, — тихо откликнулась Нора.
Я повернулся:
— Кто? Дом?
— О, музыка была прекрасна, но поднималась вверх глухими муторными волнами. Мы слышали, как наш смех призрачным эхом возвращался из верхних залов. Вечер был испорчен. Петифуры застревали у нас в горле. Вино стекало по подбородкам, никто не прилег в постель даже на три минуты. Это истинная правда. Каждому гостю дали на дорогу по мягкой меренге, и все уехали. А я спала всю ночь на лужайке, всеми покинутая. Отгадай почему? Пойдем, Чарли, посмотришь.
Мы подошли к парадной двери Гринвуда.
— На что я должен смотреть?
— На все. Осмотри все комнаты. Сам дом. Тайна. Попробуй разгадай. А после того, как в тысячный раз не отгадаешь, я тебе скажу, почему я больше никогда не смогу здесь жить и почему Гринвуд будет твоим, если захочешь. Иди один.
И я вошел, продвигаясь медленно, шаг за шагом.
Я шел, шел, тихо ступая по прекрасному львино-желтому деревянному паркету через огромный холл. Я вглядывался в стену, покрытую гобеленом. Я внимательно рассматривал древние античных медальоны из белого мрамора, лежащие на зеленом бархате под хрустальным колпаком.
— Ничего, — крикнул я Hope, которая ждала на прохладном осеннем воздухе.
— Нет. Смотри все, — отозвалась она. — Продолжай.
Я окунулся в теплую морскую глубину библиотеки, где стоял запах кожи, исходящий от вишневых, лимонных, сверкающих разноцветием потертых переплетов пяти тысяч книг. Блестели их яркие корешки и тисненые золотом названия. Над камином, громадным, как псарня для десятка гончих, висела чудесная работа Гейнсборо «Служанка и цветы», согревавшая семью в течение поколений. На ней была изображена дверь, распахнутая в лето. Так и хочется нагнуться и вдохнуть запах моря луговых цветов, коснуться девушек-работниц, собирающих персики, услышать гул пчел, жужжащих в чарующем воздухе.
— Ну что? — спросил голос снаружи.
— Нора! — позвал я. — Иди сюда. Здесь нет ничего страшного! Еще светло!
— Нет, — печально отозвался голос. — Солнце уже садиться. Что ты там видишь, Чарли?
— Я снова в холле. Витая лестница. Перила. В воздухе ни пылинки. Я открываю дверь в подвал. Миллион бутылок и бочек. Теперь кухня. Нора, ты просто сошла с ума!
— Да? — спросила она. — Возвращайся в библиотеку. Встань посередине комнаты. Видишь картину «Служанка и цветы», ту, которую ты всегда любил?
— Да, она на месте.
— Нет. Видишь серебряный флорентийский увлажнитель воздуха?
— Да, вижу.
— Нет, не видишь. Видишь большое кожаное кресло темно-бордового цвета, то, на котором ты любил сидеть, когда пил шерри с отцом?
— Да.
— Нет, — вздохнул голос.
— Да, нет. Да, нет. Довольно, Нора!
— Больше, чем довольно, Чарли. Ты не догадываешься? Ты не чувствуешь, что с Гринвудом что-то случилось?
Я с тоской повернулся, вдохнул странный воздух.
— Чарли, — сказала Нора там, на улице, у открытой парадной двери. — Четыре года назад, — тихо начала она, — четыре года назад… Гринвуд сгорел дотла.
Я кинулся прочь из дома.
Я нашел бледную Нору у двери.
— Что? — вскрикнул я.
— Сгорел дотла, — ответила она. — Полностью. Четыре года назад.
Я отступил на три шага от дома и посмотрел вверх на стены и окна.
— Нора, но он стоит. Вот он весь!
— Нет, это не он, Чарли. Это не Гринвуд.
Я дотронулся до серого камня, красного кирпича, зеленого плюща. Я пробежал пальцами по испанской резьбе парадной двери. Я выдохнул со страхом:
— Не может быть.
— Может, — сказала Нора. — Все новое. Все из подвального кирпича. Новое, Чарльз. Новое, Чарли. Новое.
— А эта дверь?
— Прислали из Мадрида в прошлом году.
— А эта панель?
— Ее отыскали под Дублином два года назад. Оконные рамы привезли из Ватерфорда этой весной.
Я шагнул в парадную дверь.
— А паркет?
— Изготовлен во Франции и переправлен сюда на корабле прошлой осенью.
— Но этот гобелен?
— Его соткали под Парижем и повесили в апреле.
— Но это все то же самое, Нора!
— Да? Я ездила в Грецию, чтобы сделать дубликаты мраморных безделушек. Хрустальный колпак тоже новый, его сделали в Реймсе.
— Библиотека?
— Каждая книга переплетена и отделана золотом в точности так же, как оригинал. И полки изготовлены заново. Для воссоздания одной только библиотеки понадобилось сто тысяч фунтов.
— Все прежнее, все то же самое, Нора, — воскликнул я в удивлении, — О Господи, все то же самое.
Мы вошли в библиотеку, и я указал на серебряный флорентийский увлажнитель.
— А это, конечно, было спасено от огня?
— Нет-нет, я же немножко художница. Я сделала набросок по памяти, отвезла рисунки во Флоренцию. И в июле они закончили изготовление этой подделки.
— А «Служанка и цветы»? Гейнсборо?
— Присмотрись повнимательней! Это работа Фритси. Фритси, этого кошмарного художника с Монмартра, работающего в быстросохнущем стиле. Битник несчастный, он швыряет краски на полотно, а потом оставляет его, как бумажного змея под небом Парижа. Ветер и дождь создают за него произведение искусства, которое он продает потом за бешеную цену. Как выяснилось, этот фристи — тайный фанатичный поклонник Гейнсбора. Он убил бы меня, если бы узнал, что я кому-нибудь рассказала. Он написал «Служанок» по памяти, здорово?
— Здорово, здорово… О Боже, Нора, неужели ты говоришь правду?
— Как бы я хотела, чтобы это не было правдой! Чарльз, ты думаешь, я сумасшедшая? Конечно, ты можешь так думать. Ты веришь в добро и зло, Чарли. Я не привыкла над этим задумываться. Но теперь совершенно неожиданно я постарела и потеряла имущество. Мне стукнуло сорок, и стукнуло больно, как будто локомотивом. Ты знаешь, что я думаю?.. Дом сам себя разрушил.
— Что?
Она пошла по залам, в которых с наступлением сумерек начали сгущаться тени.
— Когда мне исполнилось восемнадцать и я только получила наследство, то если люди говорили мне: «Грех», я отвечала: «Вздор». Они кричали: «Совесть». Я смеялась: «Пьяная блажь!» Но в те дни бочка для дождевой воды была пуста. С тех пор выпало много странных дождей, они собрались во мне, и к моему холодному удивлению, однажды я обнаружила, что до краев полна старыми грехами, и уже сознаю, что существуют и совесть, и грех.
Во мне живет тысяча молодых людей, Чарльз.
Они доверились мне и похоронили себя. Когда они уезжали, я решила, что они исчезли навсегда. Но нет, нет. Теперь я уверена, что все они подобно иглам или отравленным шипам застряли в моей плоти, в этой точке или в той. Боже, Боже, как я любила их острия, шипы. Боже, как я любила, когда меня кололи или ставили синяк. Но теперь-то я знаю, что я вся в отпечатках пальцев. Ни один дюйм моей плоти не живет собственной жизнью, Чак. Но я не картотека ФБР, где собраны отпечатки пальцев, и я не собирательница стигматов, какие были в Древнем Египте. По мне наносили удары тысячи мальчишек, и я думала, что я не кровоточу, но, о Господи, сейчас я истекаю кровью. Я запятнала своей кровью весь этот дом. Мои друзья, те, которые отрицали Грех и Совесть, по лабиринтам вздымающейся плоти проникли сюда, трясли друг друга, хватали губами, с пристрастием допрашивали на полу, их агонии и падения, словно картечью, били на стенам. Дом кишел убийцами, Чарли, и каждый из них пытался расправиться с одиночеством другого своим коротким мечом. Ни один из них не пытался это прекратить. Они лишь стонали, когда изредка удавалось расслабиться.
Я не думаю, Чарльз, что здесь хоть кто-нибудь, хоть один человек был счастлив. Теперь мне это ясно.
О, ведь все выглядело таким счастливым. Когда вы слышите так много смеха, видите так много выпивки, когда в каждой постели по парочке, а десерт сладок, розов, бел и воздушен, вы думаете: «Как весело! Как здорово!»
Но это ложь, Чарли, мы с тобой это знаем. Дом упивался этой ложью в мое время, а до этого во времена моего отца и деда. Убийцы ранили друг друга в течение двухсот лет. Стены обветшали. Дверные ручки стали липкими. Лето на картине Гейнсборо постарело. А убийцы приходили и уходили, Чарльз, оставляя в этом доме свои грехи и память о них.
А когда наглотаешься слишком много всякой дряни, Чарльз, ведь тебя обязательно вырвет, не так ли?
Вся моя жизнь является средством, вызывающим тошноту. Меня тошнит от моего прошлого.
Так же, как и этот дом.
И наконец, давясь собственными грехами, лежа ночью в постели без сна, услышала, как старые грехи, скопившиеся здесь, трутся друг о друга в постелях, шуршат на чердаке. И затлело, и огонь охватил дом. Я услышала огонь, когда занялась библиотека и он стал пожирать книги. Потом в подвале он накинулся на вино. К тому времени я уже выбралась в окно, спустилась на лужайку по плющу и стояла там вместе со слугами. В четыре часа утра у нас на берегу озера был небольшой пикник с шампанским и пирожными из сторожки. Пожарная команда приехала из города в пять и как раз застала, как рушатся крыши и в облаках при побледневшей луне исчезают искры большого пожара. Мы угостили их шампанским и вместе смотрели, как Гринвуд окончательно умирает. На рассвете от него ничего не осталось.
Он должен был уничтожить себя, верно, Чарли, от меня и от моих людей было столько зла.
Мы стояли в холодном холле.
Наконец я пришел в себя и сказал:
— Я думаю, что да, Нора.
Мы прошли в библиотеку. Нора достала синьки и множество блокнотов.
— Именно тогда, Чарли, меня охватило вдохновение. Выстроить Гринвуд еще раз. Восстановить картинку-головоломку. Феникс возродится из пепла. И никто не узнает о его смерти от тошноты. Ни ты, Чарли, ни кто-либо из друзей. Пусть об этом не узнает никто в мире. Моя вина в его разрушении была велика. Какое счастье быть богатой. Ты можешь подкупить пожарную команду шампанским и сельские газеты четырьмя дипломатами джина. Весть о том, что Гринвуд превратился в пепел, не распространилась ни на милю. Потом когда-нибудь миру об этом расскажут. А сейчас? Работать! И я устремилась в Дублин к агенту фирмы, которая делала для отца архитектурные наброски, разрабатывала детали интерьера. В течение нескольких месяцев я сидела с секретарем, обговаривая греческие светильники, римскую черепицу. Я зажмурилась и воссоздавала каждый дюйм коврового ворса, каждую кисточку бахромы, каждый квадратик потолка в стиле барокко, все, все украшения ручной работы, каминные решетки, штепсельные розетки, балки потолка. И когда список из тридцати тысяч наименований был составлен, я привезла плотников из Эдинбурга, мастеров по черепичным крышам из Сены, резчиков по камню из Перу и они в течение четырех лет колотили, резали, устанавливали, а я дежурила на фабрике под Парижем, где «пауки» ткали мне гобелен и ковры на пол. Я ездила в Ватерфорд, чтобы посмотреть, как для меня выдували стекло.
О, Чарльз, я думаю, что за всю историю человечества никогда не было, чтобы кто-нибудь восстанавливал разрушенную вещь в первозданном виде. Пусть не для меня, думала я, но Гринвуд вновь поднимется и будет таким, каким был раньше. Но, хотя он будет выглядеть так же, как старый Гринвуд, у него будет преимущество — он будет абсолютно новым. Свежее начало, думала я. И, занимаясь его строительством, я вела тихую жизнь, честное слово, Чарльз. Работа — это уже приключение.
Когда я достроила дом, я подумала, что достроила и себя. Когда приветствовала его возрождение, я с радостью приветствовала и саму себя. Наконец-то, думала я, счастливый человек приезжает в Гринвуд.
И вот две недели назад дом был закончен, вырезан последний барельеф, уложена последняя черепица.
И я разослала приглашения по всему свету, Чарли, и прошлой ночью все они приехали. Гордость Нью-Йорка, мечта охотников за знаменитостями, пахнущие плодами с древа Святого Иоанна, соль земли. Команда мальчиков из Афин. Негритянский балет из Иоганнесбурга. Семнадцать скрипачек, которые стали еще восхитительней, когда отбросили скрипки и юбки заодно. Три то ли бандита, то ли актера с Сицилии. Четыре чемпиона игры в поло. Один теннисист-профессионал, который обещал перетянуть мои ракетки. Милый поэт из Франции.
О Боже, Чарльз, это должно было быть грандиозное открытие заново штата Феникс, владелица Нора Гриндон. Откуда же мне было знать, что дом не захочет нас принять.
— А может дом хотеть или не хотеть?
— Да, когда он очень новый, а все остальные, в зависимости от своего возраста, очень старые. Он был рожден заново, а мы заплесневели и умирали. Он был добром. А мы злом. Он хотел сохранить невинность. И он нас выгнал.
— Как?
— Просто будучи самим собой. В нем было тихо, Чарли, ты не поверишь. У нас у всех было такое ощущение, что кто-то умер.
Спустя некоторое время это почувствовали все, хотя никто вслух и не сказал ничего. Они просто сели в машины и уехали. Оркестр свернул музыку и укатил в десяти лимузинах. Все растянулись по дороге, что ведет вокруг озера, как будто направлялись на ночной пикник, но нет, они бежали кто в аэропорт, кто в морской порт. И все были холодны, никто не разговаривал. Дом опустел, слуги укатили на своих велосипедах, я осталась в доме одна, последний вечер закончился. Вечер, которого в сущности так и не было, который никогда и не начинался. Как я уже говорила, всю ночь я проспала на лужайке, наедине со своими старыми мыслями. И я думала, что это конец всех этих лет, что я — это прах, а прах не может строить. Этот дом был подобен новорожденной прекрасной птице, лежащей в темноте наедине с собой. Эта птица ненавидела мое дыхание. Я умерла, а она родилась в моем прахе.
Мы долго сидели молча, пока не начало темнеть и сумерки не залили комнаты, обозначив глазницы окон. Ветер подернул озеро рябью.
Я сказал:
— Все это не может быть правдой. Конечно же, ты можешь спокойно оставаться здесь.
— Последнее испытание, и ты не будешь больше спорить. Мы попытаемся провести здесь ночь.
— Попытаемся?
— Мы не дотянем до рассвета. Давай поджарим несколько яиц, выпьем вина и пораньше ляжем спать. Но ложись прямо на покрывало, не раздеваясь. Я думаю, тебе очень скоро понадобится одежда.
Мы поели почти молча. Выпили вино. И слушали, как новые часы в новом доме отбивали новое время.
В десять часов Нора отправила меня в мою комнату.
— Не пугайся, — крикнула она мне с лестничной площадки. Дом не желает нам вреда. Он просто боится, что мы причиним ему вред. Я буду читать в библиотеке. Когда ты будешь готов уйти, неважно, в каком часу, зайди за мной.
— Я буду спать, как тюлень, — ответил я.
— А будешь ли? — спросила Нора.
Я отправился в свою новую постель, лежал в темноте и курил, не чувствуя ни страха, ни уверенности в себе. Просто спокойно ждал, что же все-таки произойдет.
Я не спал до полуночи.
В час я тоже не спал.
В три я лежал с широко раскрытыми глазами.
Дом не скрипел, не вздыхал, не бормотал. Он ждал, так же, как и я, дыша в такт моему дыханию.
В 3.30 дверь в мою комнату медленно отворилась. Это было просто движение чего-то темного во мраке. Я почувствовал, как по рукам и лицу пробежал сквозняк.
Я медленно сел в темноте.
Прошло пять минут. Сердце билось медленнее обычного.
Потом я услышал, как где-то далеко внизу открылась парадная дверь. И снова ни скрипа, ни шепота. Лишь щелканье и теневое движение ветра в коридорах.
Я встал и вышел в холл.
С лестницы я увидел то, что и ожидал, — открытую парадную дверь. Лунный свет струился по лунному паркету и освещал новые дедовские часы, которые были хорошо смазаны и отчетливо тикали. Я спустился вниз и вышел в парадную дверь.
— Вот и ты, — сказала Нора. Она стояла около моей машины.
Я подошел к ней.
— Ты не слышал ничего и все-таки ты что-то слышал, верно? — спросила она.
— Верно.
— Чарльз, теперь ты готов уехать?
Я оглянулся на дом: «Почти».
— Теперь ты знаешь, что все кончено, так? Наверное, ты чувствуешь, что наступает рассвет нового дня? И послушай мое сердце, родной, в нем едва треплется кровь, и она такая черная, Чарльз. Ты ведь часто слышал, как оно билось под твоим телом, ты понимаешь, как я постарела теперь. И знаешь, как я переполнена подземными тюрьмами, решетками и голубыми французскими сумерками. Что ж…
Нора посмотрела на дом.
— Прошлой ночью, когда я лежала в постели в два часа утра, я услышала, как открылась парадная дверь. Я знала, что весь дом просто немного наклонился, чтобы освободить щеколду и дверь могла широко отвориться. Я вышла на лестницу, посмотрела вниз и увидела, как свежий лунный свет залил холл и весь дом. Вот отгадка. Ступая по этим лунным сливкам, по молочной тропинке и иди отсюда прочь, ты, старуха, иди и уноси свой мрак. Ты беременна. В твоем животе прокисшее, липкое привидение. Оно никогда не родится. А так как ты не можешь его извергнуть из себя, однажды оно станет причиной твоей смерти. Чего ты ждешь?
Чарльз, я боялась спуститься вниз и закрыть дверь. Я знала, что все это правда и я никогда здесь больше не усну. Поэтому я спустилась и вышла.
У меня есть уютное старое грешное местечко в Женеве. Я поеду туда жить. А ты моложе и чище меня, Чарльз, и я хочу, чтобы это место стало твоим.
— Не так уж я и молод.
— Моложе меня.
— И не так уж чист. Он хочет, чтобы я тоже уехал, Нора. Дверь в мою комнату, она тоже открывалась.
— О, Чарли, — вздохнула Нора, дотронувшись до моей щеки, — О, Чарльз, — и тихо добавила: — Я виновата.
— Нет. Мы уедем вместе.
Нора открыла дверцу машины.
— Я должна ехать. Сейчас, немедленно, в Дублин. Ты не против?
— Нет. А где твой багаж?
— Пусть все останется там, в доме. Куда ты?
Я остановился:
— Я должен закрыть парадную дверь… люди войдут.
Нора тихо рассмеялась:
— Да, но только хорошие люди. Пусть так и будет, верно?
Я наконец кивнул:
— Да, верно.
Я вернулся к машине, мне не хотелось уезжать. Собирались облака. Начинался снег. Большие мягкие белые хлопья падали с лунного неба. Они казались такими же нежными и безвредными, как сплетни ангелов.
Мы сели в машину, хлопнули дверцами. Нора завела мотор.
— Готов? — спросила она.
— Готов.
— Чарли, когда мы приедем в Дублин, ты будешь спать со мной. Я хочу сказать, ты не покинешь меня, хотя бы несколько дней. Мне будет необходим кто-нибудь в эти дни. Будешь?
— Конечно.
— Я хочу, — начала она. И глаза ее наполнились слезами. О Боже, как я хочу, чтобы можно было сжечь себя и возродиться заново. Сжечь себя так, чтобы я могла сейчас подойти к дому, войти в него и жить, хотя бы как служанка. Но, черт возьми, что проку об этом говорить.
— Поехали, Нора, — мягко сказал я.
Она включила передачу, и мы выехали из долины, поехали вдоль озера, гравий щелкал под покрышками, мы ехали дальше в горы, сквозь заснеженный лес, и когда мы добрались до последнего подъема, слезы у нее высохли, она ни разу не обернулась назад, мы ехали со скоростью семьдесят миль в час сквозь плотную и густую ночь к набухшему темнотой горизонту и холодному каменному городу. Всю дорогу мы не проронили ни слова и я ни на минуту не выпускал ее руку.
Перевод с англ. Л. Терехиной, А. Молокина
МОТЕЛЬ ВЕЩЕЙ КУРИЦЫ
Это происходило во времена кризиса, в самый опустошительный его период в 1932 году. Мы направлялись на запад в бьюике 1928 года выпуска, и именно тогда моя мать, отец, брат Скип и я наткнулись на то, что мы впоследствии называли «Мотель Вещей Курицы».
Как сказал отец, это был мотель прямо-таки из эпохи вдохновений. В этом мотеле жила одна необычная курица. Подобно тому, как какая-нибудь фанатичка мучительно корчится, пророчествуя о Боге, Времени и Вечности, пытаясь облечь свои открытия в слова, эта курица не могла удержаться от подобных же открытий и не записывать их на скорлупе снесенных ею яиц.
Некоторые существа обладают одним умением, другие — другим. Но куры являют собой величайшую бессловесную и безмозглую тайну среди всех других тварей. Особенно куры, которые сочиняют и, движимые инстинктом, пишут красивым ровным почерком послания на скорлупе своих яиц, в то время как плод их конвульсивных усилий мирно спит.
Той долгой осенью 1932 года, когда мы подкачивали шины, накидывали ремни безопасности, словно заблудившиеся члены ордена Подвязки, и мчались по Хайвэй-66, нам и в голову не приходило, что где-то впереди нас ждет этот мотель и такая удивительная курица.
Кстати, в нашей семье царила атмосфера дружелюбного неуважения. Мы с братом считали, что все карты в наших руках и что мы понимаем в них, безусловно, больше, чем отец. Отец был уверен, что знает больше матери, а мать не сомневалась, что является мозговым центром всей нашей компании.
Но это к лучшему.
Я хочу сказать, что если в семье существует дружелюбное взаимное неуважение, то она, может быть, никогда и не распадется. При условии, конечно, что у такой семьи имеется объект для совместных нападок, который ее как бы подпитывает. Но как только такой объект исчезает, распадается и семья.
Таким образом, мы ежедневно выползали из постелей, и у нас хватало терпения дождаться пережаренного бекона и недожаренной яичницы, чтобы услышать от кого-нибудь за столом очередную гадость. Что гренки слишком темные или светлые. Что джема хватит только на одного человека. Или приправа была такой, которую двое из четверых членов нашей семьи терпеть не могли. Если отец заявлял, что он все еще растет, мы со Скипом бросались за рулеткой, чтобы доказать, что за ночь он усох. Такова человеческая натура. Такова природа. Такова семья.
Но, как я сказал, мы ехали по Иллинойсу, ссорились, брюзжали среди россыпей осенней листвы. В Озарке мы прекратили перепалку и целых десять минут любовались огненными красками осени. Потом, проехав Канзас и Оклахому, беспрестанно ссорясь и скандаля, мы, оставив глубокие следы в дорожной глине, свернули с основной дороги и поехали в объезд. Тут каждый мог превозносить себя и обвинять других в том, что на дорогах колдобины, знаки плохо нарисованы, а тормоза нашего старого бьюика порядком поизносились. Выбравшись из канавы, мы едва затормозили у края глубокой каменоломни, на дне которой наши тела могли бы отыскать спустя несколько лет, не раньше.
Мы провели ночь в большом бунгало, словно бандиты в засаде, считая капли дождя, падающие с худой как решето крыши, и стаскивая друг с друга одеяло.
Следующий день был еще хлеще. Из дождя мы угодили в 100-градусную жару, которая высосала из нас все соки. И это не считая нападок отца на Скипа, рикошетом попадающих в меня. К полудню мы отказались от политики молчаливого взаимного презрения и с новой энергией, несмотря на то, что вымотались до предела, перешли к привычным оскорблениям. Как раз в тот момент мы подъехали к птицеводческой ферме по Амарилло, Техас.
Мы сразу же навострили уши.
Почему?
Да потому, что цыплятам, чтобы они убрались с дороги, наподдают так же, как члены семьи поддевают друг друга.
Мы видели, как старик, идя к машине, улыбаясь, поддел ногой петуха. Мы все кивнули ему. Он наклонился, чтобы сказать, что сдает комнаты по 50 центов за ночь. Довольно-таки низкая цена. Из-за запаха, конечно.
Куда только девалась чопорность отца, на смену ей пришла доброжелательность, как будто это было действительно первоклассное место. Он вывернул шоферскую кепку и отсчитал в нее 50 центов монетами по 5 центов.
Мы не разочаровались в ожиданиях. Комната, в которую мы въехали, оказалась буквально высшего класса. Дело было не только в том, что, когда мы ложились спать, все матрасные пружины впивались нам в бока. Все вокруг страдало хронической неустроенностью. Его стены, думаю, до сих пор не оправились от криков тысяч постояльцев, валившихся на вонзающиеся в бока пружины с воплями: «Черт побери!»
От стоящей там вони некоторые компании дикарей померли прямо на месте. Здесь пахло фальшивой искренностью, а похоть выдавала себя за любовь. Ветер сквозил между половицами и нес запах цыплят, коротавших ночи в бунгало. Цыплята свихивались от того, что склевывали самогон, капающий сквозь дырявый, мокрый линолеум.
В общем, улучив момент, мы с братом улизнули подальше от этих удобств и тайком позавтракали свининой и бобами с белым олеомаргарином, который мы наперегонки размазывали по тарелке. Потом мы обнаружили где-то неподалеку заброшенный ручей и для успокоения нервов бросили там друг в друга камнями. Вечером того же дня мы направились в город, зашли в кафе и, раздобыв сальную ложку, расправились со сверчками, которые норовили искупаться нагишом в супе. За десять центов мы посмотрели кино с участием гангстера Джеймса Кагни, после чего направились в сторону птицефермы, весьма довольные всем содеянным и всей эпохой Депрессии, которая казалась прошедшей и забытой.
В 11 часов ночи в Техасе было так жарко, что от жары все проснулись. Хозяйка, хрупкая женщина, словно изъеденная эрозией, но сохранившая слабый огонек в запавших глазах, вышла из дома, чтобы посидеть и посудачить о 18 миллионах безработных, о том, что будет дальше, куда мы катимся и что сулит нам будущий год.
Это были первые часы прохлады за весь день. Свежий ветер дохнул из завтрашнего дня. Мы успокаивались. Я посмотрел на брата, он — на мать, мать — на отца. Мы были семьей, неважно какой, но семьей. И этим вечером мы были вместе и вместе шли куда-то.
— Ну… — Отец достал дорожную карту, развернул ее и показал хозяйке помеченные красными чернилами места, словно эта территория принадлежала нам четверым. Как будто мы знаем, что делать, чем питаться и как спать, чтобы не видеть снов.
— Завтра, — он указал на карту желтым от табака пальцем, — мы будем в Тамстоуне. Потом Таксоне. В Таксоне мы задержимся и попробуем найти работу. У нас хватит денег, чтобы прожить там две недели, если, конечно, экономить. Не найдем работы там, поедем дальше в Сан-Диего. У меня там на верфях в таможне работает двоюродный брат. Мы рассчитываем пробыть неделю в Сан-Диего, три в Лос-Анджелесе. И у нас денег останется только, чтобы добраться до дома, в Иллинойс, а там придется жить на пособие по безработице. Или, кто знает, может быть, я снова получу работу в энергоосветительной компании, которая уволила меня шесть месяцев назад.
— Понятно, — сказала хозяйка.
И ей действительно было понятно, потому что 18 миллионов безработных уже проезжали по этой дороге, останавливались здесь, а потом ехали куда-то, куда-нибудь в никуда, а потом возвращались в никуда, куда-то, куда-нибудь, откуда они сначала уехали. А поскольку они нигде не были нужны, то так они и скитались.
— Какую работу вы ищете? — спросила хозяйка.
Это было издевательством. Она сообразила только после того, как спросила. Отец подумал и засмеялся. Засмеялась м мать. Засмеялись и мы с братом. Мы смеялись все вместе.
Ведь никто не спрашивал, какая работа нужна, просто нужно было найти работу, работу без названия, работу, вообще, чтобы можно было платить за газ и продукты, а может быть, при случае, покупать и мороженое. Кино? Можно было бы раз в месяц посмотреть и кино. Как бы там ни было, мы с братом все-таки проникали в кинотеатр. Через служебный вход, через боковые двери, подвалы, оркестровые ямы, балконы… Никто не мог остановить нас, не дать посмотреть субботние дневные сеансы, разве что сам Адольф Менжо.
Мы переставали смеяться. Почувствовав, что пришло время что-то сделать, хозяйка вышла и вернулась через несколько минут. Она принесла две небольшие коробки из серого картона. Она несла их так, что сначала мы подумали, что в них фамильные драгоценности или прах любимого дядюшки. Она села, держа эти коробки на покрытой фартуком руке, некоторое время слегка прикрывая их ладонью. Она выжидала, у нее был врожденный драматический талант, ведь большинство людей отлично знают, что, если в замедленном темпе изображать самые незначительные события, они покажутся куда более значительными.
И странно, мы были тронуты молчанием этой женщины, какой-то отрешенностью в ее лице. На этом лице отразилась жизнь, состоящая из одних потерь. Это было лицо, на котором плакали никогда не рожденные дети. Или были рождены, но умерли и были похоронены не в земле, а в ее плоти. А может быть, дети родились, выросли, разметались по всему свету и не писали. Это было лицо, на котором отразились ее собственная жизнь, жизнь ее мужа, ранчо и бесконечная борьба за выживание. Жестокое дыхание Бога могло выдуть ее рассудок, но каким-то образом ее душа еще теплилась, удерживаемая стремлением выжить. И разве можно было не задержать взгляд на таком лице, отразившем так много потерь, но все-таки озаренном слабым огоньком надежды. Надежды, которую можно было почерпнуть только в самой себе.
Хозяйка осторожно держала коробки и приоткрыла маленькую крышку одной из них.
И внутри этой первой коробки…
— Но это всего лишь яйцо… — сказал Скип.
— Посмотри внимательнее, — возразила она.
И мы взглянули поближе на это свежее белое яйцо, которое покоилось на ложе из ваты.
— Э-э… — произнес Скип.
— Да, — прошептал я. — Вот это да. — Посередине яйца торчал миниатюрный череп и рога техасского быка, словно оно треснуло в результате какого-то таинственного явления природы.
Череп и рога были такими красивыми, как будто ювелир, добавив кальций в состав скорлупы, выточил их на диво всему свету. Любой мальчишка с гордостью носил бы такое яйцо на шее на шнурке или отнес его в школу на зависть приятелям.
— Это яйцо, — произнесла наша леди, — было снесено с таким украшением ровно три дня назад.
Наши сердца защемило. Мы открыли рты и хотели сказать:
— Это…
Она закрыла коробочку, а вместе с ней закрылись и наши рты. Потом, глубоко вздохнув, полуприкрыла глаза и открыла крышку второй коробочки.
Скип воскликнул:
— Честное слово, я знаю, что…
И его догадка была верна.
И во второй открытой коробочке лежало крупное белое яйцо.
— Вот, — произнесла леди, владелица мотеля и птицефермы в центре земли, под небом, уходившим за горизонт, где тоже была земля и тоже небо…
Мы склонились над коробочкой, прищурившись.
Потому что на этом яйце на белой скорлупе были написаны слова, как будто нервная система зародыша впитала слышные только ей разговоры и перенесла их на скорлупу. И вот на скорлупе появились эти слишком ровные строчки, которые больно читать.
Вот что было написано на яйце:
«Утешьтесь. Хорошие времена не за горами».
Тут стало очень тихо.
Мы уже пытались расспрашивать про первое яйцо. Наши рты опять широко раскрылись, чтобы спросить:
— Как мог цыпленок, такой маленький, делать записи на скорлупе? Может, на курицу повлияло что-то извне? Неужели Бог использовал такое ничтожное творение, как яйцо, в качестве планшетки для спиритических сеансов, чтобы писать на ней пророчества?
Но, взглянув еще раз на второе яйцо, мы онемели и закрыли рты.
«Утешьтесь. Хорошие времена не за горами».
Отец не мог оторвать от яйца глаз. И никто из нас не мог этого сделать. Наконец наши губы зашевелились, беззвучно повторяя эти слова.
Отец снова взглянул на хозяйку.
Она тоже посмотрела на него, и взгляд у нее был такой же спокойный, уверенный и четкий, как широкие равнины, горячие, сухие и пустые. В этом взгляде отражались все пятьдесят лет, облетевшие, как лепестки увядшего цветка. Она не жаловалась, не объясняла. Она нашла яйцо под курицей. Вот оно, это яйцо. Посмотрите на него, говорило ее лицо. Прочтите эти слова. Потом, пожалуйста… прочтите их еще раз.
Мы вдыхали и выдыхали.
Наконец отец повернулся и ушел. У двери он обернулся, и глаза его быстро-быстро заморгали. Он не поднял руки к глазам, они были мокрые, яркие и нервные. Потом он вышел за дверь, спустился по лестнице и пошел между старыми бунгало, засунув руки глубоко в карманы.
Мы с братом смотрели на яйцо до тех пор, пока хозяйка не закрыла крышку. Потом поднялась и пошла к двери. Мы молча последовали за ней.
На улице мы нашли отца. Он стоял около проволочного забора, солнце уже село, а луны еще не было.
Мы смотрели на десяток тысяч цыплят, они носились стаями то туда, то сюда. Их внезапно охватила паника. То ли ветер был тому виной, то ли тени облаков, а может, их напугал лай собаки где-то в прерии или шум машины, одиноко двигающейся по раскаленной дороге.
— Там, — сказала хозяйка. — Она там. — И она указала на море клохчущих кур.
Мы видели тысячи толкающихся птиц, слышали тысячи внезапно возникающих и так же смолкающих птичьих голосов.
— Вот она, моя маленькая, вот она, моя драгоценная. Видите?
Она упорно указывала рукой, медленно перемещая ее, на одну курицу среди десятка тысяч других. И где-то в этом возбужденном, клохчущем море…
— Не правда ли, она великолепна! — спросила хозяйка.
Я взглянул, встал на цыпочки вглядывался до боли в глазах.
— Вон! Вон она, кажется, я вижу… — кричал брат.
— Та белая, — твердила хозяйка, — с рыжими крапинками.
Я посмотрел на нее. Лицо у нее было очень серьезным. Она знала свою курицу. Она знала свою любимицу, даже если мы не могли ее различить среди других, тем не менее, курица была там, она существовала, как мир и небо, как что-то маленькое в чем-то большом.
— Там, — сказал брат и замешкался, смущенный, — Нет, там. Нет, подождите, вон там!
— Да, — подтвердил я. — Я вижу его!
— Вы хотите сказать ее!
— Ее! — ответил я.
И на какое-то мгновение мне показалось, что я действительно вижу одну курицу среди множества других, одну большую птицу, которая была белее остальных, крупнее, счастливее и проворней остальных. Она казалась более резвой и гордой, чем другие куры. Словно бы море существ расступилось перед нашим библейским взглядом, чтобы явить нам, только одним, под лунным светом на теплой траве единственную птицу, замершую на мгновение, чтобы вновь смешаться с остальными, как только из прерии донесется лай собаки или треснет винтовочный выстрел с проезжающей по дороге машины.
— Вы видели? — спросила хозяйка, держась за проволочную изгородь и отыскивая свою любовь среди куриного моря.
— Да. — Я не мог видеть лицо отца, серьезным оно было или он сам себе улыбался. — Я видел.
Отец с матерью возвратились в наше бунгало.
А хозяйка, Скип и я еще, по крайней мере, десять минут оставались у изгороди, не разговаривая и никуда не указывая рукой.
Настало время отправляться спать.
Я лежал рядом со Скипом, не закрывая глаз. Я вспоминал другие ночи, когда отец и мать разговаривали о взрослых вещах, а мы их слушали. Мама озабоченно спрашивала, а отец отвечал тихо, спокойно и очень уверенно. Горшок золота, место, где кончается радуга, земля, где молочные реки с медовыми берегами. Я в это не верил. Мы много скитались и слишком много видели, чтобы я мог в это поверить… Но…
Когда-нибудь придет мой корабль.
В это я верил.
Когда я слышал, как отец это говорит, на мои глаза наворачивались слезы. Я видел такие корабли летним утром на озере Мичиган, когда они везли людей, возвращающихся с карнавала. Много веселых людей, в воздухе конфетти, рога трубят. А в снах, которые я смотрел на стене моей спальни, как на киноэкране, которые снились мне много ночей подряд, на причале стояли мать, отец, Скип и я. А корабль, огромный, белый, как снег, причаливал, и миллионеры с верхней палубы бросали в воздух не конфетти, а банкноты и золотые монеты, которые дождем сыпались вниз, а мы прыгали, пытаясь их поймать, кричали «Ух!», когда монеты попадали нам по ушам, или смеялись, когда нас ласкал снежный шквал банкнот…
Мама спрашивала. Отец отвечал.
А ночью мы со Скипом все в том же сне шли на причал и ждали.
И этой ночью, долго лежа в постели без сна, я спрашивал:
— Отец, что это значит?
— Что Это? — спросил отец из темноты.
— Эта надпись на яйце. Она означает тот корабль? Он скоро придет?
Долго было тихо.
Потом отец сказал.
— Да, это именно так. Спи, Дуг.
— Да, сэр.
И я отвернулся, глотая слезы.
Мы выехали из Амарилло на следующее утро в шесть часов, чтобы успеть до жары. Весь первый час мы не произнесли ни слова, мы просто еще не проснулись. А весь второй час мы молчали, потому что думали о прошедшей ночи. Наконец кофе разогрело отца изнутри, и он произнес:
— Десять тысяч.
Мы ждали, что он скажет дальше, и он сказал, медленно покачав головой:
— Десять тысяч бессловесных птиц. И какой-то из них из ниоткуда приходит в голову мысль нацарапать нам записку.
— Отец, — произнесла мать. И интонации в ее голосе вопрошали: — Ты на самом деле веришь?
— Да, отец, — сказал мой брат тем же голосом, с той же долей иронии.
— Здесь есть над чем подумать, — ответил отец. Его глаза смотрели на дорогу, руки на руле лежали свободно, он правил легко, ведя нашу машину через пустыню. За горой была еще гора, за той — еще одна, и что же было в конце?
Мама заглянула отцу в лицо, и у нее не хватило решимости назвать его по имени именно сейчас. Она перевела взгляд на дорогу и едва слышно прошептала:
— Куда-то она нас приведет?
Отец круто развернулся в направлении Уайт Сэндз, прокашлялся, протер ветровое стекло и, вспоминая, произнес:
— «Утешьтесь. Хорошие времена не за горами».
Некоторое время мы ехали молча. Потом я спросил:
— Сколько… мм… сколько… стоит такое яйцо, отец?
— Такую вещь человек не в состоянии купить, — ответил он, не оборачиваясь. Он ехал только вперед, к горизонту. — Мой мальчик, мы не в состоянии оценить яйцо, снесенное вещей курицей в Мотеле Вещей Курицы. Все будущие годы мы будем называть это место именно так — Мотель Вещей Курицы.
Мы ехали со скоростью 40 миль в час в жару и пыль послезавтрашнего дня.
Мой брат не задевал меня, я не задевал брата, мы не трогали друг друга до тех пор, пока не остановились днем, чтобы побрызгать на травку у обочины.
Перевод с англ. Л. Терехиной, А. Молокина
ПОДЖОГ ПО-ИРЛАНДСКИ
С полчаса они торчали в сторожке у привратника. Бутылка доброго вина переходила из рук в руки. Наконец привратника отнесли в постель. В шесть вечера они крадучись пробирались по тропинке к огромному дому со светящимся мягким светом окном.
— Вот оно, это место, — сказал Риордан.
— Что ты имеешь в виду, черт побери? — гаркнул Кэйси и мягко добавил: — Мы смотрим на него всю жизнь.
— Конечно, — сказал Келли. — Но при этом Горе-Злосчастье все время было с нами, а теперь это место выглядит совсем по-другому. Безобидная елочная игрушка, упавшая в снег.
Именно таким и показался этот дом каждому из четырнадцати подбирающихся к нему мужчин. Этот огромный загородный дом, целая усадьба, театр, подмостки и декорации для мистерии, раскинувшиеся в весенней ночи на отлогих склонах.
— Ты не забыл спички? — спросил Келли.
— Забыл? За кого ты меня принимаешь.
— Взял ли, вот и все, что спросил.
Кейси стал искать. Вывернув карманы костюма, он выругался и сказал:
— Не взял. Вот черт… Ладно, там у них найдутся спички. Займем несколько штук. Пошли.
По дороге Тимолти споткнулся и упал.
— Ради Бога, Тимолти, — взмолился Нолан. — Ну где романтизм? И это в разгар Великого Пасхального Мятежа! Ведь нужно сделать все так, чтобы через несколько лет было о чем рассказывать в трактире. А твое плюханье задницей в сугроб никак не соответствует переживаемому нами моменту, моменту Мятежа, верно ведь?
Тимолти, вылезая из сугроба, представил себе эту картину и кивнул:
— Я буду следить за своими манерами.
— Молчите вы! Вот мы и на месте, — шикнул на Риордан.
— Иисусе! Да перестань ты говорить такие вещи, вроде «вот это место», «вот мы и здесь»! — воскликнул Кэйси. — Видим мы этот чертов дом. И что мы делаем дальше?
— Уничтожим его? — предложил Мэрфи.
— Ты не только глуп, но еще и несносен, — сказал Кэйси. Конечно, мы его уничтожим, но не с бухты-барахты… Сначала — наметки и планы.
— Там, в таверне Хики, все казалось довольно простым, подал голос Мэрфи. — Мы хотели просто заявиться сюда и стереть этот дом с лица земли. Когда я вижу, что моя жена толстеет и толстеет, так, что уже меня перетолстела, мне просто необходимо что-нибудь разнести.
— По-моему, — сказал Тимолти, делая глоток из бутылки, мы идем, стучим в дверь и спрашиваем разрешения.
— Разрешения! — хмыкнул Мэрфи. — Тошно будет смотреть, как ты драпаешь, только пятки засверкают. Мы…
Внезапно дверь широко распахнулась, отбросив его назад.
В ночь вышел мужчина.
— Послушайте, — раздался мягкий голос, — нельзя ли потише. Хозяйка усадьбы отдыхает перед тем, как мы отправимся в Дублин на рождество и…
Мужчины, попав в полосу яркого света, падающего из двери, сощурились и отступили, приподнимая шапки.
— Это вы, лорд Килготтен?
— Да, — ответил мужчина, стоящий в дверном проеме.
— Мы постараемся говорить тише, — сказал Тимолти, улыбаясь, сама любезность.
— Просим прощения, ваша светлость.
— Мы будем говорить тише, ваша светлость. — Кэйси хлопнул себя по лбу.
— Что мы несем! Почему никто не придержал дверь, пока он там стоял?
— Он нас ошарашил, вот почему. Он появился неожиданно. Я хочу сказать, мы ведь здесь ничего не делали, верно?
— Мы слишком громко разговаривали, — предположил Тимолти.
— Ну и разговаривали, что из этого, черт возьми? — сказал Кэйси. — Да этот фигов лорд вышел из нашей же среды!
— Ш-ш-ш, не так громко, — сказал Тимолти.
Кэйси понизил голос:
— Давай подкрадемся к двери и…
— А что толку, — сказал Нолан. — Теперь он все равно знает, что мы здесь.
— Подкрадемся к двери, — повторил Кэйси, оскалившись, — и вышибем ее.
Дверь снова отворилась.
На порог упала тень хозяина, и мягкий терпеливый болезненный голос спросил:
— Послушайте, что же вы все-таки тут делаете?
— Ваша светлость, здесь… — начал было Кэйси и осекся, побледнев.
— Мы пришли, — выпалил Мэрфи, — мы пришли… чтобы спалить этот дом!
С минуты его светлость смотрел на мужчину, на снег; рука спокойно лежала на дверной ручке. Он закрыл глаза, подумал, после молчаливой борьбы справился с дергающимися веками обоих глаз, а потом произнес:
— Гм-м, в таком случае, вы уж лучше войдите.
Мужчины ответили, что это было бы здорово, замечательно, то, что надо, и уже двинулись было вперед, когда Кэйси заорал: «Стойте!» А потом обратился к человеку в дверном проеме:
— Мы войдем, когда придем в норму и будем готовы.
— Очень хорошо, — сказал старик. — Я оставлю дверь незапертой, и когда вы решите, что пора, входите. Я буду в библиотеке.
Оставив дверь приоткрытой на полдюйма, старик удалился, А Тимолти воскликнул:
— Когда мы будем готовы? Господи Иисусе, да когда мы будем готовы больше, чем сейчас? Прочь с дороги, Кэйси!
И все они вбежали на крыльцо.
Услышав шум, его светлость обернулся, чтобы взглянуть на них, и они увидели его лицо. Это было мягкое лицо, которое нельзя было назвать недружелюбным; лицо, как у старого гончего пса, видевшего много охот, много убитых лис и столько же удравших, который раньше хорошо бегал, а теперь на старости лет приобрел мягкую, шаркающую походку.
— Джентльмены, вытирайте, пожалуйста, ноги.
— Уже вытерли. — И все аккуратно стряхнули с туфель снег и грязь.
— Сюда, — сказал его светлость, отступая в сторону. Его прозрачные бледные глаза тонули в морщинках и складках слишком много лет он пил бренди — щеки яркие, как вишневое вино.
— Я принесу всем выпить, и мы посмотрим, что можно сделать с этим вашим… как вы выразились… поджогом усадьбы.
— Вы — само благоразумие, — восхищался Тимолти, следуя за лордом Килготтеном в библиотеку, где хозяин всем налил виски.
— Джентльмены, — старческие кости утонули в глубоком кресле с подголовником, — джентльмены, выпьем.
— Мы не будем, — сказал Кэйси.
— Не будем? — задохнулись все вокруг, сжимая в руках бокалы.
— Мы совершаем здравый поступок и должны быть в здравом уме, — сказал Кэйси, стараясь не встречаться с ними взглядом.
— Кого мы слушаем? — спросил Риордан. — Его светлость или Кэйси? — В ответ все поставили пустые бокалы на стол и начали кашлять и задыхаться. Лица их налились красным, что, безусловно являлось свидетельством мужества. Они повернулись к Кэйси, и разница стала еще заметней. Кэйси залпом выпил вино, чтобы не отставать от товарищей.
Старик между тем потягивал виски, и что-то простое и спокойное в его манере пить словно отшвырнуло их дублинскую бухту и захлестнуло волнами. Они барахтались, пока Кэйси не спросил:
— Ваша светлость, вы слышали что-нибудь о Горе-Злосчастье? Я имею в виду не Кайзеровскую войну на море, а наше собственное великое Горе-Злосчастье и Мятеж, который захватил даже наш город, наш трактир, а теперь вот и особняк.
— Множество тревожащих обстоятельств доказывают, что сейчас неблагополучные времена, — сказал его светлость. — Я хочу сказать, что чему быть, того не миновать. Я знаю всех вас. Вы на меня работали. Я думаю, что достаточно вам заплатил.
— В этом нет сомнения, ваша светлость. — Кэйси выступил вперед. — Но старым порядкам приходит конец, и мы уже слышали о том, как старые дома под Тарой и крупные поместья под Килламандрой пылают во имя независимости.
— Чьей независимости? — спросил старик, смягчившись. Моей? Во имя освобождения от обязанностей по домашнему хозяйству? Ведь мы с женой носимся по этому дому с быстротой воды в унитазе. Или… впрочем, продолжайте. Когда бы вы хотели сжечь этот особняк?
— Если это не очень побеспокоит вас, сэр, то прямо сейчас, — сказал Тимолти.
Старик, казалось, еще глубже погрузился в кресло.
— Ну, милые мои! — сказал он.
— Конечно, если это неудобно, мы можем прийти попозже, быстро произнес Нолан.
— Попозже! Что вы мелете? — воскликнул Кэйси.
— Мне очень жаль, но, пожалуйста, позвольте я все вам объясню. Леди Килготтен сейчас спит, и мы ожидаем знакомых, которые отвезут нас в Дублин на премьеру пьесы Синга.
— Это чертовски хороший писатель, — сказал Нолан, — и…
— Отойдите! — приказал Кэйси.
Люди отступили назад. Его светлость продолжал говорить голосом хрупким, как у мотылька:
— Мы планировали устроить здесь ответный обед на десять персон. Я надеюсь, вы позволите нам подготовиться к завтрашнему вечеру?
— Нет, — отрезал Кэйси.
— Подождите! — возразили остальные.
— Поджог — это само собой. — сказал Тимолти. — Но надо же поступать разумно. Я хочу сказать, что вот они собрались в театр, а не увидеть пьесу — это ужасно. К тому же обед приготовлен, не пропадать же ему, уж лучше все съесть. И гости придут. Будет трудно их всех заранее предупредить.
— Именно об этом я и думал, — сказал его светлость.
— Да, я знаю! — воскликнул Кэйси, скользя руками по щекам, скулам, губам, закрывая глаза и растерянно отвернувшись, — Знаю я, но поджоги не откладывают, их нельзя перенести, это же не чаепитие, черт побери, их нужно делать, когда задумано, вовремя.
— Вот и делай, если спички не забыл, — пробурчал Риордан.
Кэйси аж взвился, казалось, он вот-вот ударит Риордана, но вовремя сообразил, что тот, в сущности, прав.
— Кроме всего прочего, — заметил Нолан, — та мисс наверху, она замечательная леди, и было бы несправедливо лишать ее в эту ночь развлечений и отдыха.
— Вы очень любезны. — Его светлость наполнил ему бокал.
— Давайте проголосуем, — предложил Нолан.
— Дьявол, — прорычал Кэйси. — Я наперед знаю результаты голосования. Всех устроит завтрашняя ночь, черт бы ее подрал.
— Благодарю вас, — произнес старый лорд Килготтен. — На кухне для вас будет приготовлена холодная вырезка. Вы сначала зайдите туда, может быть, вы будете голодны, а ведь работа предстоит нелегкая. Приходите завтра, скажем, часов в восемь вечера. К тому времени я увезу леди Кирготтен в Дублин в отель. Я не хочу, чтобы она заранее узнала, что ее дома больше не будет.
— Господи, да вы настоящий христианин, — пробормотал Риордан.
— Давайте не будем об этом особенно говорить, — сказал старик. — Я уже считаю все это совершившимся фактом, а я не склонен жалеть о прошлом никогда, джентльмены.
Он поднялся. Подобно старому слепому пастуху, пасущему своих агнцев, он удалился в холл, а за ним, семеня мелкими шажками, последовало разбежавшееся, но благополучно собравшееся вновь стадо.
Уже почти у дверей лорд Килготтен краем затуманенного старческого глаза как будто заметил нечто и остановился. Он повернулся и задумчиво уставился на портрет итальянского дворянина.
Чем дольше он смотрел, тем заметнее было, как у него дергаются веки, а губы шевелятся, словно произносят непонятные никому слова.
Наконец Нолан не выдержал и спросил:
— Что это, ваша светлость?
— Я вот только подумал, любите вы Ирландию или нет.
— Праведный Боже, конечно, да! — хором ответили все. Разве нужно об этом спрашивать?
— Я тоже, — приветливо молвил старик. — А любите ли вы то, что в ней есть, то, что существует на ее земле, ее достояние?
— Что толку об этом говорить, — ответили все.
— Тогда меня вот что беспокоит. Вот портрет кисти Ван-Дейка. Он очень старый, очень хороший, уникальный и дорогой. Это, джентльмены, наше национальное достояние.
— Это что, взаправду так? — спросили они и сгрудились вокруг портрета.
— Господи, это прекрасная работа, — сказал Тимолти.
— Лицо-то какое, — заметил Нолан.
— Смотрите-ка, его маленькие глазки, кажется, так и следят за вами, — сказал Нолан.
— Они простодушны, — сказали все.
Они уж было собрались отойти, когда его светлость спросил:
— Понимаете ли вы, что все это принадлежит не мне, не вам, а только всем людям, как драгоценнейшее наследие? А завтра ночью оно будет потеряно навеки.
Все так и замерли с разинутыми ртами. Раньше это не приходило им в голову.
— Упаси Боже, — воскликнул Тимолти. — Мы никак этого не допустим.
— Мы сначала вынесем это из дома, — сказал Риордан.
— Остановитесь! — воскликнул Кэйси.
— Спасибо, — сказал его светлость. — Но куда вы все это денете? Ветер разорвет все это в клочья, они зразу размокнут под дождем, расслоятся от града. Нет, нет, пусть уж лучше сгорят сразу.
— Ничего подобного. — сказал Тимолти, — я возьму его к себе домой.
— А когда эта вся грызня кончится, — сказал его светлость, — вы передадите этот ценный дар искусства и красоты прошедших времен в руки нового правительства?
— Я позабочусь о каждом из этих произведений искусств, сказал Тимолти.
А Кэйси посмотрел на огромное полотно и сказал:
— Сколько же это чудовище может весить?
— Я думаю, — еле слышно произнес старик, — от семидесяти до ста фунтов.
— Мы с Бренхан дотащим это проклятое сокровище. Если нужно будет, ты, Нолан, нам поможешь, — ответил Тимолти.
— Потомки будут вам благодарны, — сказал его светлость. Они двинулись через холл, и опять его светлость остановился, еще перед какими-то двумя картинами.
— Это два «Ню»…
— Мы видим, — подтвердили все.
— Ренуара, — закончил фразу старик.
— Это француз, который их нарисовал? — спросил Руни. — Извините за выражение.
Картина написана во французской манере, это отметили все, пихая друг друга локтями под ребра.
— Это стоит несколько тысяч фунтов, — заметил старик.
— Я как-то в этом сомневаюсь, — сказал Нолан, тряся пальцем, по которому шлепнул Кэйси.
— Я, — начал Блинки Вате, чьи рыбьи глаза плавали в слезах за толстыми стеклами очков. — Я хотел бы приютить этих двух французских леди у себя дома. Мне кажется, я смогу унести каждую из них под мышкой, а потом повешу их над кроватью.
— Согласен, — с уважением произнес лорд.
Они пересекли зал и подошли к другой картине. На фоне пейзажа всевозможные чудовищные люди-звери давили фрукты и тискали сочных, как спелые дыни, женщин.
Все наклонились, чтобы прочитать табличку с названием «Сумерки Богов».
— Ничего себе, сумерки. Какие, к черту, сумерки, — сказал Руни, — больше смахивает на зарождение великого полудня.
— Думаю, — промолвил старик, — и в названии, и в выборе сюжета достаточно иронии. Обратите внимание на нависшее небо, на грозные фигуры, скрывающиеся в облаках. Боги не ведают, что в самый разгар вакханалии грядет Страшный Суд.
— Я не вижу в облаках ни церкви, ни каких-либо священнослужителей.
— В те дни Страшный Суд представляли иначе, — сказал Нолан. — Все об этом знают.
— Мы с Туоси отнесем этих демонов ко мне. Верно, Турси? — спросил Флэннери.
— Верно!
Так они ходили по дому, останавливаясь то там, то тут, как будто совершали грандиозный обход музея, а все поочередно выражали желание отнести к себе домой сквозь ночной снегопад эскиз Дега или Рембрандта или написанные маслом произведения великих немецких живописцев. Наконец они подошли к довольно скверно выполненному портрету, написанному маслом, висящему в темной нише.
— Это мой портрет, написанный ее светлостью, — пробормотал старик. — Пожалуйста, оставьте его здесь.
— Вы хотите сказать, что он должен сгореть? — выпалил Нолан.
— А вот следующая картина, — продолжал старик, двигаясь дальше.
Наконец экскурсия подошла к концу.
— Конечно, если вы всерьез взялись что-то спасти, то в доме есть еще десяток редких ваз.
— Их необходимо вынести, — заметил Кэлли.
— На лестничной площадке персидский ковер.
— Мы его свернем и отвезем в Дублинский музей.
— И еще в большой гостиной висит уникальная люстра.
— Мы ее спрячем до тех времен, когда все беды закончатся, — вздохнул Кэйси, которого все это порядком-таки утомило.
— Ну что ж, — сказал старик, пожимая каждому из них руку. — Не кажется ли вам, что можно начинать? Я имею в виду, эту колоссальную работу по спасению национального достояния. А я пяток минут вздремну, прежде чем начать собираться.
И старик начал подниматься по лестнице.
Мужчины остались в зале одни. Они растерянно смотрели, как он уходит.
— Кэйси, не промелькнуло ли в вашей башке, что если бы вы не забыли спички, то у нас не было бы сегодня ночью столько работы?
— Господи, а еще кто-то хвастался своими воровскими талантами! — воскликнул Риордан.
— Заткнись! — заорал Кэйси.
— О’кей. Флэннери, ты берись за один конец «Сумерков Богов», ты, Туоси, за другой, тот, где девица занимается всякими приятными штучками. Ха! Поднимайте.
И боги в безумном порыве взмыли в воздух.
К семи часам большая часть картин была вынесена из дома. Они громоздились в снегу и ждали, когда их разберут и растащат в разные стороны, в разные дома. В 7.15 лорд и леди Килготтен вышли из дома и уехали. Кэйси быстренько составил из товарищей что-то вроде стенки, чтобы заслонить картины, и милая леди не увидела их. Парни оживленно приветствовали автомобиль, когда он проезжал мимо, и леди помахала им ручкой.
От 7.30 до 10 были вынесены остальные картины.
Когда все картины за исключением одной были вынесены, Келли остановился у темной ниши, где висел портрет старого лорда, выполненный леди Килготтен. Потом вздохнул и из соображений высшей гуманности осторожно вынес портрет на улицу.
Когда в полночь лорд и леди вернулись домой с гостями, они обнаружили лишь борозды в снегу, оставшиеся после того, как Флэннери и Туоси волокли драгоценную вакханалию, а Кэйси возглавил караван полотен Ван-Дейка, Рембрандта, Бушера и Пиронези и наконец Блинки Воет, истомленный ожиданием радости, повлек в темный лес двух ню Ренуара.
Вечер закончился в двум часам ночи. Леди Килготтен отправилась спать, удовлетворенная объяснением, что картины отправлены на реставрацию.
В три утра лорд еще не спал. Он сидел у себя в библиотеке один перед горящим камином; шарф, обмотанный вокруг тощей шеи, в мелко дрожащих пальцах бокал бренди.
Около четверти четвертого послышался осторожный скрип паркета, шевельнулись тени, и спустя некоторое время с шапкой в руке в дверях библиотеки появился Кэйси.
— Тс-с-с! — тихо произнес он.
Лорд, которому что-то снилось, испуганно заморгал:
— О Боже, что, нам уже пора уходить?
— Нет, это завтра ночью, — сказал Кэйси. — Как бы то ни было, не вы уходите, а они возвращаются.
— Они? Ваши друзья?
— Нет, ваши. — И Кэйси поманил его за собой.
Старик дал провести себя через весь холл, чтобы выглянуть через распахнутую парадную дверь в глубокий колодец ночи.
Там, подобно замерзающей Наполеоновской армии, разутой, нерешительной, деморализованной, смутно угадывалась знакомая кучка людей. В руках у них были картины, картины подпирались коленями, их держали на спинах, некоторые торчком стояли в сугробах, поддерживаемые трясущимися от растерянности и холода руками. Стояла мертвая тишина. Казалось, они попали в неловкое положение, как будто один противник ушел сражаться с кем-то более достойным, а другой, пока еще неизвестный, молча затаился до поры до времени где-то у них за спиной. Они поминутно оглядывались через плечо на горы и город, как будто в любой момент сам первозданный Хаос мог спустить на них своих псов.
В этой беспросветной ночи им одним был слышен далекий, колдовской лай, наполняющий души смятением и отчаянием.
— Это ты, Риордан? — нервно позвал Кэйси.
— Кто же еще, черт возьми? — донесся голос из толпы.
— Что они хотят? — спросил старик.
— Не столько мы хотим, сколько вы теперь можете хотеть от нас, — ответил голос.
— Понимаете, — раздался другой голос, он становился все слышнее, потом в полосе света появился Гэннагэн. — Ваша честь, прикинув что к чему, мы решили, что вы такой славный джентльмен, и мы…
— Мы не будем поджигать ваш дом! — крикнул Блинки Ватс.
— Заткнись и дай человеку сказать! — раздалось несколько голосов.
Гэннагэн кивнул:
— Вот именно. Мы не будем поджигать ваш дом.
— Но послушайте, — сказал лорд, — я совершенно готов. Все можно без труда вывезти отсюда.
— Ваша честь, прошу прощения, но вы слишком просто на все смотрите. — сказал Келли. — То, что легко для вас, не легко для нас.
— Я понимаю, — сказал старик, ровным счетом ничего не понимая.
— Похоже, у всех нас в последние несколько минут возникли проблемы. У кого с домом, у кого с транспортом, в общем, у каждого свои. Вы понимаете, о чем я говорю. Кто объяснит первым? Келли? Нет? Кэйси? Риордан?
Все молчали.
Наконец, вздохнув, вперед вышел Флэннери.
— Вот какое дело… — начал он.
— Ну-ну, — мягко произнес старик.
— Мы с Туоси, как последние идиоты, перли эту картину, «Сумерки Богов». Полдороги лесом, так это было еще ничего, а когда прошли две трети болота, так вдруг начали утопать.
— Вы выбились из сил? — добро спросил лорд.
— Утопали, ваша честь, самым натуральным образом, утопали в землю.
— Боже мой! — воскликнул лорд.
— Вы совершенно правы, ваша светлость, — отозвался Туоси. — Мы с Флэннери и эти чертовы боги весили вместе фунтов шестьсот. А почва такая зыбкая, прямо-таки трясина, а не почва. И чем дальше мы продвигались, тем глубже проваливались. Я еле удерживался, чтобы не позвать на помощь. В голову лезли сцены из старого рассказа про собаку Баскервилей, как там эта собака или еще какой злой дух загоняет героиню в болото и бедняжка все дальше в него заходит, прямо в самую трясину, и уж жалеет, что не сидела на диете, да поздно. И только пузыри на поверхности. У меня прямо горло сжало, когда я обо все этом подумал, ваша честь.
— И что же? — вставил лорд, почувствовав, что настало время задать вопрос.
— Мы ушли, оставив богов там, в их сумерках, — ответил Флэннери.
— Прямо в болоте? — спросил старик, несколько огорченно.
— Но мы укрыли их. Я хочу сказать, мы закутали картину своими шарфами, Боги не умирают дважды, ваша часть. Вы слышали, парни? Боги…
— Да замолчи ты! — воскликнул Келли. — Вот болван. Почему вы не вынесли эту треклятую живопись с болота?
— Мы подумали, что надо бы взять туда еще двоих ребят, пусть помогут…
— Еще двоих! — воскликнул Нолан. — Это будет уже четверо, да еще боги. Да вы утонете вдвое быстрее. Только пузыри пойдут, вы, тупицы!
— Я как-то об этом не подумал, — сказал Ту оси.
— Об этом надо подумать немедленно, — промолвил старик. Может быть, стоит образовать спасательную команду из нескольких человек.
— Она уже образована, ваша честь, — сказал Кэйси. — Боб, ты и Тим отправляетесь спасать этих язычных богов.
— А ты не скажешь отцу Лири?
— Он поотстал маленько, идите.
Тим с Бобом удалились, тяжело дыша.
Его светлость повернулся к Нолану и Келли.
— Я вижу, что и вы принесли назад вашу довольно тяжелую картину.
— Ну мы-то хоть ее не донесли до дома всего ярдов сто, сэр, — ответил Келли. — Я думаю, вам интересно знать, почему мы ее вернули, ваша честь?
Старик вернулся в дом, чтобы надеть пальто и твидовую кепку. Теперь он мог стоять на холоде и дослушать затянувшийся разговор.
— Да, такое совпадение, признаться, заставило меня задуматься, — ответил он, выйдя на улицу.
— Тут все дело в моей спине, — сказал Келли. — Она дала о себе знать ярдах, этак, в пятистах от дома. Вот уже пять лет спину то схватит, то отпустит, прямо муки Христовы какие-то. Как в спину вступит, так я начинаю чихать и валяюсь на коленях.
— У меня тоже такое было, — сказать старик. — Это как будто кто-то вставляет в позвоночник клин. — Старик осторожно потрогал спину, вспоминая. Все сочувственно вздыхали, качая головами.
— Вот я и говорю, муки Христовы, — повторил Келли.
— Теперь понятно, почему вы с таким грузом не добрались до места, — сказал старик. — Тем более похвально, что, несмотря на такие страдания, принесли этот чудовищный груз обратно.
Услышав, как оценили его поступок, Келли тотчас же выпрямился. Потом поклонился.
— Мне это ничего не стоило. И я снова сделал бы это, если бы не крутило так кости над задницей. Прошу прощения, ваша честь.
Но его светлость уже перевел свой добрый, рассеянный мигающий серо-голубой взгляд на Блинки Ватса, который под мышками держал двух первосортных леди Ренуара, по одной под каждой.
— О Боже, я не тонул в болоте, и спину мне не сводило, сказал Ватс, приплясывая на месте, чтобы показать, как прытко он добрался домой. — Я добрался до дома за десять минут, устремился в спальню и стал вешать картины на стену. И тут ко мне сзади подошла жена. К вам когда-нибудь подходила сзади жена, ваша честь? Подошла и стоит, ни словечка не говорит.
— Кажется, я что-то подобное припоминаю, — ответил старик, пытаясь вспомнить, и кивнул, подтверждая, что в его расслабленном сознании и впрямь промелькнули какие-то воспоминания.
— Тогда вы согласитесь, ваша светлость, что нет ничего хуже женского молчания? И ничего не сравнится с тем, когда женщина стоит подобно гранитному монументу. Средняя температура в комнате упала так быстро, что я почувствовал, как прямо-таки полюса поменялись местами. Мы именно так это и называем, это у нас дома. Я даже обернуться не смел, чтобы не столкнуться лицом к лицу с Антихристом или его дочерью, как я иногда называю жену в знак уважения к ее матери. Наконец я услышал, как она глубоко втянула в себя воздух и этак очень холодно и спокойно, как какой-нибудь прусский генерал, выпустила его.
— Эта женщина голая, как сойка. А та — такая же сырая, как внутренности моллюска в момент прилива.
— Но это же плоды изучения натуры знаменитым французским художником.
— Господи, взгляни на это! Французским! — завопила она. Юбки едва прикрывают задницу — это французы; платья до пупа — тоже французы. Поцелуи взасос, которые смакуются в грязных романах, — тоже они. А теперь ты припер домой и еще хочешь прибить на стенку этих «французов». Что же ты в таком случае не снимешь со стены распятие и не повесишь на его место какую-нибудь жирную голую бабу?
— Я только глаза закрыл, ваша честь. Я искренне желал, чтобы у меня отсохли уши. «По-твоему, это то, что наши мальчики должны видеть на сон грядущий?» — спросила она. Дальше я помню то, что очутился на дороге, и вот я здесь, а вот обнаженные устрицы, ваша честь. Я прошу прощения и премного обязан.
— Кажется, они и в самом деле несколько легко одеты, сказал старик, держа в каждой руке по картине и внимательно их рассматривая, будто хотел найти в них все то, о чем говорила жена Блинки. — Глядя на них, я всегда думал о лете.
— Может быть, после того, как вам стукнуло семьдесят, ваша светлость. А до того?
— Да, да… — сказал старик, в одном глазу у него промелькнуло воспоминание о давнишнем, полузабытом грешке.
Потом его успокоившийся взгляд остановился на Бэнноке и Туллери, отирающихся на самом краю этой растерянной толпы агнцев. Сзади каждого стояло по громадной картине, на фоне которых мужчины выглядели просто карликами.
Бэннок носил картину домой только затем, чтобы убедиться, что она не пройдет ни в дверь, ни в одно из окон.
Туллери все-таки протащил картину в дверь, но его жена заметила, что они выставляют себя на посмешище всей деревни, вешая на стену Рубенса за полмиллиона фунтов, в то время как у них нет даже плохонькой коровенки.
Таковы были итоги и основные события этой длинной ночи. У каждого мужчины была в запасе страшная, ужасная история, и все эти истории похожи друг на друга. Кровь стыла в жилах от их рассказов. И наконец они рассказали все. И как только последний из них поведал о своих злоключениях, на всех этих бравых членов местной, отважно сражающейся мятежной группы повалил снег.
Старик промолчал. Да и что можно было сказать, когда все было совершенно ясно. Все было естественно, как их слабое дыхание, шелестящее, словно ветер. Потом он тихо открыл парадную дверь и у него хватило деликатности не кивнуть, не указать.
Медленно, не проронив ни слова, они стали заносить картины в дом, проходя мимо него, как мимо знакомого учителя в старой школе, потом они задвигались быстрее. Так течет вернувшаяся в свое русло река. Ковчег, опустошенный до всемирного потопа, а не после него. Мимо проходили звери и ангелы, пылающие, курящиеся благовонным дымом обнаженные тела, благородные божества парили на крыльях и били копытами. Старческие глаза сопровождали их, голос называл каждого по имени — Ренуар, Ван-Дейк, Лотрек — пока не подошел Келли. Когда он проходил, то почувствовал, как его коснулись старческие руки.
Удивленный Келли поднял глаза. И увидел, как старик уставился на небольшую картину у него под мышкой.
— Это мой портрет, выполненный моей женой?
— Он самый, — ответил Келли.
Старик смотрел на Келли, потом на портрет и устремил свой взгляд в снежную ночь.
Келли нежно улыбнулся.
Он тихо скользнул мимо, подобно татю в ночи, и растворился в первозданной глубине. Спустя мгновение все услышали, как он, смеясь, бежит обратно налегке.
Старик один раз пожал ему руку дрожащей старческой рукой и закрыл дверь.
Затем он отвернулся, как будто этот случай потерялся в его зыбком, впадающем в детство разуме, и заковылял через зал. Шарф мягко и устало окутывал его худые плечи. И люди последовали на ним. Потом у каждого в сильной руке оказалось по бокалу вина. Они увидели, что лорд Килготтен смотрел на картину, висящую над камином, как будто пытаясь вспомнить, что там висело все последние годы — «Казнь за отцеубийство в Древнем Риме» или «Падение Трои». Затем он заметил их взгляды и, развернувшись к окружавшей его армии, спросил:
— Ну, за что мы теперь выпьем?
Мужчины зашаркали ногами.
Затем Флэннери воскликнул:
— Конечно, за его светлость!
— За его светлость! — прокричали все и выпили и начали крякать и кашлять. А в глазах старика появился какой-то странный блеск. Он совсем не пил, пока они не угомонились.
После этого он сказал: «За нашу Ирландию!» — и выпил. И в ответ на это все произнесли «О Боже» и «Аминь». А старик взглянул на картину над очагом и вежливо заметил:
— Мне не хотелось бы об этом говорить, но та картина…
— Что, сэр?
— Мне кажется, что она висит немного не по центру, слегка наклонившись, извиняющимся тоном произнес старик. Не могли бы вы…
— Конечно, могли бы. А ну, ребята! — воскликнул Кэйси.
И четырнадцать человек бросились вешать картину прямо.
Перевод с англ. Л. Терехиной, А. Молокина

Кэйт Вильгельм
ПЛАНИРОВЩИКИ

Рэй остановилась у стены с односторонне прозрачным стеклом, наклонилась и посмотрела на запертого в клетке молодого гиббона. Дарин разглядывал ее с горькой гримасой на лице. Через минуту она выпрямилась, сунула руки в карманы лабораторного халата и с невинным, лишенным всякого выражения лицом пошла в его сторону по узкому проходу между рядами клеток.
— Ты продолжаешь считать, что это жестоко и безнадежно?
— А вы, доктор Дарин?
— Почему ты всегда отвечаешь вопросом на вопрос?
— Это тебя раздражает?
Он пожал плечами и отвернулся от нее. Взял свой халат, небрежно брошенный на стул, натянул его на голубую спортивную рубашку.
— А как поживает малыш Дрисколл? — спросила Рэй.
Он на мгновение замер, но сразу расслабился.
— Так же, как неделю или год назад. И так будет до самой его смерти, — ответил он, по-прежнему стоя спиной к ней.
Открылась дверь, и заглянуло крупное добродушное лицо.
— Ты один? — спросил Стю Эверс, окидывая взглядом помещение. — Мне показалось, что я слышал голоса.
— Я говорил сам с собой, — ответил Дарин. — Комитет уже закончил совещаться?
— Вот-вот закончит. Доктор Якобсен держит всех своих пульверизатором против аллергии. — Он на мгновение заколебался, внимательно глядя вдоль рядов клеток. — Тебе не кажется, что человек, не выносящий запаха обезьян, должен заниматься другими исследованиями?
Дарин оглянулся, но Рэй уже исчезла. Что это было на сей раз? Вопрос о малыше Дрисколле, основа существования всего проекта? Интересно, есть ли у нее собственная жизнь вне лаборатории?
— Я буду на улице. — Он прошел мимо Стю и вышел прямо в бешеную зелень лесов Флориды.
Какафония звуков обрушилась на него уже при первых шагах, На пятнадцати гектарах леса, используемого институтом, жило четыреста шестьдесят девять обезьян. Каждая из них пищала, выла, пела, ругалась или каким-то иным образом давала знать о своем присутствии. Дарин откашлялся и направился в сторону корраля. «Счастливейшие обезьяны мира», — так написала о них одна газета. «Поющие обезьяны», — сообщил подзаголовок. «Обезьяны, принимающие таблетки мудрости», — информировала самая предприимчивая из газет. И только в одной статью озаглавили: «Невероятная жестокость».
«Корралем» называли полтора гектара старательно распланированных и ухоженных джунглей, огороженных десятиметровой высоты стеной из гладких пластиковых плит и накрытых сверху прозрачным куполом. В пластиковых ограждениях размещались окна из одностороннего прозрачного стекла. У одного из них стояла небольшая группа людей — это и был комитет.
Дарин заглянул через одно окно вовнутрь ограды. Гелиос и Скиппер с довольными минами искали друг у друга несуществующих блох, Адам ел банан, а Гомер лежал на спине и от нечего делать почесывал нос пальцами то одной, то другой ноги. Несколько шимпанзе собрались у фонтана. Они не хотели пить и только время от времени нажимали на педаль, глядя на струю воды и погружая руки или лица в полную миску. Дарин присоединился к группе, где был и доктор Якобсен.
— Добрый день, миссис Белботтом, — вежливо сказал он. Вы знаете, что потеряли юбку? — Затем он обратился к майору Дормаусу: — О, майор, скольких врагов забили вы сегодня насмерть своей красивой желтой тряпкой? Я вижу, вы привели с собой профессионального подсматривателя. — Он вежливо улыбнулся прыщавому молодому человеку с фотоаппаратом: — Снова истории в газетах, на этот раз со снимками?
Прыщавый юноша переступил с ноги на ногу, не зная, что делать с аппаратом. Майор кипел от ярости, а миссис Белботтом ползала на коленях в кустах, в поисках своей юбки. Дарин вдруг быстро заморгал: ни на ком из них не было одежды. Он повернулся к окну: шимпанзе как раз заканчивали накрывать на стол, выставляя чашки китайского фарфора и серебряные блюда, полные бутербродов. Все были в ярких рубашках и платьях, а Гортензия даже носила на голове чудовищных размеров соломенную шляпку бледно-зеленого цвета. Дарин, борясь с приступом смеха, прислонился к ограждению.
— Растворимая рибонуклеиновая кислота, — говорил доктор Якобсен, когда Дарин наконец пришел в себя, — сокращенно рРНК. Таким образом, от примитивного начала, когда кормили червей телами их дрессированных сородичей, передавая тем самым условные рефлексы, мы перешли к методам несравненно более утонченным. В настоящее время мы берем у дрессированных животных частицы рРНК, вводим их обычным особям и наблюдаем результаты.
Молодой человек непрерывно снимал доктора Якобсена. Миссис Как-Ее-Там стиснула губы в тонкую линию, старательно записывая каждое слово. Шляпка отбрасывала на ее лицо зеленоватую тень, а обтягивающее бедро желто-красное платье, освещенное под определенным углом, казалось, извивалось и шевелилось. Ларина пленило это зрелище. Миссис Как-Ее-Там было лет шестьдесят.
— …моего коллегу, который предложил проведение экспериментов именно в этом направлении, доктора Дарина, — закончил Якобсен, и Дарин слегка поклонился. Он прослушал, что успел сказать о нем Якобсен, и потому решил подождать вопросов.
— Доктор Дарин, это правда, что вы берете эту субстанцию и у людей?
— Даже просто почесавшись, вы теряете часть «этой субстанции», — ответил Дарин. — Точно так же при каждой царапине. Она находится в каждой клетке вашего тела. Действительно, иногда мы берем пробы крови людей.
— И вводите ее животным?
— Иногда. — Сейчас он ждал очередного, неизбежного вопроса и думал, как на него ответить. Якобсен как-то говорил им, что делать в такой ситуации, но Дарин не помнил из этого ни слова. Вопрос не прозвучал. Миссис Как-Ее-Там выступила вперед и заглянула в окно.
Дарин внимательно смотрел на нее: она сосредоточилась на находящихся внутри ограды шимпанзе.
— Слушаю вас? — Он заговорил первым. Женщина по-прежнему не смотрела на него.
— Но зачем? Зачем все это? — спросила она сдавленным голосом. Прыщавый парень все ближе подбирался к другому окну.
— Ну что же, наша теория весьма проста, — ответил Дарин. — Мы считаем, что нашли способ повысить способность обучаться у особей почти любого вида. График получения знаний имеет обычно упрощенную форму: на одном его конце те немногие, кто учится очень быстро, на другом те, для кого это представляет затруднение, в центре — остальное большинство. Как показывают наши эксперименты, мы в состоянии повысить способность обучаться этих двух последних групп, причем в таком объеме, что они догоняют самых перспективных особей их контрольных групп, не охваченных нашими опытами…
Никто его не слушал, впрочем, это не имело никакого значения. Позднее они получат специально приготовленное для них описание всего эксперимента — написанное простым языком, без сложных терминов и растянутых фраз. А пока все разглядывали шимпанзе.
— Трижды повернулись мы на пятках, и дух завладел синими глазами девушек, — сказал он. Один из членов комитета уставился на него.
— Эффект достигается независимо от того, вводится это через вену или рот, — продолжал Дарин, и потный тип снова повернулся к окну. — Каждое утро уколы, старательно планируемая диета, планы, планирующие планы для следующих планов…
На сей раз на него подозрительно посмотрел Якобсен. Дарин умолк и закурил. Женщина с волнующими бедрами отвернулась от окна, лицо ее было красным.
— Мне хватит того, что я видела, — сказала она. — Здесь очень жарко. Можно ли теперь взглянуть на лаборатории?
В здании Дарин передал посетителей Эверсу, а сам неторопливо вернулся на свое место перед ограждением. Он улыбнулся, заметив в глубине «корраля» гордо расхаживающего Адама; шимпанзе не обращал ни малейшего внимания на Гортензию, которая, совершенно сбитая с толку, раскачивалась рядом на ягодицах. Дарин помахал Адаму, а затем, тихо насвистывая, вернулся в свой кабинет. В час должна приехать миссис Дрисколл с Сонни.
Сонни Дрисколлу было четырнадцать лет, рост его составлял метр семьдесят пять, а вес шестьдесят пять килограммов. Его санитар весил сто пять кило и имел рост сто восемьдесят пять. Когда Сонни было двенадцать лет, он сломал руку матери, в тринадцать сломал руку и ногу отцу. С санитаром пока ничего подобного не случилось. Каждое утро миссис Дрисколл заботливо мыла, одевала, кормила своего ребенка, выводила его на прогулку, с оживлением и надеждой рассказывала ему о планах на ближайшие месяцы, пела колыбельные. Сонни вообще не замечал ее присутствия. Его санитар, Джонни, никогда не отходил от него дальше, чем на метр.
Миссис Дрисколл не желала даже думать о дне, когда придется отдать ребенка в клинику. Всю свою веру и надежду она сосредоточила на Дарине.
Они приехали в четверть третьего: раньше, чем он их ждал, но позже, чем договорились.
— Он все время раздевался, — мрачно сообщил Джонни.
Парень как раз снова начинал снимать одежду. Джонни направился к нему, но Дарин покачал головой. Это не имело значения. Он взял кровь из одной мускулистой руки, потом сделал укол во вторую. Сонни вообще не обращал на это внимания. Он никогда и ни на что на обращал внимания, отказываясь сотрудничать во время тестов. Они довели его до стула, но он сидел, глядя в никуда, игнорируя разложенные перед ним на столе кубики, разноцветные мячики, мелки, конфеты. Ничто из того, что говорил или делал Дарин, не производило на него никакого впечатления, наконец сеанс окончился, и миссис Дрисколл поблагодарила Дарина за помощь, которую тот оказывал ее ребенку.
Ежедневно от четырех до пяти Стю и Дарин вели урок. Когда они вошли в класс, Келли О’Греди заканчивала подготовку обезьян к занятиям. Келли была очень высокой, очень худой и очень рыжей. Стю всегда содрогался, когда она случайно касалась его в коридоре; Дарин надеялся, что однажды он напустит на нее Адама. Она неподвижно сидела на своем высоком стуле с блокнотом на коленях, совершенно не сознавая, что происходит в это время с Стю, а если и сознавала, то заметить это по ней было невозможно. Дарин порой задумывался, не была ли она одной из Зашитых Куколок, запрограммированных для идеального выполнения лабораторной работы и ни для чего больше.
Иногда он думал, как готовят Куколок: длинноногих стройных девушек с высокой грудью начисто обривали, красили ногти розовым цветом, удаляли соски и зашивали все отверстия тела, за исключением губ, вечно улыбающихся и никуда не ведущих.
Класс состоял из шести еще не кормленных обезьян, которые должны были совершить поочередно шесть действий: 1) потянуть за шнурок, 2) перейти на другую сторону клетки и поднять прут, освобожденный первым действием, 3) вторично потянуть за шнурок, 4) поднять второй прут, который можно соединить с первым, 5) соединить оба прута, 6) подтащить длинным прутом гроздь бананов, лежащую на полу возле клетки. В пять обезьяны возвращались в распоряжение Келли, которая одну за другой отвозила в помещение, где они жили. Ни одна не выполнила всех действий, хотя две были очень близки к решению.
Ожидая, когда последнюю обезьяну увезут в ее жилище, Стю спросил:
— Что ты сделал утром с этой бандой идиотов? Они все слегка не в своей тарелке.
Дарин рассказал ему о демонстрации Адама. Они еще смеялись, когда вернулась Келли, и смех Стю сменился чем-то, похожим на рыдание. Дарин хотел уже рассказать о своих подозрениях относительно девушки, но передумал и просто вышел.
Двадцатикилометровая дорога к дому пролегала по узкому, прямому шоссе, рассекающему темные леса Флориды.
— Разумеется, я не против того, чтобы там жить, — сказала девять лет назад Леа, когда пришло предложение из Флориды. И действительно — жила. Дом был с искусственным климатом, в машине Леа стоял кондиционер, а за домом находился бассейн, достаточно большой, чтобы в нем разместился трансатлантический лайнер. Вечно перепуганная местная девушка с большими голубыми глазами выполняла работу по хозяйству, а Леа полнела, время от времени рисовала или сочиняла стихи и регулярно принимала у себя жен коллег Дарина по институту. Дарин подозревал, что время от времени здесь бывали и сами коллеги.
— О, профессор, хотите сегодня целый час? Это будет стоить пятнадцать долларов. — Он записал заявку и обратился к ней: — Еще двух сегодня, и мы расплатимся за машину. Что скажешь, дорогая? — Она закинула ему руки на шею и прижалась большой, высоко поднятой грудью. Ей пришлось слегка откинуть голову, чтобы он смог ее поцеловать. — А потом твоя очередь, дорогой. Даром! — Он попробовал ее поцеловать, но язык наткнулся на какое-то препятствие; только теперь он заметил, что улыбка была лишь поверхностной, а губы никуда не вели.
Он поставил машину возле чужого «МГ» и вошел в дом, где всегда можно было получить ледяной мартини.
— Дорогой, ты, конечно, помнишь Грету? Она будет давать мне уроки дважды в неделю. Разве это не чудесно?
— Но ведь ты закончила обучение, — пробормотал он. Грета не была высокой, и у нее не было длинных ног. Выглядела она довольно невзрачно, и рука ее была очень холодной.
— Грета только что приехала. С весеннего семестра у нее начнутся занятия по современному искусству. Я попросила у нее частные уроки, и она согласилась.
— Грета Фаррел, — сказал Дарин, все еще держа ее небольшую ладонь. Они оставили Леа одну и вышли через одно из открытых, доходящих до пола окон в патио; воздух был полон запаха цветущего апельсина.
— Грета считает, что просто здорово иметь мужа психолога, — доносился до них голос Леа. — Где вы?
— Почему ты так решила? — спросил Дарин.
— Думаю, ты должен идеально понимать женщин, их настроение, мотивы, которые ими двигают. Ты наверняка знаешь, что и когда делать… а когда перестать… Да, именно это…
Его руки, державшие ее тело, были горячими, ее кожа прохладной. Раздраженный голос Леа слышался все ближе. Не выпуская Грету из объятий, он вошел в бассейн, и они вместе спустились на дно. Она не была Зашитой Куколкой. Его руки познали ее тело, затем то же самое сделало его тело. Когда они закончили, Грета не спеша отодвинулась от него.
— Мне нужно идти. А вы счастливый человек, доктор Дарин. Никаких сомнений, полное сознание того, что и почему вы делаете…
Он лежал навзничь на кожаном диване и смотрел в потолок.
— Так это всегда выглядит, доктор. Фантазии, сны, иллюзии. Наверняка потому, что в любой момент нам угрожает официальное расследование, но даже когда ничего особого не происходит, постоянно бывают такие скачки, совершенно беспричинные. — Он замолчал.
Дарин легонько шевельнулся в своем кресле, не отрывая взгляда от стоящих перед ним часов, забарабанил пальцами по подлокотнику.
— Прежде у вас случались такие отчетливые видения?
— Пожалуй, нет, — задумчиво ответил Дарин.
Его двойник не дал времени на обдумывание.
— А можете вы от них освободиться, если захотите?
— Конечно, — ответил Дарин.
Громко смеясь, он вылез из машины, похлопал «МГ» и вошел в дом. Из гостиной доносились голоса, и он вспомнил, что по четвергам у Леа действительно уроки рисования.
Доктор Лэси уехал минут через пять после появления Дарина, сказав что-то неопределенное о большом, неиспользуемом таланте Леа. Дарин серьезно кивнул; если она действительно наделена каким-то талантом, он наверняка еще не использован. Однако вслух он этого не сказал; Леа была в костюме хозяйки дома — прозрачные полосы чего-то голубого вокруг плотно облегающего тела синего комбинезона.
Интересно, подумал Дарин, понимает ли она, как здорово располнела за последние несколько лет? Вероятно, нет.
— Этот человек просто невозможен, — сказала она, когда «МГ» исчез вдали. — Уже два года как он не хочет никому показывать моих вещей.
Глядя на нее, Дарин не мог представить, чтобы ее вещи могли экспонироваться еще больше, чем сейчас.
— Не возись ты со своим мартини, — сказала она. — Мы приглашены на семь к Риттерам. Будут моллюски.
Когда он принимал душ, зазвонил телефон: с ним хотел поговорить Стю Эверс. Дарин стоял с трубкой в руке, вода лилась с него ручьями.
— Видел вечерний выпуск? Эта девка заявила, что в институте царят жуткие условия и животные страдают безо всякой необходимости.
Дарин тихо застонал, а Стю продолжал:
— Она явится завтра с целой толпой баб, чтобы доказать свою правоту. Она какая-то шишка в Обществе охраны животных или чем-то подобном.
Вот тут Дарин и начал смеяться. Миссис Как-Ее-Там стояла у ограждения, прижав лицо к окну, у других толпились остальные бабы, все в крикливых цветных платьях. Никто из них не двигался. А за, оградой Адам покрывал Гортензию, потом перешел к Эсмеральде, затем к Хильде…
— Черт возьми, Адам! Смеяться тут не над чем!
— Есть над чем, в том-то и дело, что есть…
Моллюски у Риттеров оказались великолепны. Моллюски, а кроме того, закуска из рыбы-молот, килограммы масла, чудовищный салат, пиво и, наконец, кофе с большим количеством коньяку. Когда прием закончился, Дарин был сыт и весел. Риттер имел что-то общее со средневековой английской литературой, но не говорил на эту тему, и это было очень мило с его стороны. Он сочувствовал Дарину из-за заварухи с Обществом и считал, что ученые лишены воображения. Дарин с ним согласился и вскоре уже возвращался с Леа домой.
— Я так рада, что ты не упирался остаться подольше, сказала Леа, выезжая за сплошную линию. — Мне страшно хочется посмотреть фильм по телевизору.
Она говорила все время, но он не слушал ее; двенадцатилетняя тренировка позволяла издавать в нужных местах одобрительное ворчание.
— Риттер такой зануда, — сказала она. Они уже приближались к дому. — Как будто ты как-то связан с тем неслыханным заявлением в газете!
— С каким заявлением?
— Ты не читал этой статьи? Как ты мог? Завтра все будут об этом говорить… — Она театрально вздохнула. — Кто-то написал, ссылаясь на заслуживающий доверие источник, что вскоре вы сможете вырастить обезьян, таких же умных, как люди.
Она рассмеялась коротким, ничего не значащим смехом.
— Я прочту это дома, — сказал он.
Она не спрашивала о заявлении, ее не интересовало, правда это или нет, он его сделал или кто-то другой. Он прочел статью, пока Леа готовилась смотреть фильм, потом пошел поплавать. Вода была теплая, и он чувствовал на коже холодные порывы ветра. Москиты нашли его сразу, как только он вышел из бассейна, поэтому Дарин поспешил укрыться от них на веранде. Через некоторое время голубоватый свет в гостиной погас, и вокруг осталась только темная ночь. Леа не окликнула его, отправляясь спать. Он знал, что она движется осторожно, тихо закрывая двери, чтобы щелчок замка не разбудил его, если он задремал, сидя на веранде.
Дарин прекрасно знал, что мешает ему бросить все это: жалость. Самое уничтожающее из всех чувств, свойственных человеку. Леа была продуктом той специфической школы, утверждавшей, что оказаться перед алтарем, является целью и исполнением желаний любой девушки; женщины вроде нее переживали шок, когда оказывалось, что это вовсе не так, что это не конец, а скорее лишь начало настоящей жизни. Некоторые из них никогда не оправились от этого шока; Леа входила в их число. И это никогда ей не удавалось. Лет в шестьдесят она будет с отвращением кривить губы при виде совокупляющихся пар, независимо от того, люди это или животные. И приложит все усилия, чтобы подобное поведение было официально запрещено. Когда-то он еще надеялся, что делу поможет ребенок, но эта школа меняла что-то и внутри у них. Они не могли зачать ребенка, а если это удавалось, обычно не могли его родить; если рожали, ребенок был, как правило, мертвым, а если жил, ему можно было только посочувствовать.
Над бассейном неслышно пролетела летучая мышь, исчезнув в черных зарослях азалии. Вскоре выйдет луна; шимпанзе беспокойно завертятся на своих подстилках, чтобы потом снова погрузиться в глубокий ничем не нарушенный сон. Только существа, ведущие ночной образ жизни, и люди совокуплялись под прикрытием темноты. Интересно, помнит ли Адам тех, кто его пленил. Колонию обезьян основали почти двадцать лет назад, и с тех пор ни один из шимпанзе не видел человека. Когда требовалось войти вовнутрь ограждения, вечером животным давали небольшую дозу наркотиков, чтобы случайно кто-нибудь из них не проснулся. Так меняли некоторые элементы оборудования, устанавливали новые преграды на месте тех, что уже перестали быть преградами. Время от времени одну из обезьян забирали на исследования, всегда кончавшиеся вскрытием. Но не Адама. Адам был отцом мира. Дарин улыбнулся в темноте.
Адам взял возлюбленную из других животных и увидел, что она чудесна. Она была создана специально для него, и разум ее был сравним с его разумом. Вместе поднялись они на вершину гладкой стены и увидели широкий мир, расстилающийся за пределами их сада. Вместе нашли они выход в этот мир, который должен был принадлежать им, и вышли, оставив позади низших творений. И Бог искал их, а не найдя, проклял и закрыл проход, через который другие могли последовать за ними. И стало так, что Адам и его жена были первыми мужчиной и женщиной, а от них пошло потомство, заселяющее весь мир. И сказал однажды Адам:
«Стыдись, женщина! Разве ты не видишь, что нага?» А она ответила: «И ты тоже, мужчина, и ты тоже». Тогда закрыли они свою наготу сорванными с деревьев листьями и совокупились под покровом ночи, чтобы мужчина не мог видеть женщины, а женщина мужчины. И так очистились они от стыда. Отныне и вовеки. Аминь. Аллилуйя.
Дарин вздрогнул. Он все-таки заснул, а ночной ветер был достаточно прохладен. Когда ложился, Леа во сне отодвинулась от него. Он коснулся ее; она была горячей. Улегшись на левый бок, спиной к ней, он заснул.
— Имеется некий потенциальный фактор X, — говорил Дарин за завтраком. — Мы не знаем, где его искать. Он может означать, например, высший уровень интеллекта, которого может достичь обезьяна. Мы изучаем каждое новое поколение обезьян и делим их на Х-1, Х-2, Х-3, а потом скрещиваем таким образом, чтобы получить побольше Х-1. Остальным двум группам мы вводим рРНК, полученную от первых Х-1. Через некоторое время получаем обезьян со способностями, более высокими, чем у начального Х-1, проводим переклассификацию и даем другим их рРНК, чтобы подтянуть остальных до их уровня. Все это находится под постоянным наблюдением, чтобы не допустить скрещивания безнадежных особей с лучшими, а кроме того, у нас есть контрольные группы, обучаемые и кормимые абсолютно так же, с одним только исключением: им Мы не даем рРНК. Благодаря этому мы можем сравнивать результаты.
Леа смотрела на него с некоторым интересом. Он думал, что сумел наконец пронять ее, но тут она спросила:
— Ты знаешь, что у тебя совершенно седые виски? До последнего волоска.
Осторожно поставив чашку на блюдце, он улыбнулся ей.
— Увидимся вечером.
В двух остальных загородках находились шимпанзе, которых никто и никогда не пытался ничему учить и которые никогда не имели никаких контактов ни друг с другом, ни с человеком. Группе Адама давали ежедневно рРНК, полученную от самых способных обезьян, имевшихся в их распоряжении, а контрольная группа получала то же самое, но безо всяких добавок. Ее члены не успели еще овладеть техникой пользования фонтанчиком и пили только из текущего через загородку небольшого ручейка. Не знали они и того, что плоды, растущие на длинных тонких ветвях, можно сбить с помощью двух соединенных палок. Когда шел дождь, а купол был убран, они мокли под дождем или укрывались под мокрыми листьями. Группа же Адама уже давно построила под его руководством неуклюжий, но отлично выполняющий свою задачу шалаш.
Ставя машину, он заметил группу женщин, шедших к ограде. Пройдя прямо в кабинет и манипулируя кнопками и ручками на пульте; он повел экскурсию по коридорам, закрывая одни проходы и открывая другие, довел их до новейшей загородки, впустил вовнутрь и закрыл дверь, наблюдая за неудачными попытками выбраться наружу. Потом впустил туда шимпанзе, и улыбка на его лице стала шире, когда он увидел, как не-люди смешались со старыми женщинами. Часть потомства была черной и волосатой, часть розовой и безволосой, часть смешанной. Молодняк быстро рос, протягивая руки за своими порциями, становясь перед машиной, которая их непрерывно изучала и сортировала. Некоторых отсылали в камеры дезинтеграции, некоторых выпускали в мир.
Рявкнул клаксон, и Дарин заглушил двигатель. Когда вылез из машины, рядом остановился автомобиль Стю Эверса.
— Кажется, снова у нас эти летучие мыши, — сказал Стю, когда они вместе направились в лабораторию. — Что с малышом Дрисколлом?
— Ничего, — ответил Дарин. Стю знал, что мальчику давали человеческую рРНК и что до сих пор эксперимент не дал положительных результатов. Организм мальчика не мог сделать такого резкого скачка. На сегодня он проявлял полную нетерпимость к А-127. Отвергал его почти немедленно.
Из кабинета Дарий позвонил Келли и спросил о новых животных, которых осматривали накануне. Вытяжки из крови были уже готовы. Он просмотрел свои записи и выбрал особь, проявляющую интерес ко многим делам одновременно, но не заканчивающую ни одно из них. Келли обещала, что укол будет готов к часу.
Никто из связанных с проектом ученых не мог уже возразить, что способность к обучению у обезьян и людей, которым вводили рРНК малыша Дрисколла, стала явно меньше, у некоторых, очевидно, необратимо.
Дарий предпочитал не думать о реакции миссис Дрисколл, если когда-нибудь та узнает, для каких целей использовали ее мальчика. Рей села на край стола и заговорила, высокомерно цедя слова:
— Я бы могла сказать ей, доктор Дарин. Я сказала бы так: «Мне очень жаль, но вы должны держать своего кретина как можно дальше отсюда. Его кровь отравляет мозги наших обезьян». Верно, Дарин?
— Боже мой, что ты здесь делаешь?
— Изучаю, — ответила она. — Просто изучаю.
Позвонил Сто, напомнив, что через сорок минут нужно идти смотреть, как группа Адама справится с новым заданием. Дарин совершенно забыл об этом. Ночью в каждой из загородок повалили по одному дереву, так, чтобы стволом оно перегородило русло ручья. В одиннадцать должны были выключить фонтаны. В загородке Адама дерево преградило доступ воде у самого ограждения, вдали от построенного на берегу ручейка шалаша. Группа, которой не давали рРНК, уже начинала выказывать признаки жажды. Группа Адама пока ни о чем не знала.
Дарий и Стю остановились у окна, через которое было хорошо видно почти всю загородку. Женщины к этому времени успели уже исчезнуть.
— Сегодня для них было слишком спокойно, — сказал Стю. Адам все время совершал обход, а прежде чем вернуться к остальным, почти час сидел на поваленном дереве.
Искусственное озеро все больше увеличивалось; вода в нем была грязной и выглядела непривлекательно. В десять минут двенадцатого по всей загородке было уже известно, что с водой произошло что-то плохое. Старшие шимпанзе пытались включить фонтан; сам Адам делал это несколько раз, стуча по нему палкой и ковыряясь в нем, но безрезультатно. Наконец он сел, глядя на бездействующее устройство. Один из молодых шимпанзе жалобно застонал. Он еще не хотел пить, просто был удивлен, а может, и встревожен. Адам недобро посмотрел на него, и шимпанзе тут же спрятался за Гортензию, которая оскалилась на Адама. Тот погрозил ей, а самка принялась искать у своего отпрыска. Когда тот снова заныл, наподдавала ему в бок. Молодой шимпанзе посмотрел на нее, на Адама, после чего сунул палец в рот и отошел в сторону. Адам по-прежнему смотрел на фонтан. Прошел час. Наконец Адам поднялся и направился к высохшему ручью. Тут и там виднелись лужи мутной воды. Остальные шимпанзе шли следом. Дойдя до места, где ручей вытекал из-под пластиковой стены ограждения, Адам снова сел на землю. Одно из молодых животных подошло к бассейну с грязной водой, коснулось поверхности, отдернуло руку, потом снова коснулось и наконец напилось. Еще несколько обезьян сделали то же самое. Адам продолжал сидеть неподвижно. В двенадцать сорок он ожил и, махая остальным самцам, подошел к дереву. С громким визгом и массой лишних движений они рванули ствол, потом еще раз и, наконец, сдвинули его в сторону. Вода хлынула в проход, залив обезьян. Две удрали, но две другие остались с Адамом, и первые вскоре вернулись.
Они все еще работали, когда Дарин уходил, чтобы не опоздать на встречу с миссис Дрисколл и ее сыном. Миссис Дрисколл приехала в десять минут второго. Келли оставила шприц с новым препаратом в небольшом холодильнике, стоявшем в углу кабинета. Дарин сделал Сонни укол, взял у него кровь и начал обследование. Временами Сонни даже сотрудничал с ним; это заключалось в том, что он брал рукой один из предметов, лежавших на столе, и бросал перед собой. Сегодня ему удалось очистить стол в течение десяти минут. Дарин сунул в руку леденец; Сонни тут же его выбросил. Дарин терпеливо продолжал давать ему все новые леденцы. Восьмой оставался в руке достаточно долго, чтобы Дарин довел ладонь до губ мальчика. Когда леденец исчез, Сонни открыл рот, ожидая следующего. Руки его неподвижно лежали на столе. Похоже, он вообще не понимал роли, которую они сыграли, перенося ко рту лакомый кусочек. Дарин попытался еще раз проделать то же самое, но на сей раз Сонни не желал ничего держать в руке.
Когда прошел час и Сонни начал выказывать явные признаки усталости, миссис Дрисколл сжала в своих ладонях руку Дарина. Глаза ее были полны слез.
— Вам удалось научить его есть самостоятельно. Хотя бы что-то, — сказала она срывающимся голосом. — Да благословит вас Бог, доктор Дарин! Да благословит вас Бог!
Она поцеловала его руку и торопливо отвернулась, чтобы он не заметил бегущих по щекам слез.
Келли явилась сразу после их ухода.
— Слышали новость? Адам строит собственную дамбу, — сказала она, забирая кровь на исследование.
Дарин молча смотрел на нее. Неужели перелом? Он торопливо бросился наружу. Ему показалось, что у окон собрались все работники института. Он заметил Стю и через мгновение был уже рядом с ним. Ручеек неторопливо тек по своему старому руслу, однако нигде не был глубже полуметра. Отчетливо виднелось его дно — местами каменистое, местами выстланное песком. Адам вместе с остальными собирал камни в единственном, идеально подходящем для этого месте, недалеко от шалаша. Возводимая ими дамба имела полметра толщины и находилась примерно в полутора метрах от стены и в пяти от окна, у которого стояли Стю и Дарин. Когда строительство было закончено, Адам оглянулся, и Дарину показалось, что глаза шимпанзе на мгновение взглянули прямо на него. Позднее он узнал, что почти все испытали то же самое, когда эти черные глаза смотрели в другие, тоже наделенные разумом.
— …ближайшей бури. В случае наводнения…
— …посеять зерно вместо…
— …мозг. Извилины те же, что у человека.
Дарин с еще звучащими у него в ушах обрывками торопливо набрасываемых планов вернулся в кабинет. На столе лежала записка: Якобсен поручал ему заняться посетителями из Общества охраны животных. В понедельник, в десять утра, он должен встретиться с представителями университета, кем-то из Общества и полномочными представителями всех заинтересованных сторон. Он начал писать ежедневный рапорт о Сонни Дрисколле. Пожалуй, Сонни слишком долго был вежлив и послушен. Не зажжет ли случайно последний укол искру решимости, необходимую, чтобы вновь начать буянить? Дарин предупредил его санитара о такой возможности, но Джонни это особо не взволновало. Оставалось надеяться, что Сонни не убьет своего санитара, чтобы потом броситься на отца с матерью. Мать он, вероятно, изнасиловал бы, не будь подобная целенаправленность действий совершенно чужда для его затуманенного мозга. А как быть с теми людьми, что добровольно согласились на инъекции вытяжек из крови Сонни? О них он не хотел даже думать и именно поэтому не мог освободиться от этих мыслей. Трое приговоренных, надеявшихся на смягчение наказания взамен за помощь науке. Он вдруг рассмеялся. Нет, они уже ничего не могли планировать. Только эти трое. Они просто ждали того, что должно случиться, не думая о том, когда это произойдет или как это их коснется. Вот именно: не думая. И точка.
— Но ведь вы всегда можете объяснить, что действительно действовали из лучших побуждений, что делали это для Науки, правда, доктор Дарин? — с иронией спросила Рей.
Он взглянул на нее.
— Иди к черту.
Было уже поздно, когда он выключил свет. В коридоре, ведущем к главному входу, он встретил Келли.
— Тяжелый день, доктор Дарин?
Он кивнул. Ее ладонь на долю секунды коснулась его руки.
— Спокойной ночи, — сказала она, поворачивая к себе.
Он некоторое время смотрел на закрытую дверь, потом наконец вышел наружу и направился к машине. Леа, конечно, бесится, что он не позвонил. Вероятно, не скажет ни слова до тех пор, пока не станут ложиться спать, и только тогда зальет потоком слез и обвинений. Он уже сейчас мог предсказать, когда эти слезы и обвинения достигнут цели: когда тело Келли будет еще живым воспоминанием, когда ее слова еще будут звучать в его ушах. И тогда он начнет лгать, не от желания, чтобы Леа ничего не знала, а потому, что именно этого она будет от него ждать. Она не знала бы, что делать с правдой. Правда окружила бы ее до такой степени, что она могла бы попытаться освободиться неудачным самоубийством — в сущности, криком отчаяния, — желая обратить на себя внимание, и этот жест связал бы его с нею слезливыми, неразрывными узами. О нет, он, конечно, солжет, она будет отлично знать об этом, и оба будут жить, как прежде. Он запустил двигатель, и машина принялась поглощать ждущие его двадцать километров. Интересно, где может жить Келли, что стало бы со Стю, узнай он об этом? Как повлияет на его работу, если однажды Келли станет невыносимой? Он пожал плечами. Зашитые Куколки никогда не становятся невыносимыми. Они не запрограммированы на такое.
Леа, одетая лишь в прозрачный халатик, с распущенными волосами встретила его на пороге. Ее тело влетело в его объятия, так что больше ему не нужна стала Келли. К тому же он был первым шафером на свадьбе Стю и Келли.
— Ты довольна? — обратился он к Рей, но она не ответила. Возможно, на этот раз она ушла окончательно.
Он остановил машину перед своим домом, в котором не было ни огонька, и, прежде чем выйти, на мгновенье оперся лбом о руль. Если даже не окончательно, то, по крайней мере, ненадолго. Он надеялся, что она не вернется к нему долго, очень долго.
Перевод с англ. И. Невструева

Джеймс Боллард
И ВОТ ПРОБУЖДАЕТСЯ МОРЕ

Ночью Мейсон снова услышал шум приближающегося моря приглушенный рокот бурунов на соседних улицах. Пробужденный ото сна, он выбежал на улицу, где в лунном свете белые дома казались могилами, стоящими посреди осаждаемых водой бетонных дворов. В двухстах ярдах от него вздымались и бурлили волны, заливая мостовую и тротуары. Пена проникала сквозь прутья оград, и разлетающиеся брызги придавали воздуху терпкий, напоминающий вино привкус морской воды.
Вдали от берега огромные гребни перекатывались через крыши затопленных домов, разбивались об одинокие трубы. Когда холодная пена обожгла ему ступни ног, Мейсон отпрянул назад и бросил быстрый взгляд на свой дом, где спала жена. Каждую ночь море подступало на несколько футов ближе, набегая на пустые газоны, как свистящий нож гильотины.
Он полчаса смотрел на волны, игравшие среди коньков крыш.
Люминесцирующий прибой отбрасывал бледный свет на несущиеся над головой облака, покрывая и его руки матовым блеском.
Наконец море повернуло вспять, и глубокая чаша светящихся вод стала мелеть. Мейсон бросился вперед по оседающей пене, но море ускользнуло от него, исчезая за углами домов, просачиваясь из-под ворот гаражей. Он добежал до конца улицы, когда последний отблеск заиграл в небе вдали за шпилем церкви. Изнуренный, Мейсон вернулся домой, и плеск угасающих волн все еще преследовал его, когда он улегся в постель.
— Сегодня ночью я опять видел море, — сказал он жене за завтраком.
Мириам спокойно ответила:
— Ричард, ближайшее море в тысячах миль отсюда. — Она взглянула на мужа, и ее бледные пальцы стали рассеянно закручивать локон черных волос на шее. — Пойди прогуляйся — там нет моря.
— Дорогая, но я видел его.
— Ричард!
Мейсон встал и медленно поднял руки ладонями вверх:
— Мириам, я чувствовал брызги на руках. Волны разбивались у моих ног. Я не спал.
Мириам прислонилась к двери, как бы не желая выпускать мужа в чуждый, незнакомый мир. Иссиня-черными волосами, обрамлявшими овальное лицо, ярко-красным халатом, оставлявшим открытым изящную шею и белую грудь, она напоминала Мейсону прерафаэлитскую героиню в свите короля Артура.
— Ричард, ты должен показаться доктору Клифтону. Это начинает беспокоить меня.
Мейсон улыбнулся; его глаза блуждали по крышам домов, виднеющихся вдалеке среди деревьев:
— Я не могу ошибиться. То, что происходит, ясно, как день. Ночью я слышал звуки моря. Я выхожу и гляжу па волны, плещущиеся под луной, а затем возвращаюсь домой. — Он замолчал, и смертельная усталость отобразилась на его лице. Высокого роста и хрупкого сложения, Мейсон еще не оправился от болезни, приковывавшей его к постели последние полгода. Все-таки удивительно, — размышлял он вслух, — вода как-то странно светится. Я бы сказал, что ее соленость значительно выше нормы.
— Но Ричард… — Мириам беспомощно оглянулась; его спокойствие изводило ее. — Моря здесь нет. Это только твое воображение. Никто больше не видел его.
Мейсон кивнул, запустив руки в карманы:
— Может быть, его никто и не слышал.
Выйдя из столовой, он прошел в кабинет. Кушетка, на которой он спал во время болезни, стояла в углу, рядом с книжным шкафом. Мейсон сел, снял с полки окаменелого моллюска. Зимой, когда он был прикован к постели, гладкая трубчатая раковина своими бесчисленными ассоциациями с древними морями и затопленными берегами доставляла ему бесконечное удовольствие, как рог изобилия, полный образов и мечтаний. Покачивая ее на руках, такую же совершенную и двусмысленную, как греческая статуя, найденная на дне высохшей реки, он размышлял о том, что она похожа на капсулу времени, заключающую в себе другой мир. Он почти убедился в том, что ночное море, так часто посещающее его во сне, вырвалось из раковины, когда он нечаянно поцарапал ее.
Мириам последовала за ним и быстро задернула занавески, будто понимая, что Мейсон возвращается в сумеречный мир своей кушетки. Она положила руки ему на плечи.
— Послушай, Ричард. Сегодня ночью, когда ты услышишь волны, разбуди меня, и мы выйдем вместе.
Мейсон осторожно высвободился:
— Мириам, увидишь ли ты его или нет, не имеет значения. Важно то, что его видел я,
Позднее, прогуливаясь по улице, Мейсон дошел до того места, где он стоял в предыдущую ночь, глядя на разбивающиеся волны, накатывавшие на него. Звуки безмятежной домашней жизни доносились из затопленных ночью домов. Трава на газонах поблекла от июльской жары, и брызги воды, парящие в воздухе, играли всеми цветами радуги. Летняя пыль, не потревоженная с поры весенних ливней, лежала между оградами и пожарными гидрантами. Улица, один из десятка пригородных бульваров, расположенных по периметру города, устремлялась примерно на триста ярдов на северо-запад, упираясь в площадь по соседству с торговым центром. Мейсон заслонил глаза рукой и посмотрел на башенные часы библиотеки и церковный шпиль, распознав вспышки на нем — отражения огромных волн. Все было на месте, как и всегда.
Дорога полого спускалась к торговому центру и, по чистой случайности, отмечала кромку берега, который сохранился бы, если бы этот район был затоплен. Примерно в миле от города был невысокий гребень, составлявший часть края огромной природной чаши, заключавшей в себе аллювиальную равнину, и на его вершине на поверхность выходили меловые отложения. Хотя этот гребень был частично скрыт вторгшимися в поле зрения домами, Мейсон сразу же признал в нем мыс, возвышавшийся подобно цитадели над морем. Крутые валы смывали его отвесные бока, выбрасывая вверх огромные плюмажи брызг, которые падали обратно в отступающую воду с гипнотической медлительностью. Ночью мыс казался еще более мощным и мрачным, каким-то неистребимым бастионом, противостоящим морю. И Мейсон обещал самому себе, что однажды вечером он пойдет на этот мыс, а потом позволит волнам разбудить его, когда он заснет на самой вершине.
Мимо проехал автомобиль; водитель с любопытством наблюдал за Мейсоном, стоявшим посреди дороги с запрокинутой головой. Не желая выглядеть еще более эксцентричным, каким и без того все считали его — одинокий, непонятный муж красивой, но бездетной миссис Мейсон, — он свернул на аллею, идущую вдоль гребня. Когда он подошел к меловым отложениям, то заглянул за изгородь, надеясь увидеть там затопленные деревья и увязшие автомобили. Дома были абсолютно сухими.
Впервые видение моря посетило Мейсона три недели назад, но он уже был абсолютно уверен в его реальности. Он узнал также, что после своего ночного нашествия вода не оставила ни следа ни на одном из затопленных зданий, и поэтому не ощутил никакой тревоги за судьбу утонувших людей, которые, в то время как люминесцирующие волны разбивались о коньки крыш, по-видимому, безмятежно спали в чреве необъятного жидкого холодильника моря. Несмотря на этот парадокс, Мейсон был целиком и полностью убежден в реальности существования моря. Это-то и побудило его признаться Мириам в том, что однажды ночью он проснулся от шума волн за окном, а выйдя из дома, увидел, как море катит свои валы по соседним улицам. Поначалу она просто улыбнулась ему, приняв это сообщение за иллюстрацию к его внутреннему миру. Затем, три ночи спустя, она проснулась от стука запираемой двери, а после его возвращения с улицы была удивлена его вздымающейся грудью и блестящим от пота лицом.
Тогда она провела весь день, поглядывая через плечо в окно в поисках признаков появления моря, Что беспокоило ее не менее самого видения, так это абсолютное спокойствие Мейсона перед лицом такого ужасного подсознательного апокалипсиса.
Утомленный ходьбой, Мейсон присел на низкую декоративную ограду, за которой густые кусты рододендронов скрывали от глаз прилегающие дома. Несколько минут он забавлялся пылью у своих ног, разгребая ее обломанной веткой. Бесформенная и пассивная, пыль все же имела отдаленное отношение к окаменевшим моллюскам; она даже излучала странный матовый свет.
Затем дорога делала поворот и ныряла прямо к полям внизу. Меловое плечо, покрытое мантией зеленого дерна, вздымалось в ясное небо. На его склоне была сооружена металлическая постройка, и человеческие фигурки суетились у входа в шахту, налаживая деревянный подъемник. Пожалев о том, что он не приехал на машине жены, Мейсон наблюдал за тем, как одна за другой фигурки исчезали в шахте.
Эта расплывчатая пантомима не покидала его весь день в библиотеке, отодвинув в сторону воспоминания о темных водах, катящихся по полуночным улицам. Что придавало силы Мейсону, так это его убежденность в том, что вскоре остальные тоже почувствуют присутствие моря.
Когда в тот вечер он ложился спать, то увидел, что Мириам, все еще одетая, сидит в кресле у окна; на ее лице было написано выражение спокойной решимости.
— Что ты делаешь? — спросил Мейсон.
— Жду.
— Чего?
— Моря. Не беспокойся, постарайся не обращать на меня внимания и засыпай. Я не против, чтобы посидеть одной в темноте.
— Мириам… — Усталым жестом Мейсон взял в свою ладонь ее хрупкую руку и попытался вытянуть жену из кресла. — Дорогая, чего ты этим добьешься?
— Разве не ясно?
Мейсон присел в ногах постели. По какой-то причине, вроде бы совсем не связанной с желанием защитить ее, ему хотелось держать жену подальше от моря.
— Мириам, разве ты не понимаешь? Ведь я могу и не видеть его на самом деле, в буквальном смысле. Быть может, это… галлюцинация, мечта, игра воображения.
Мириам покачала головой, вцепившись руками в подлокотники:
— Я так не думаю. В конце концов, я хочу выяснить.
Мейсон улегся в постель.
— Хотелось бы знать, выбрала ли ты правильный путь…
Мириам выпрямилась в кресле:
— Ричард, ты воспринимаешь все слишком спокойно, ты считаешь это видение чем-то вроде непонятной головной боли. Вот это и пугает меня. Если бы тебя ужасало это море, меня бы это не тревожило, но…
Полчаса спустя он заснул в затемненной комнате, и тонкое лицо Мириам было обращено к нему из тени.
Волны бормотали что-то за окнами; отдаленное шипение пены вывело Мейсона из состояния сна — приглушенный рокот валов и плеск глубоких вод застучали в ушах. Он выкарабкался из постели, быстро оделся под гул воды, отступающей по улицам. В углу, в отблесках света, отбрасываемого далекой пеной, Мириам спала в кресле, и полоска света пересекала ей горло.
Беззвучно касаясь босыми ногами тротуара, Мейсон побежал навстречу волнам. Он споткнулся о блестящую границу прилива, когда одни из валов с гортанным ревом рассыпался у его ног. Оказавшись на коленях, Мейсон ощутил прохладу блестящей воды, насыщенной микроскопическими водорослями; затем вода утратила свою упругость, а потом отступила, всасываемая в пасть очередного буруна. Мокрый костюм Мейсона прилип к телу; но он всматривался в море. В лунном свете белые дома, стоящие в воде, казались дворцами призрачной Венеции или мавзолеями на мощеных дорожках некрополя какого-то Острова. Только шпиль церкви был еще виден. Море почти достигло высшей отметки, оно было в каких-то двадцати ярдах от Мейсона, и брызги летели чуть ли не до его дома.
Он дождался интервала между двумя волнами, а затем пошел вброд через отмель к дорожке, которая вилась к отдаленному мысу. К тому времени вода уже пересекала шоссе, заливала темные газоны и стучалась в двери домов.
В полумиле от мыса Мейсон услышал рев мощного прибоя и вздохи глубоких вод. Переводя дыхание, он прислонился к забору, когда холодная пена резанула его по ногам, а отливное течение постаралось повалить. Неожиданно он увидел освещенную мятущимися облаками бледную фигуру женщины, стоявшую над морем на каменном парапете на самом краю утеса, — черное платье развевалось у нее за спиной, волосы в лунном свете были белыми. Далеко внизу, под ее ногами, светящиеся волны прыгали и кувыркались, как акробаты.
Мейсон побежал по тротуару, на миг потеряв из вида женщину за изгибом дороги. Затем вода чуть отступила, и он в последний раз мельком увидел ледяной профиль незнакомки сквозь пелену брызг. Прилив начал спадать, и море потекло вспять среди домов, словно осушая саму ночь от ее света и движения.
Когда последние пузырьки воды лопнули на влажном тротуаре, Мейсон снова обыскал взглядом мыс, но освещенная фигура уже исчезла. Мокрая одежда сохла на нем словно сама по себе, когда он возвращался назад по пустынным улицам. Терпкий привкус соленой воды был унесен из города полночным потоком воздуха.
Утром он сказал Мириам:
— Все-таки это был сон. Думаю, что море теперь ушло. Так это или нет, но прошлой ночью я не видел ничего.
— Слава богу, Ричард. А ты уверен?
— Убежден. — Мейсон ободряюще улыбнулся. — Благодарю за ночное бдение надо мной.
— Сегодня я тоже посижу, — она протянула руку. — Я настаиваю. После прошлой ночи я чувствую себя отлично, и мне хочется прогнать это наваждение раз и навсегда. — Она нахмурилась, разливая по чашкам кофе. — Странно, но раз или два мне показалось, что я тоже слышу море… Оно звучало так, будто было очень старым и слепым, подобно чему-то пробуждающемуся снова после миллионов лет.
По дороге в библиотеку Мейсон сделал крюк к меловым отложениям и поставил машину в том месте, откуда видел залитую лунным светом фигуру женщины с белыми волосами. Солнечные лучи падали на бледный дерн, освещали вход в шахту, вокруг которой продолжалась все та же беспорядочная деятельность.
Еще минут пятнадцать Мейсон колесил по обрамленным деревьями улицам, всматриваясь через ограды в окна домов. Почти наверняка эта женщина должна проживать в одном из этих домов, пряча свое черное платье под домашним халатом.
Позднее в библиотеке он узнал водителя автомобиля, который видел на мысе. Этот пожилой мужчина в твидовом костюме разглядывал образцы местных геологических пород.
— Кто это был? — спросил он Феллоуза, хранителя древностей, когда машина отъехала. — Я видел его на утесах.
— Профессор Гудхарт из партии палеонтологов. По-видимому, он обнаружил интересный пласт. — Феллоуз показал жестом на коллекцию бедренных костей и осколков челюстей. — В случае удачи мы получим от них новые экспонаты.
Мейсон уставился на кости.
Каждую ночь, как только море появлялось на темных улицах и катило волны к дому Мейсона, он просыпался около спящей жены, выходил под открытое небо и пробирался вброд к мысу. Там он видел белокурую женщину на краю утеса — ее лица не достигали взлетающие брызги. Но ему никогда не удавалось приблизиться к ней до отлива, и тогда он в изнеможении падал на колени посреди влажного тротуара, покуда затопленные дома и улицы выходили на поверхность вокруг него.
Однажды полицейская патрульная машина осветила Мейсона фарами, когда он стоял, прислонившись к столбу у проезжей части дороги. Другой раз он забыл закрыть входную дверь после возвращения. Во время завтрака Мириам со своей прежней настороженностью пристально наблюдала за ним, заметив синие круги у него под глазами.
— Ричард, думаю, тебе надо прекратить ходить в библиотеку. Ты выглядишь усталым. А может быть, это снова море?
Мейсон покачал головой, изобразив на лице вымученную улыбку:
— Нет, с этим покончено. Наверное, я перетрудился.
Мириам взяла его за руки.
— Ты что, упал вчера? — Она осмотрела его ладони: — Милый, да они все в ссадинах! Это случилось всего несколько часов назад. Разве ты не помнишь?
Напрягши воображение, Мейсон наспех придумал какую-то историю, чтобы удовлетворить ее любопытство, затем перенес свою чашку кофе в кабинет и там стал всматриваться в утренний туман, окутавший крыши домов, — зыбкое озеро, совсем темное, лежавшее в пределах контуров полуночного моря. Туман растаял в солнечных лучах, и на мгновение все уменьшающаяся для Мейсона реальность нормального мира вновь заявила о себе, наполнив его душу острым ностальгическим чувством.
Не задумываясь, он потянулся к раковине, стоявшей на полке, но рука невольно отдернулась, так и не прикоснувшись к ней.
Мириам стояла рядом:
— Отвратительная вещица, — сказала она. — Послушай, Ричард, как ты думаешь, что вызывает твои сновидения?
Мейсон пожал плечами:
— Возможно, это что-то вроде воспоминаний… — Он подумал, стоит ли рассказывать Мириам о волнах, которые он продолжал слышать во сне, о белокурой женщине на краю утеса, которая, казалось, манила его к себе. Однако, подобно всем женщинам, Мириам верила, что в жизни ее мужа должно быть место только для одной загадки. Она чувствовала только, что зависимость мужа от ее доходов и утрата самоуважения давали ему право все же что-то скрывать от нее.
— Ричард, в чем все-таки дело?
В его мозгу вдруг раскрылся прозрачный веер брызг, и волшебница волн повернулась лицом к нему.
Глубиной по пояс, море играло на газоне, кружась в водовороте. Мейсон стянул с себя пиджак и швырнул его в воду, а затем пошел вброд через улицу. Выше обычного, волны наконец-то достигли его дома, вода переливалась через порог, однако Мейсон забыл о жене. Все его внимание было сосредоточено на мысе, непрерывно орошаемом штормом брызг, почти скрывающих фигуру на гребне.
Покуда Мейсон торопливо пробивался вперед, порой проваливаясь в воду по самые плечи, космы люминесцирующих водорослей кишели в воде вокруг него. Соленый от брызг воздух ел глаза. Он достиг подножия мыса, но выбился из сил и упал на колени.
Высоко над ним — он отчетливо слышал это — пели брызги, расшибаясь о внешние углы утеса; глубокие басы валов заглушались дискантом причитающего воздуха. Влекомый этой музыкой, Мейсон вскарабкался наверх по боку утеса — тысячи отражений луны играли в разбивающемся о камни море. Когда он достиг гребня, развевающееся на ветру платье женщины скрыло от его глаз ее лицо, но он все же рассмотрел высокую прямую фигуру и изящно очерченные бедра. И вдруг, казалось, не прилагая к этому никаких усилий, женщина двинулась прочь по парапету.
— Подожди!
Его крик затерялся в шуме волн. Мейсон рванулся вперед, и тогда женщина обернулась и посмотрела на него. Белые волосы скрывали ее черты подобно серебристому пару, затем они чуть разошлись, чтобы обнажить лицо с пустыми глазницами и щербатым ртом. Рука, подобная связке белых палочек, клешней протянулась к нему, а сама фигура взмыла вверх в крутящемся воздушном потоке, словно гигантская птица.
Сам не сознавая, вырвался ли крик у него изо рта или же он исходил от этого призрака, Мейсон отшатнулся назад. Едва успев прийти в себя, он перелетел через деревянное ограждение и, под звон цепей и стук блоков, полетел в шахту — грохот моря эхом отдавался в ее темноте, проносящейся мимо со свистом.
Выслушав рассказ полицейского, профессор Гудхарт покачал головой:
— Боюсь, что нет, сержант. Мы работаем на самом дне всю неделю. Никто не падал в шахту. Однако, благодарю за предупреждение. Нам надо поставить более надежное ограждение на тот случай, если этот малый продолжает бродить во сне.
— Не думаю, что ему заблагорассудится забраться сюда, сказал сержант, — здесь довольно высоко. — Подумав, он добавил: — Там, в библиотеке, где он работает, мне сказали, что вчера вы откопали парочку скелетов. Я понимаю, прошло всего два дня, как он пропал, но, может быть, один из них — его?
Профессор Гудхарт вогнал каблук в дерн, прикрывающий мел.
— Чистый карбонат кальция, примерно в милю толщиной, отложился здесь в триасовый период 200 миллионов лет назад, когда здесь было большое внутреннее море. Скелеты, которые мы нашли вчера, мужчины и женщины, принадлежат рыбакам-кроманьонцам, которые жили на его берегу прежде, чем оно высохло. Был бы рад удовлетворить вашу любознательность — очень интересно выяснить, как оказались останки этих людей в пласте, потому что разработка шахты была прекращена и она затоплена всего тридцать лет назад. Однако это моя проблема, а не ваша.
Возвращаясь к машине, сержант покачал головой. Отъезжая, он посмотрел на бесконечный ряд банальных пригородных домишек.
— По-видимому, когда-то здесь было древнее море. Миллион лет назад. — Он взял с сиденья помятый фланелевый пиджак: Теперь я понял, чем пахнет пиджак Мейсона, — морской водой.
Перевод с англ. А. Кондракова
МИСТЕР Ф. ЕСТЬ МИСТЕР Ф
Трое вместе с ребенком.
…Одиннадцать часов. Наверное, Хансон уже приехал. Элизабет! Черт возьми, почему она никогда не торопится?
Спустившись с окна, откуда открывался вид на дорогу, Фримэн добежал до своей постели и прыгнул в нее, затем расправил одеяло на коленях. Когда его жена просунула в дверь голову, он простодушно улыбнулся ей и притворился, что читает журнал.
— Все в порядке? — спросила она, пристально разглядывая его. Она двинулась всем своим телом матроны к нему и стала поправлять постель. Фримэн засуетился и с раздражением оттолкнул жену, когда та попыталась приподнять его с подушки.
— Ради Бога, Элизабет, я не ребенок! — запротестовал он, с трудом сдерживая свой звонкий голос.
— Что случилось с Хансоном? Он должен был появиться полчаса назад.
Жена покачала крупной красивой головой и подошла к окну. Свободное хлопчатобумажное платье скрывало фигуру, но, когда она потянулась к шпингалету, Фримэн все же увидел, как под тканью обозначилась округлость беременности первой половины.
— Наверное, он опоздал на поезд.
Скупым движением руки она надежно задвинула верхний шпингалет, с которым Фримэн провозился целых десять минут.
— Мне показалось, что я слышала здесь какой-то стук, подчеркнула она. — Нам совсем не нужно, чтобы ты простудился.
Фримэн терпеливо дожидался ее ухода и взглянул на ручные часы. Когда жена остановилась в ногах постели, внимательно изучая его, он едва сдержался, чтобы не накричать на нее.
— Я собираю вещи для ребенка, — сказала она, размышляя вслух. — Это напомнило мне, что тебе нужен новый халат. Старый совсем истрепался.
Фримэн прикрыл голую грудь отворотами, чтобы спасти честь халата.
— Элизабет, я ношу его много лет, и он устраивает меня. Ты одержима манией заменять все на свете. — Он сделал паузу, осознав всю бестактность своего замечания — ведь жена явно льстила ему, отождествляя с ожидаемым ребенком. И если несколько насторожившие его слова жены были слишком выразительны, то, по-видимому, оттого, что она ожидала своего первенца сравнительно поздно, ведь ей было за сорок. Кроме того, сам Фримэн болел и лежал в постели почти месяц — а каковы были его подсознательные мотивы? — и это лишь усилило его смущение.
— Извини, Элизабет. Очень мило с твоей стороны заботиться обо мне.
— Может быть, вызвать врача?
«Нет!» — Что-то запротестовало в его душе. Словно услышав этот внутренний голос, жена отрицательно покачала головой, соглашаясь с ним.
— Ты скоро поправишься. Доверимся природе. Считаю, что тебе не нужно пока встречаться с врачом.
— Пока?
Фримэн прислушался к звукам ее шагов, покуда она спускалась по застланной ковром лестнице. Через несколько минут из кухни донесся шум стиральной машины.
Пока! Фримэн выскользнул из постели и прошел в ванную. Шкаф рядом с умывальником был забит купленной или связанной самой Элизабет детской одеждой, тщательно простиранной и отстерилизованной. Большой квадратный кусок марли прикрывал аккуратные стопки на каждой полке, и Фримэн видел, что там преобладал голубой цвет, было немного белого, но совсем отсутствовал розовый.
«Надеюсь, Элизабет права, — подумал он. — Если так, то ребенок будет наверняка одет лучше всех в мире. Кажется, вся легкая промышленность работает только на нас».
Он нагнулся, чтобы заглянуть в нижнее отделение, и вытащил из-под бака небольшие весы. Выше он заметил какое-то коричневое одеяние — комбинезон на шестилетнего ребенка. Рядом был набор курточек необычно большого размера, годного чуть ли не для самого Фримэна. Он снял халат и встал на платформу весов. В зеркале за дверью он рассмотрел небольшое, почти лишенное волос тело с худыми плечами, узкими бедрами и длинными, как у жеребенка, ногами.
Вчера было шесть стоунов[70] девять фунтов. Он отвел глаза от циферблата, прислушался к шуму стиральной машины внизу, затем дождался, когда стрелка весов замрет на месте.
Шесть стоунов два фунта! Путаясь в полах халата, Фримэн засунул весы под бак. Шесть стоунов два фунта. Потерять в весе семь фунтов за сутки! Он заторопился обратно в постель и уселся там; его била нервная дрожь, он пытался нащупать пальцами исчезнувшие усы.
Всего два месяца назад он весил больше одиннадцати стоунов. Семь фунтов в день, с такой скоростью…
Его мозг отказывался верить в это. Пытаясь сдержать дрожь в коленях, он потянулся за журналом, рассеянно перевернул несколько страниц.
Двое вместе с ребенком. Он заметил следы трансформации шесть недель назад, почти сразу же после того, как подтвердилась беременность Элизабет.
Бреясь на следующее утро в ванной, прежде чем отправиться в офис, он обнаружил, как поредели его усы. Обычно жесткая щетина стала мягкой и податливой, приняв прежнюю рыжеватую окраску.
Волосы бороды тоже посветлели. Обычно темные и густые, отраставшие всего за несколько часов, теперь они уступили первому же напору бритвы — кожа на лице была розовой и нежной.
Фримэн подумал, что это очевидное омоложение связано с ожиданием ребенка. Он женился на Элизабет в сорок лет и был на два — три года моложе ее; тогда же он предположил, что, по-видимому, слишком стар для того, чтобы стать отцом, тем более, что нарочно избрал Элизабет как идеальную замену своей матери и поэтому считал себя скорее ее ребенком, а не равным партнером. Однако теперь, когда ребенок становился реальностью, он не испытывал к нему ревности. Поздравив самого себя, он решил, что просто вошел в новую фазу зрелости и теперь может от души играть роль молодого родителя.
Отсюда исчезновение усов, редеющая борода, пружинистая юношеская походка. Он стал напевать тихонечко:
— Просто Лиззи и я — Трое вместе с дитя.
Позади себя в зеркале он видел все еще спящую Элизабет; ее крупные бедра заполняли почти всю постель. Он с удовольствием наблюдал, как она отдыхает. Вопреки тому, что он ожидал, она больше думала теперь о нем, чем о будущем ребенке, и даже не разрешала ему готовить самому себе завтрак. Причесывая волосы — богатую белокурую поросль — отбрасывая их со лба назад, чтобы прикрыть облысевший купол головы, он вспомнил, криво усмехаясь, осененные веками поговорки в книгах о материнстве о сверхчувствительности будущих отцов. По-видимому, Элизабет приняла их слишком близко к сердцу. Он на цыпочках вернулся в спальню и стал у открытого окна, купаясь в терпком воздухе раннего утра. Внизу, дожидаясь завтрака, он вытащил из шкафа в холле свою старую теннисную ракетку и окончательно разбудил Элизабет, когда, взмахнув рукой, случайно разбил стекло барометра.
Поначалу Фримэн упивался вновь обретенной энергией. Он катал Элизабет на лодке, неистово работая веслами, вверх и вниз по течению, растрачивая физическую силу, которую не израсходовал из-за занятости в молодые годы. Он ходил вместе с Элизабет за покупками, нагружался всеми пакетами, предназначенными для ребенка; его плечи расправились, он стал словно на десять футов выше ростом.
Однако именно тогда он ощутил первые признаки того, что происходило на самом деле.
Элизабет была крупной, по-своему привлекательной женщиной с широкими плечами и могучими бедрами; она привыкла носить высокие каблуки. Фримэн, среднего роста, коренастый мужчина, был чуточку ниже ее ростом, что, однако, никогда не смущало его.
Когда он обнаружил, что теперь едва достигает ее плеча, то стал внимательно присматриваться к самому себе.
Во время одной из таких экскурсий в магазин (Элизабет всегда брала Фримэна с собой, интересуясь его мнением простодушно, но с таким видом, будто ему самому придется со временем носить приобретаемые крохотные младенческие ползунки и курточки) продавщица бесхитростно приняла Элизабет за его мать. Потрясенный Фримэн внезапно осознал несоответствие, возникшее между ними, — в результате беременности лицо Элизабет отекло, ее плечи и шея пополнели, в то время как его собственные черты разгладились, утратив морщины.
Когда он вернулся домой, то долго бродил по гостиной и столовой — мебель и книжные полки стали казаться ему выше, более громоздкими. Наверху, в ванной, он впервые встал на весы и обнаружил, что утратил в весе один стоун шесть фунтов.
Раздеваясь в тот вечер, он сделал еще одно неожиданное открытие: Элизабет ушивала его пиджаки и брюки. Она ничего не говорила ему об этом, и когда он впервые увидел, как жена роется в своей корзине для шитья, то подумал, что она готовит что-то для ребенка.
В последовавшие дни его первый, так сказать, весенний порыв энергии несколько поутих. Странные перемены произошли с его телом — кожа и волосы, все мускулы, казалось, трансформировались. Черты лица изменились, челюсть словно укоротилась, нос не так выдавался, щеки сделались безупречно гладкими.
Исследуя свой рот в зеркале, Фримэн обнаружил, что большинство зубов утратило старые металлические пломбы, а их место заняла прочная белая эмаль.
Он продолжал ходить на службу, сознавая, что коллеги то и дело странно посматривают на него. На следующий день после того, как он установил, что не может дотянуться до справочников на полке позади его стола, он остался дома, сославшись на простуду.
Казалось, Элизабет отлично понимала, в чем дело. Фримэн ничего не сказал ей, опасаясь, что она испугается и произойдет выкидыш, когда она узнает правду. Завернувшись в свой старый халат, обмотав шерстяным шарфом шею и грудь, чтобы заставить фигуру выглядеть более мошной, он сидел на софе в гостиной; вокруг громоздилась гора одеял, а жесткая подушка приподнимала Фримэна повыше над софой.
Он старался не вставать больше в полный рост в присутствии Элизабет, а в случае крайней необходимости циркулировал по комнате на цыпочках, скрываясь за мебелью.
Однако неделю спустя, когда его ноги уже не доставали до пола за обеденным столом, он решил отсиживаться наверху в постели. Элизабет с радостью согласилась с этим. Все это время она внимательно наблюдала за мужем своими ласковыми, словно неподвижными глазами, спокойно готовясь к появлению ребенка.
«Черт бы побрал Хансона», — подумал Фримэн. Было одиннадцать сорок пять, а он так и не появился. Фримэн листал журнал, не глядя на страницы, и лишь ежесекундно посматривал на часы. Ремешок их давно уже болтался у него на запястье, и он дважды проделывал дополнительные дырочки для застежки.
Как описать эту метаморфозу Хансону, он еще не решил его душу терзали любопытнейшие сомнения. Он сам с трудом верил тому, что происходит. Конечно, он расстался со значительной частью собственного веса (по восемь-девять фунтов в сутки!) и стал на фут ниже ростом, однако это не сопровождалось очевидным ухудшением здоровья. Фактически он вернулся к физическому состоянию четырнадцатилетнего школьника.
«Но чем же все-таки объяснить это?» — спрашивал себя Фримэн. Было ли омоложение чем-то вроде психосоматического эксцесса? Хотя он не испытывал какой-то сознательной враждебности к ожидаемому ребенку, не оказался ли он в объятиях приступа безумных репрессалий?[71]
Именно эта мысль, из которой вытекала логическая перспектива оказаться в обитых мягким стенах под наблюдением одетых в белое санитаров, испугала Фримэна и заставила молчать. Личный врач Элизабет был грубым несимпатичным типом, который наверняка сочтет Фримэна симулянтом-неврастеником, затеявшим бессмысленную игру с целью поставить себя в чувствах жены вместо собственного ребенка.
Фримэн знал также, что существуют и другие смутные, запутанные мотивы. Однако он испугался более глубокого анализа и начал читать журнал.
Это были комиксы для школьников. В раздражении Фримэн уставился на обложку, затем взглянул на стопку других журналов, которые Элизабет заказала у агента-распространителя печати в то утро. Они были такими же.
Его жена вошла в свою спальню по другую сторону площадки. Теперь Фримэн спал один в комнате (которая в недалеком будущем должна была послужить детской), отчасти для того, чтобы иметь возможность уединения, отчасти, чтобы избавиться от мучительной необходимости предъявлять свое усыхающее тело на обозрение жены.
Она вошла с небольшим подносом в руках, на котором были стакан теплого молока и два пирожных. Несмотря на то, что Фримэн терял в весе, у него был отличный аппетит здорового ребенка. Он взял пирожные и торопливо съел их.
Элизабет присела на постель и достала какую-то брошюру из кармана передника.
— Я хочу заказать детскую кроватку, — сказала она. — Не желаешь ли выбрать из этого проспекта?
Фримэн отмахнулся с безразличным видом:
— Любая подойдет. Выбери покрепче и потяжелее, откуда ему будет не так-то просто выбраться.
Жена кивнула, задумчиво наблюдая за ним. Весь день она занималась глажением и чисткой одежды, перебирала стопки сухого белья в шкафах на лестничной площадке, дезинфицировала корзины и ведра.
Они решили, что она будет рожать дома.
ЧЕТЫРЕ С ПОЛОВИНОЙ СТОУНА!
Фримэн не верил своим глазам, глядя на циферблат у своих ног. За два прошедших дня он потерял свыше одного стоуна шести фунтов и теперь едва мог дотянуться до ручки комода или открыть дверь. Стараясь не смотреться в зеркало, он осознал, что стал ростом с шестилетнего мальчугана с хрупкими грудью и шеей и нежным личиком. Полы халата волочились теперь за ним по полу, и лишь с огромным трудом продевал он сквозь его обширные рукава свои ручонки.
Когда появилась Элизабет с завтраком, она критически оглядела его, поставила поднос и отправилась в одному из шкафов на лестничной площадке. Она вернулась с маленькой спортивной рубашкой и парой вельветовых шорт.
— Не наденешь ли ты это, дорогой? — спросила она. — В них тебе будет удобней.
Не желая подавать голоса, деградировавшего до мелодичного дисканта, Фримэн отрицательно потряс головой. Когда жена ушла, он все же стряхнул с себя тяжелый халат и облачился в новые вещи.
Борясь с сомнениями, он размышлял теперь, как войти в контакт с врачом, не спускаясь вниз к телефону. До сих пор ему удавалось не возбуждать в жене подозрений, но теперь не оставалось никакой надежды продолжать эту игру. Он едва достигал ей до талии. Если она увидит его стоящим во весь рост, то не перенесет такого удара и умрет на месте.
К счастью, Элизабет оставила его одного. Однажды сразу после ленча прибыли двое мужчин на микроавтобусе из универмага и доставили голубую кроватку и манеж, но он притворялся спящим до тех пор, пока они не ушли. Несмотря на все волнения, Фримэн быстро уснул — он стал уставать после ленча — и, проснувшись через два часа, увидел, что Элизабет застелила кроватку, плотно накрыв голубые одеяльца и подушку пластиковой простыней.
Там же он заметил пристегнутые к ограждению кроватки белые кожаные ремешки.
На следующее утро Фримэн решил сбежать. Он весил всего три стоуна и один фунт, и одежда, которую Элизабет выдала ему накануне, размера на три не подходила ему теперь — брючки едва держались на его тонюсенькой талии. В ванной Фримэн разглядел в зеркале какого-то малыша, смотревшего на него широко открытыми глазами. Он смутно припомнил кое-какие сценки из своего детства.
После завтрака, когда Элизабет вышла в сад, он прокрался вниз. В окно он увидел, как она открыла мусорный ящик и сунула туда его деловой костюм и черные кожаные туфли.
Какое-то мгновение Фримэн беспомощно ожидал чего-то, а затем бросился обратно в свою комнату. Подниматься вверх по огромным ступеням оказалось намного труднее, чем он предполагал, и когда он достиг верхнего пролета, то слишком устал для того, чтобы затем вскарабкаться в постель. Тяжело переводя дух, он несколько минут постоял, прислонившись к кровати. Даже если он доберется до больницы, как убедить кого бы то ни было в том, что произошло с ним без того, чтобы не вызвали Элизабет для опознания?
К счастью, его мозг не пострадал. Если ему дадут карандаш и бумагу, он сумеет продемонстрировать интеллект взрослого человека и знание обстоятельств современной жизни, которым не обладает даже необыкновенно одаренный ребенок.
Первой задачей было добраться до больницы либо, в случае неудачи, — полицейского участка. К счастью, все, что ему предстояло делать — это идти по ближайшей магистрали, но тогда четырехлетний ребенок, путешествующий в одиночку, будет немедленно подобран дежурным констеблем.
Он услышал, как Элизабет медленно поднимается по лестнице; корзина с выстиранным бельем поскрипывала у нее под рукой. Фримэн попытался взобраться в постель, но преуспел только в том, что привел в беспорядок простыни. Когда Элизабет открыла дверь, он обежал кровать и спрятал там свое тщедушное тельце, положив подбородок на постельное покрывало.
Элизабет замерла на месте, разглядывая его пухлое личико. Какое-то мгновение они пристально смотрели друг на друга; сердце Фримэна сильно билось в груди, он по-прежнему не мог понять — как это жена все еще не замечает, что случилось с ним, но она попросту улыбнулась и прошла в ванную.
Держась за прикроватный столик, он вскарабкался на кровать и улегся там, отвернувшись от двери в ванную. Выйдя оттуда, Элизабет подоткнула его одеяло, а затем выскользнула из комнаты, притворив за собой дверь.
Остаток дня Фримэн провел в ожидании удобного случая для бегства, но жена была постоянно занята чем-то наверху, и вечером, еще довольно рано, он так и не смог удержаться от того, чтобы не заснуть глубоким, без сновидений, сном.
Он проснулся в просторной белой комнате. Голубоватые пятна света лежали на высоких стенах, на которых резвились и плясали гигантские фигуры животных. Оглядевшись, он догадался, что все еще находится в детской. На нем была пижама в горошек (Элизабет переодела его, пока он спал?), но даже эта пижама была слишком велика для его укоротившихся ножек и ручек.
Миниатюрный халатик был разложен в ногах постели, пара шлепанцев лежала на полу. Фримэн спустился с постели и надел их на ноги, с трудом сохраняя равновесие. Дверь была закрыта, и он, пододвинув стул и встав на него, повернул ручку, обхватив ее своими крохотными пальчиками.
На лестничной площадке он остановился, внимательно прислушиваясь. Элизабет была на кухне; она что-то бормотала про себя. Преодолевая с каждым шажком по одной ступеньке, Фримэн двинулся вниз по лестнице, наблюдая за женой сквозь прутья перил; Склонившись над плитой — ее широкая спина закрывала собой машину, — она подогревала молочную кашу. Фримэн дождался, когда она отвернулась к раковине, и, перебежав через холл в гостиную, выскочил во дворик через французское окно.
Толстые подошвы ковровых шлепанцев заглушали его шаги, и он припустился бегом, как только достиг укрытия — садика перед фасадом дома. Калитка оказалась слишком неподатлива, к пока он возился с запором, какая-то женщина средних лет остановилась подле него, неодобрительно поглядывая на окна дома.
Фримэн притворился, что возвращается обратно в дом, надеясь на то, что Элизабет еще не обнаружила пропажи. Когда женщина ушла, он открыл калитку и побежал по улице в сторону торгового центра.
Он очутился в огромном мире. Трехэтажные дома маячили над ним, словно стены каньона, конец улицы всего в сотне ярдов от него скрывался за горизонтом. Камни тротуара казались огромными и неровными, высокие платаны упирались в небо. С ним поравнялся автомобиль, между колесами которого были широкие просветы; автомобиль притормозил, постоял и проехал дальше.
Фримэн не отошел и пятидесяти ярдов от угла, когда споткнулся о камень и был вынужден остановиться. Переводя дыхание, он прислонился к стволу дерева; его ноги явно устали.
Фримэн услышал, как открылась калитка, и через плечо увидел Элизабет: она оглядывала улицу. Он быстро спрятался за дерево, подождал, пока она не вернется в дом, а затем снова пустился в путь.
Неожиданно, словно опустившись с неба, чья-то мощная рука приподняла его с тротуара. Широко разинув рот от удивления, он смотрел в лицо мистеру Симондсону — своему управляющему банком.
— Раненько вы гуляете, молодой человек, — сказал Симондсон. Он опустил Фримэна на землю, крепко держа его за руку. Автомобиль Симондсона был припаркован в ближайшей подъездной аллее. Не выключив двигатель, он повел Фримэна по улице. Давай подумаем, где же ты живешь?
Фримэн попытался вырваться, отчаянно стараясь высвободить свою руку, но Симондсон почти не обратил на это внимания. Элизабет в переднике вышла из калитки и поспешила к ним. Фримэн попытался спрятаться за ноги Симондсона, но почувствовал, как сильные руки управляющего банком приподняли его и вручили Элизабет. Она крепко схватила его — его голова торчала над ее широким плечом, — потом, поблагодарив Симондсона, унесла его в дом.
Когда они шли по дорожке, Фримэн обмяк у нее на руках он не хотел больше жить. В детской он стал ждать мгновения, когда его ноги коснутся постели, чтобы быстро юркнуть под одеяло, но Элизабет осторожно опустила его на пол, и он обнаружил, что очутился в манеже. Он неуверенно держался за поручни, в то время как Элизабет, нагнувшись, оправляла на нем рубашечку. Затем, к облегчению Фримэна, она ушла.
Минут пять Фримэн робко держался за ограждение, переводя дух, и тут до его сознания стала постепенно доходить мысль, которой он так смутно опасался вот уже несколько дней — повинуясь какому-то необъяснимому ходу своей логики, Элизабет отождествляет его с младенцем в своей утробе! Не выказывая удивления по поводу трансформации Фримэна в трехгодовалого ребенка, его жена тем самым подтверждает факт, что воспринимает происходящее, как явление, сопутствующее ее собственной беременности. В своем сознании она уже материализовала ребенка, которого еще носила. По мере того, как Фримэн уменьшался в размере, равномерно, как в зеркале отражая рост ее ребенка, ее глаза словно отыскали какой-то общий для них обоих фокус — и все, что она видела, было образом ее ребенка.
Все еще раздумывая над способами осуществления побега, Фримэн обнаружил, что уже не в состоянии выбраться из манежа. Легкие деревянные стойки были слишком крепкими, и он не мог сломать их своими ручонками, и вся клетка была слишком тяжелой для того, чтобы приподнять ее. Обессилев, он присел на пол и стал нервно играть с большим разноцветным мячом.
Теперь он догадался, что вместо того, чтобы избегать Элизабет и скрывать свою трансформацию, он должен привлечь ее внимание и заставить признать его истинную личность.
Поднявшись на ноги, он стал раскачивать манеж из стороны в сторону, в конце концов развернув его таким образом, что острый угол застучал по стене.
Элизабет появилась из своей спальни.
— Ну, малыш, к чему весь этот шум? — спросила она улыбнувшись. — Не хочешь ли ты пирожного?
Она стала на колени подле манежа, и ее лицо оказалось всего в нескольких дюймах от лица Фримэна.
Собрав все мужество, Фримэн смотрел прямо на нее, изучая эти большие, немигающие глаза. Он взял пирожное, прочистил горло и сказал, тщательно выговаривая слова:
— Я н во бенок.
Элизабет взъерошила его длинные белокурые волосы.
— Правда? Какой ужас!
Фримэн затопал нйжками, затем скривил губы.
— Я н во бенок, — закричал он. — Я во уж.
Посмеиваясь про себя, Элизабет принялась освобождать от вещей шкафчик рядом с постелью. Покуда Фримэн пререкался с ней, тщетно стараясь четко выговаривать звуки, она вынула его смокинг и пальто, затем освободила комод, собрала вместе его рубашки, носки и сунула куда-то, завернув в простыню.
Расправившись с его вещами, она вернулась и разобрала постель, придвинув к стене вплотную, а на ее место поставила детскую кроватку.
Вцепившись в поручни манежа, ошарашенный Фримэн наблюдал, как последние останки его прежнего существования уносились куда-то вниз.
— Лизабе оги ме, я…!
Затем он сдался, пошарил по полу в поисках чего-либо пишущего. Собрав воедино все свои силы, он качнул манеж к стене и, пользуясь слюной, обильно бежавшей у него изо рта, большими буквами написал:
«Элизабет! Помоги мне. Я не ребенок!»
Стуча по полу кулачками, он наконец привлек внимание Элизабет, но, когда указал на стену, знаки уже высохли. Рыдая от бессилия, Фримэн проковылял по клетке к стене и принялся воспроизводить послание. Прежде чем ему удалось завершить создание двух или трех букв, Элизабет обхватила его рукой за талию и вынула из манежа.
Единственное кресло стояло во главе стола в столовой, а рядом был высокий стул. Все еще пытаясь составить членораздельное предложение, Фримэн почувствовал, как его вставили в стул, посадили и повязали шею большим слюнявчиком.
Во время еды он пристально наблюдал за Элизабет, надеясь отыскать в ее лице следы хотя бы мимолетного понимания того, что двухгодовалый ребенок, сидевший перед ней, был ее мужем. Фримэн дурачился с пищей, пытаясь состряпать на подносе вокруг тарелки какое-нибудь грубое послание, но когда указал жене на эти пятна, она лишь всплеснула руками и насухо вытерла поднос. Выбившись из сил, Фримэн позволил унести себя наверх и лежал теперь в кроватке под крошечными одеяльцами, прихваченный ремешками.
Время было против него. Теперь он спал большую часть дня. В первые часы после пробуждения он чувствовал себя посвежевшим и сильным, но энергия быстро оставляла его, и после каждого приема пищи неодолимая летаргия овладевала им, действуя словно снотворное. Смутно он понимал, что метаморфоза продолжается совершенно бесконтрольно — когда он проснулся, то сумел сесть с большим трудом. Попытка подняться на свои подгибающиеся ножки измотала его через несколько минут.
Он лишился дара речи! Он мог производить только смехотворное похрюкивание либо нечленораздельный лепет. Лежа на спине с бутылочкой теплого молока во рту, он понимал, что теперь его единственной надеждой был Хансон. Рано или поздно он обязательно появится и увидит, что Фримэн исчез, а все следы его существования тщательно прибраны.
Подпертый диванной подушкой, Фримэн сидел на ковре в гостиной и видел, как Элизабет опустошила его письменный стол и унесла вниз книги с полок рядом с камином. В сущности, она была теперь вдовствующей матерью годовалого ребенка, расставшейся с мужем еще в медовый месяц.
Подсознательно она уже приняла на себя эту роль. Когда они выходили на утренние прогулки, — Фримэн, прихваченный ремешками в коляске, с целлулоидным кроликом, гремящим в нескольких дюймах от его носа и доводившим его чуть ли не до сумасшествия, — то встречались со многими людьми, которых он видел раньше, и все они принимали за само собой разумеющееся тот факт, что он — сын Элизабет. Когда они склонялись над коляской, тыча его пальцем в живот, поздравляя Элизабет с тем, что ее ребенок такой большой и так развит, несколько раз заходил разговор о муже Элизабет, и она отвечала, что тот был в длительной командировке. По-видимому, она уже успела позабыть Фримэна, выбросив его из своей головы.
Он понял, как ошибался, когда они возвращались после такой очередной вылазки, которая оказалась его последней прогулкой.
Когда они приблизились к дому, Элизабет вдруг слегка замедлила шаг, покачивая коляску; по-видимому, она была не уверена, стоит ли ей возобновить движение. Кто-то кричал им что-то издалека, и когда Фримэн попытался вспомнить, кому принадлежит этот знакомый голос, Элизабет склонилась над ним и натянула капюшон ему на голову.
Пытаясь освободиться, Фримэн узнал высокую фигуру Хансона, громоздившуюся над коляской; он поигрывал своей шляпой.
— Миссис Фримэн, я пытался дозвониться вам всю неделю. Как вы поживаете?
— Очень хорошо, мистер Хансон. — Она развернула коляску, пытаясь отгородиться от Хансона. Фримэн увидел, как она сконфузилась. — Боюсь, мой телефон не в порядке.
Хансон обошел коляску, с интересом разглядывая Элизабет.
— Что случилось с Чарльзом в субботу? Пришлось отправляться в командировку?
Элизабет кивнула.
— Ему было очень жаль, но случилось что-то важное. Он пробудет в отъезде некоторое время.
«ОНА ЗНАЛА ВСЕ», — автоматически подумал Фримэн.
Хансон заглянул под капюшон:
— Решил прогуляться поутру, паренек? — Он повернулся к Элизабет: — Отличный ребенок. Обожаю сердитых. Сын вашей соседки?
Элизабет покачала головой:
— Сынишка друга Чарльза. Нам пора идти, мистер Хансон.
— Зови меня Роберт. До скорого.
Элизабет улыбнулась, ее лицо снова приняло спокойное выражение.
— Конечно, Роберт.
— Отличный спектакль, — с шаловливой ухмылкой Хансон удалился.
ОНА ЗНАЛА. Потрясенный, Фримэн как можно дальше оттолкнул от себя одеяльце, глядя вслед уходящему Хансону. Один раз тот обернулся, чтобы помахать Элизабет, которая в ответ подняла руку, а затем вкатила коляску в калитку.
Уставившись на Элизабет, Фримэн попытался сесть, в надежде, что она заметит следы гнева на его лице. Но она быстро зарулила коляску на дорожку, расстегнула ремни и вынула Фримэна.
Когда они поднимались по лестнице, он глянул через ее плечо на телефон — тот был отключен. Все это время она знала, что происходит, умело притворяясь, что не замечает его метаморфозы. Она предвидела каждую стадию этой трансформации — соответствующий гардероб подбирался наперед, вот откуда последовательность одеяний все меньшего и меньшего размера. Манеж и кроватка были заказаны для него, а не для ребенка.
Какое-то мгновение Фримэн даже засомневался, а была ли она вообще беременна. Припухлость на лице, раздавшаяся фигура ведь могли быть только его фантазией. Когда она сказала ему, что ждет ребенка, он не мог даже вообразить, что этим ребенком будет он.
Обращаясь с упакованным Фримэном довольно грубо, она положила его в кроватку, устроила под одеяльцем. Он слышал, как она быстро двигается внизу, по-видимому, готовясь к какому-то необычному делу. Почему-то она закрывала окна и двери. Прислушиваясь к этой возне, Фримэн чувствовал, что сильно замерз. Его тельце было спеленуто, как у младенца, массой теплых пеленок, но ему казалось, что его косточки были подобны сосулькам. Странная сонливость снизошла на него, унеся прочь страхи и гнев, и центр его мироощущения переместился от зрения к осязанию. Неяркий дневной свет жалил его в глаза, и когда они закрылись, он очутился в объятиях туманной дремы; нежная кожа его тела взывала о помощи.
Чуть позже он почувствовал, как руки Элизабет сняли с него одеяльца и понесли по коридору. Постепенно его память, хранившая воспоминания о доме и его собственной персоне, начала угасать, и его сморщенное тельце беспомощно прижалось к Элизабет, лежавшей на своей широкой кровати.
С отвращением почувствовав волосы, скребущие его по лицу, он впервые ясно отметил то, что так долго было в тумане. Перед самым концом он неожиданно издал крик радости и изумления, вспомнив забытый мир своего раннего детства.
Когда ребенок у нее в животе утих, пошевелившись в последний раз, Элизабет опустилась на подушку; родовые схватки медленно отступали. Постепенно она ощутила прилив новых сил, обширный мир внутри нее успокаивался, словно прокалывая самое себя. Пристально уставившись в потемневший потолок, она отдыхала несколько часов, время от времени устраивая поудобней свое большое тело в постели.
На следующее утро она поднялась на полчаса. Ребенок уже не казался таким тяжелым, а через три дня она смогла совсем покинуть постель, свободный халат скрывал все, что осталось от ее беременности. Она медленно принялась за последнее дело: убрала прочь все, что осталось от детской одежды, разобрала кроватку и манеж. Одежду она раскладывала по большим пакетам, затем позвонила в местную благотворительную организацию, откуда вскоре пришли за вещами. Коляску и кроватку она продала торговцу подержанными вещами, который однажды проезжал по улице, За два дня она уничтожила все следы своего мужа, содрав цветные картинки со стены детской и подвинув на середину комнаты запасную кровать.
Все, что оставалось, было лишь все уменьшающимся узелком в ее утробе, крохотным сжатым кулачком. Когда она почти перестала чувствовать его, она взяла свой ларец с драгоценностями и положила туда снятое обручальное кольцо.
На следующее утро, возвращаясь из торгового центра, Элизабет услышала, как кто-то окликает ее из автомобиля, припаркованного у ее калитки.
— Миссис Фримэн! — Хансон выпрыгнул из автомобиля и с веселым видом приблизился к ней. — Как приятно видеть, что вы так хорошо выглядите.
Элизабет ответила ему широкой приветливой улыбкой, ее красивое лицо приняло еще более чувственное выражение благодаря припухлости черт. На ней было яркое шелковое платье, и все видимые следы беременности исчезли.
— Где Чарльз? Все еще в отъезде? — спросил Хансон.
Губы Элизабет растянулись в улыбке еще шире и обнажили ее крепкие белые зубы. Ее лицо стало странно невыразительным, а глаза в тот же миг уставились в одну точку на горизонте, далеко от лица Хансона.
С неуверенным видом Хансон дожидался ответа, затем, поняв намек, склонился к приборной панели автомобиля и выключил двигатель. Он присоединился к Элизабет, открыв для нее калитку.
Так же Элизабет познакомилась со своим мужем. Три часа спустя метаморфоза Чарльза Фримэна достигла своей кульминации. В то последнее мгновение он достиг своего истинного начала — мгновение его зачатия совпало с мгновением его умирания, конец его последнего рождения с началом его первой смерти.
Один вместе с ребенком.
Перевод с англ. А. Кондракова
ЗОНА УЖАСА
Ларсен ждал Бейлисса весь день; психолог жил в соседнем шале и обещал заглянуть к нему еще вчера вечером. Это было похоже на Бейлисса — никогда не назначать точного времени. Этот высокий угрюмый мужчина с бесцеремонными манерами просто взмахнул неопределенно своим шприцем и пробормотал что-то о завтрашнем дне: он обязательно зайдет, может быть. Однако Ларсен отлично знал, что он появится, потому что случай был слишком интересным для того, чтобы его пропустить. Косвенно это имело для Бейлисса такое же значение, как и для него самого.
Дело было только в том, что беспокоиться приходилось Ларсену — к трем часам дня Бейлисс еще не материализовался. Чем он там еще занимался теперь, сидя в своей гостиной с белыми стенами, оборудованной кондиционером, прослушивая квартеты Бартока на стереосистеме? Между тем Ларсену не оставалось ничего другого, как только бродить по своему шале, бесцельно переходя из комнаты в комнату подобно тигру, страдающему неврозом страха; приготовить на скорую руку ленч: кофе и три таблетки амфитамина из личного запаса, о котором Бейлисс лишь смутно догадывался. В конце концов, нуждался же он в стимуляторах после обильных инъекций барбитуратов,[72] которыми Бейлисс накачивал его после приступа. Ларсен попытался успокоиться за чтением «Психологического анализа» Кремчера — тяжелого тома, полного графиков и таблиц: на этом настаивал Бейлисс, подчеркивая, что книга поможет до конца понять его случай. Ларсен просидел пару часов, но не продвинулся далее предисловия к третьему изданию.
Время от времени он подходил к окну и всматривался сквозь пластиковые жалюзи, ища признаки хоть какого-то движения в соседнем шале. Дальше лежала залитая солнцем, подобная огромной кости, пустыня, на фоне которой алые воздухообтекатели «понтиака» Бейлисса горели, словно хвостовое оперенье огненно-красного феникса. Три других шале пустовали. Этот комплекс содержался компанией по электронике, на которую он и Бейлисс работали в качестве сотрудников «восстановительного» центра для старших служащих и уставших «думающих» людей. Площадка в пустыне была выбрана благодаря ее «гипотензивным» достоинствам, так как предполагалось, что психическая нагрузка там равнялась нулю. Два — три дня, проведенных в неторопливом чтении, наблюдении за неподвижным горизонтом — и толерантность[73] поднималась до более приемлемого уровня.
Однако два дня, проведенные там Ларсеном, чуть было не свели его с ума. К счастью, рядом оказался Бейлисс со своими подкожными инъекциями. Хотя, нужно отметить, что этот человек обращался со своими пациентами довольно небрежно — он вообще считал, что им лучше полагаться на собственные силы. Например, он, Ларсен, почти целиком и полностью отвечал за диагнозы, Бейлисс же лишь вспрыскивал свое подкожное, швырял том Кремчера ему на колени и бросал наводящие на размышления реплики.
Может быть, Бейлисс дожидался чего-то? Ларсен попытался решить — не стоит ли ему позвонить Бейлиссу под каким-нибудь предлогом; номер «ноль» по внутренней системе так и просился на указательный палец. Затем он услышал стук двери и увидел, как высокая угловатая фигура психолога пересекает бетонную площадку, заполнявшую пространство между шале; он шел, низко склонив голову под лучами палящего солнца.
«Где же его кейс? — подумал Ларсен разочарованно. — Не надо рассказывать сказки о том, что он отказался от тормозов снотворного. А может быть, он попробует гипноз? Снова поток советов и предложений — и во время бритья я вдруг встану на голову».
Он впустил Бейлисса, суетясь вокруг него, покуда они шли в гостиную.
— Какого черта ты пропадал? — спросил он. — Неужели не видишь, что уже почти четыре?
Бейлисс уселся за миниатюрный письменный стол посреди гостиной и критически огляделся — Ларсену не нравилась эта уловка, которую он никогда не мог предвидеть заранее.
— Конечно, вижу. Времени мне всегда не хватает. Как себя чувствуешь сегодня? — Бейлисс указал на стул с прямой спинкой, стоящий в позиции, удобной для допроса. — Садись и постарайся расслабиться.
Ларсен раздраженно взмахнул рукой:
— Как тут расслабиться, когда приходится слоняться здесь в ожидании очередного взрыва?
Он приступил к анализу случившегося за истекшие сутки; ему нравилось это — пополнять историю болезни умеренными дозами комментария.
— Фактически ночь прошла спокойней. Кажется, я вхожу в другую зону. Все стабилизируется, и я уже не оглядываюсь через плечо то и дело. Я оставил внутренние двери открытыми, и прежде чем вхожу в комнату, намеренно воспроизвожу ее в голове, стараясь экстраполировать глубину и размеры, поэтому она не удивляет меня больше. Раньше, стоило мне открыть дверь, как я словно нырял в пустую шахту лифта.
Ларсен ходил взад и вперед по комнате, пощелкивая суставами пальцев. Наполовину закрыв глаза, Бейлисс наблюдал за ним.
— Я почти уверен, что другого приступа не последует, продолжал Ларсен. — По-видимому, самое лучшее для меня — немедленно отправиться обратно на завод. В конце концов, нет смысла отсиживаться здесь в неопределенном состоянии. Я чувствую себя более или менее прилично.
Бейлисс кивнул.
— В таком случае, почему ты такой дерганый?
Ларсен в раздражении сжал кулаки. Ему казалось, что он слышит, как бьется артерия у него на виске.
— Я совсем не дерганый! Ради бога, Бейлисс, как мне известно, современная точка зрения — психиатр и пациент как бы разделяют болезнь вместе, забывают о самих себе и несут равную долю ответственности. Ты же пытаешься избежать…
— Вовсе нет, — уверенно вставил свое слово Бейлисс. — Я полностью принимаю ответственность за тебя. Вот поэтому-то я и хочу, чтобы ты оставался здесь до тех пор, пока не придешь в норму.
Ларсен фыркнул:
— В норму! Теперь ты пытаешься заставить все выглядеть, как в фильме ужасов. Все, что со мной случилось, было просто галлюцинацией. Я даже не совсем уверен, что это именно так. — Он показал в окно. — Подумаешь, внезапно открылись ворота гаража, да еще при таком солнце… Возможно, это была просто тень.
— Ты описал все довольно точно, — вставил Бейлисс. — Цвет волос, усы, во что тот был одет.
— Обратное видение. Подробности во время сновидения достоверны тоже. — Ларсен пододвинул стул и наклонился над столом: — Еще одно. Мне кажется, что ты неискренен.
Их глаза встретились. Какое-то мгновение Бейлисс пристально изучал Ларсена, отметив его сильно расширившиеся зрачки.
— Ну, и что ты скажешь на это? — нажимал Ларсен.
Бейлисс застегнул пиджак и прошел к двери:
— Я загляну завтра. Тем временем попытайся немного расслабиться. Не хочу пугать тебя, Ларсен, но проблема может оказаться намного сложней, чем ты себе представляешь.
Он кивнул и выскользнул за дверь прежде, чем его собеседник смог что-либо ответить.
Ларсен снова подошел к окну и сквозь жалюзи наблюдал за тем, как психолог скрылся в своем шале. Потревоженный на мгновение солнечный свет снова лег тяжелым бременем на пустыню. Через несколько минут звуки одного из квартетов Бартока с раздражающей настойчивостью заполнили собой пространство над бетонной площадкой между шале.
Ларсен вернулся к столу и присел, агрессивно выдвинув вперед локти. Бейлисс выводил его из себя своей невротической музыкой и приблизительными диагнозами. Он почувствовал искушение тут же забраться в свой автомобиль и покатить на завод. Однако, строго говоря, психолог стоял выше Ларсена по должности и, по-видимому, имел над ним административную власть в этих шале, тем более что пять суток, которые он провел здесь, шли за счет компании.
Он осматривал безмолвную гостиную, отметив взглядом прохладные горизонтальные тени на стенах, вслушиваясь в успокаивающее гудение кондиционера. Спор с Бейлиссом взбодрил его, и он чувствовал себя спокойно и уверенно. Конечно, остатки напряжения и беспокойства еще давали себя знать, и он с трудом заставлял себя не смотреть на открытые двери в спальню и на кухню.
Ларсен приехал в шале пять дней назад, переутомленный работой, на грани нервного срыва. Вот уже три месяца, как он работал над программированием сложной схемы огромного мозгового имитатора, который создавало «Подразделение передовых проектов» компании для одного из главных психиатрических фондов. Это была полная электронная модель центральной нервной системы, где каждый уровень[74] был представлен отдельным компьютером, в то время как другие компьютеры содержали банки памяти, в которых сон, напряжение, агрессивность и другие психические функции были накоплены и закодированы, все вместе создавая блоки, на которых можно было воспроизводить и проигрывать модели болезни и синдромы выздоровления — любой психический комплекс по желанию.
Группы проектировщиков, работавшие над стимулятором, находились под пристальным наблюдением Бейлисса и его ассистентов, и еженедельные тесты показали рост нервного истощения у Ларсена. В конце концов Бейлисс снял его с работы над проектом и отправил в пустыню для поправки здоровья.
Ларсен был только рад отвлечься от дела. Первые два дня он бесцельно бродил вокруг пустующих шале, пребывая в состоянии приятного опьянения от прописанных Бейлиссом барбитуратов; он осматривал белую поверхность пустыни, отходя ко сну к восьми и отсыпаясь до полудня. Каждое утро из города приезжала уборщица, она же пополняла запасы продуктов и оставляла листочки с меню, но Ларсен так и не встречался с ней. Он наслаждался одиночеством. Намеренно не входя в контакт с кем-либо, позволяя природным ритмам своего мозга восстанавливаться, он знал, что скоро поправится.
Однако в действительности первая же личность, которую он увидел, явилась словно из кошмарного сна.
Ларсен до сих пор с содроганием вспоминал эту встречу. На третий день после ленча он решил прокатиться по пустыне и обследовать заброшенную кварцевую шахту в одном из каньонов. Предстояла двухчасовая поездка, и он приготовил термос охлажденного мартини. Гараж примыкал к шале со стороны входа на кухню и был оборудован скользящей стальной дверью на роликах, поднимавшейся вертикально вверх и убиравшейся под крышу.
Ларсен запер шале, затем поднял ворота и вывел автомобиль на бетонное покрытие. Возвращаясь за термосом, который он оставил на скамье у задней стены гаража, он заметил полную канистру бензина в одном из затененных углов. Какое-то мгновение он выжидал, подсчитывая в уме количество миль, которые ему предстояло проехать, затем решил взять канистру с собой. Он подтащил ее к машине, затем повернулся, чтобы опустить ворота.
Когда он впервые поднимал ворота, какой-то ролик заело, и они застряли на уровне его подбородка. Теперь, навалившись на ручку весом всего тела, Ларсен сумел опустить ворота на несколько дюймов, но ему не хватило инерции, чтобы сделать это до конца. Солнечный свет отражался от стальных пластин ворот и ослеплял его.
Обхватив ворота ладонями изнутри, он слегка поддернул их вверх, чтобы увеличить размах при движении вниз.
У него перед глазами была лишь небольшая щель, дюймов шесть шириной, но этого было достаточно, чтобы видеть, что происходит в гараже.
Прячась в тени у черной стены, около самой скамьи маячила смутно очерченная, но все же ясно распознаваемая фигура человека. Незнакомец стоял неподвижно, свободно опустив руки вдоль туловища, и смотрел на Ларсена. На нем был светлый кремовый костюм. Покрытый пятнами тени, он выглядел как-то фрагментарно — аккуратная голубая спортивная рубашка и двухцветные туфли. Он был массивного сложения, со щеткой жестких усов под носом, пухлым полноватым лицом; глаза незнакомца не мигая уставились на Ларсена и все же каким-то непостижимым образом смотрели чуть в сторону.
Все еще придерживая ворота обеими руками, Ларсен с изумлением разглядывал человека. Дело было не только в том, что тот просто не мог появиться в гараже, — там не было ни окон, ни боковых дверей — в самой позе его просматривалась явная агрессивность.
Ларсен собирался было окликнуть незнакомца, когда тот вышел из тени и двинулся к нему.
Ларсен отпрянул в ужасе. Темные пятна, которыми был изборожден костюм незнакомца, оказались не тенями вовсе, а очертаниями рабочей скамьи, находившейся у него за спиной.
Тело человека и его одежда были прозрачны. Словно ударенный током, вернувшись к жизни, Ларсен лишь ухватился покрепче за ворота и резко опустил их вниз. Он быстро сунул на место задвижку, обеими руками повернул ее в положение «заперто» и дополнительно прижал коленями.
Чуть ли не парализованный, со сведенными мышцами, обливаясь потом, Ларсен все еще держал ворота гаража, когда полчаса спустя к нему подъехал Бейлисс.
Ларсен раздраженно барабанил пальцами по столу, затем встал и прошел на кухню. Лишенный барбитуратов, которым должны были противодействовать три таблетки амфитамина, он почувствовал себя сверхвозбужденным. Он включил кофеварку, затем выключил ее, кое-как добрался до гостиной и уселся на кушетку с томом Кремчера в руках.
Он прочитал несколько страниц; нетерпение, в нем нарастало. Какой свет проливал Кремчер на его проблему, было неясно. В основном, описывались всевозможные случаи глубокой шизофрении и необратимых параноидальных явлений. Его же собственная проблема была более поверхностной, просто небольшое отклонение психики из-за перегрузок. Почему Бейлисс упорно не хочет замечать этого? По какой-то необъяснимой причине он словно сознательно желал иметь дело с более глубоким кризисом, возможно, потому, что, будучи психиатром, сам тайно желал стать пациентом, чтобы изучать болезнь изнутри.
Ларсен отшвырнул книгу в сторону и взглянул через окно на пустыню. Неожиданно в шале словно потемнело, домик словно сжался, став клаустрофобическим фокусом сдерживаемой агрессивности. Ларсен встал, подошел к двери и вышел на открытый воздух.
Сгруппированные свободным полукругом, все шале, казалось, приникли к земле, когда он прошелся по бетонному покрытию на сотню ярдов в сторону. Далекие горы казались огромными. Дело шло к вечеру, начинало смеркаться, и небо над головой налилось яркой, словно вибрирующей голубизной, пространство пустыни было испещрено обширными прогалинами теней, которые ложились на равнину от гор, находившихся перед солнцем. Ларсен оглянулся на шале. Там не было ни единого признака жизни, если не считать слабого, рассогласованного, дисгармонического эха вялой музыки, которую слушал Бейлисс. Внезапно пейзаж показался Ларсену нереальным.
Размышляя над этим явлением, Ларсен почувствовал вдруг, как что-то уводит его мысли в сторону. Ощущение было неопределимо словами и подобно ожидаемому решению, которое так и не материализовалось; оно походило на забытое намерение. Он напряг память, одновременно безуспешно пытаясь вспомнить, выключил ли он кофеварку.
Ларсен вернулся к шале, заметив, что оставил открытой дверь на кухню. Он направился к дому, чтобы закрыть эту дверь, и, проходя мимо окна гостиной, заглянул в него.
На кушетке, скрестив ноги, сидел человек, его лицо скрывал том Кремчера. Сначала Ларсен подумал, что это Бейлисс пришел навестить его, и направился в дом, чтобы приготовить кофе для двоих. Однако он тут же отметил про себя, что из шале Бейлисса все еще доносится музыка.
Осторожно ступая, Ларсен вернулся к окну. Лицо человека все еще оставалось невидимым, но одного взгляда было достаточно для того, чтобы убедиться в том, что это не Бейлисс. Он был одет, как и два дня назад, все в тот же кремовый костюм и в те же двухцветные туфли. Однако на сей раз незнакомец не был галлюцинацией. Его руки и одежда были настоящими, осязаемыми. Он чуть пересел на кушетке — на одной из подушек осталась вмятина — и перевернул страницу книги, перегнув корешок.
У Ларсена участился пульс, он не мог оторваться от окна. Что-то в этом человеке, то ли поза, то ли манера, с какой он держал руки, убедило Ларсена в том, что он видел его где-то, еще до той мимолетной встречи в гараже.
Человек немного опустил книгу, а затем швырнул ее на кушетку рядом с собой. Потом он выпрямился и посмотрел прямо в окно, сфокусировав взгляд в какой-то точке всего в нескольких дюймах от лица Ларсена.
Словно загипнотизированный, Ларсен тоже уставился на человека. Он бесспорно узнал его, это пухлое лицо, нервные глаза, чересчур густые усы. Теперь, когда он наконец-то разглядел его, он понял, что знает этого человека лучше, чем просто хорошо, даже лучше, чем кто-либо другой.
Этот человек был он сам.
Бейлисс сунул снотворное в кейс и поставил его на крышку проигрывателя.
— Термин галлюцинация в данном случае совсем не подходит, — сказал он Ларсену, который лежал, распростершись на кушетке Бейлисса, и прихлебывал мелкими глотками из стакана разогретый виски. — Перестань употреблять это слово. Возникновение образа значительной силы и длительности на сетчатке глаз, но никак не галлюцинация.
Ларсен реагировал слабо. Час назад он ввалился в шале Бейлисса, в буквальном смысле слова вне себя от ужаса. Бейлисс успокоил его, затем приволок по бетонному покрытию обратно к окну гостиной, заставив воспринять тот факт, что двойник уже исчез. Бейлисс совсем не удивился, узнав о личности призрака, и это обстоятельство беспокоило Ларсена не меньше, чем само явление. Что еще Бейлисс утаивал от него?
— Меня удивило, что ты сам не осознал этого раньше, — заметил Бейлисс. — Ведь твое описание того человека в гараже было таким ясным — такие же кремовый костюм, рубашка и туфли, не говоря уж просто о физическом сходстве, вплоть до усов.
Немного оправившись, Ларсен присел. Он разгладил руками свой кремовый габардиновый костюм и смахнул пыль с бело-коричневых туфель.
— Благодарю за разъяснение. Все, что тебе осталось рассказать мне — кто же это?
Бейлисс присел на стул.
— Что ты имеешь в виду — кто он? Конечно, это ты сам.
— Я понимаю это. Но почему, откуда он появляется? Боже, наверное, я схожу с ума.
Бейлисс прищелкнул пальцами.
— Вовсе нет. Возьми себя в руки. Это чисто функциональное нарушение, подобное тому, когда двоится в глазах или амнезии.[75] Если бы случилось что-либо пострашней, я бы давно вытащил тебя отсюда. Возможно, стоило бы сделать это, но мне думается, можно и так найти выход из лабиринта, в котором ты блуждаешь.
Он достал записную книжку из нагрудного кармана.
— Давай посмотрим, что мы имеем. Итак, два обстоятельства особенно очевидны. Первое, призрак сам по себе. В этом нет никаких сомнений — это твоя точная копия. Хотя еще важней то, что он подобен тебе в настоящем, это твой идеальный современник во времени, совсем не идеализированный, не воображаемый и ничем не искаженный. Это не сверкающий герой твоего супер-эго либо изможденный старикан на пороге твоей смерти. Практически, этот образ — фотография. Скоси глаза — и ты увидишь моего двойника. Твой же не так уж необычен, за тем исключением, что смещение происходит не только в пространстве, но и во времени. Как видишь, второе, что я подметил в твоем описании призрака — это не только, так сказать, фото-двойник, он занимается точно тем же, что ты делал сам несколько минут назад. Человек в гараже стоял у рабочей скамьи, то есть там же, где стоял ты сам, когда раздумывал, брать или не брать с собой канистру с бензином. Опять же, человек, читающий в кресле, с точностью повторял то, что ты проделывал с той же самой книгой пять минут назад. Он даже уставился в окно — ведь ты же сказал, что сам сделал это, прежде чем отправиться на прогулку. Ларсен кивнул, посасывая виски.
— Так ты полагаешь, что галлюцинация была попросту умственной ретроспективой?
— Абсолютно точно. Поток оптических образов, достигающий определенных клеток мозга, сравним с кинолентой. Каждый образ откладывается там, а это тысячи катушек пленки, сотни тысяч часов истекшего времени. Иногда ретроспективы вызываются по команде, намеренно, когда ты сознательно отбираешь кадры в своей фильмотеке: это сценки из собственного детства, образы соседних улиц, которые мы носим с собой весь день близко к поверхности нашего сознания. Однако стоит слегка сместить проектор — это может создать перенапряжение, — встряхнуть его так, что фильм вернется на несколько сотен кадров назад — и произойдет наложение, повтор уже просмотренных, показанных кадров; в твоем случае — ты снова увидишь самого себя сидящим на кушетке. Очевидная неуместность такого явления — вот что пугает.
Ларсен сделал движение стаканом:
— Все же, подожди минутку. Когда я сидел на кушетке и читал Кремчера, я же фактически не видел самого себя, равно как и сейчас. Тогда возникает вопрос, откуда же берутся эти наложенные образы?
Бейлисс отложил в сторону записную книжку:
— Не воспринимай аналогию с кино буквально. Может быть, ты и не видишь самого себя сидящим на кушетке, однако сознание того, что ты находишься именно там, обладает такой же силой, как и любое визуальное подтверждение. Это поток осязаемых, позиционных и психических образов, они-то и составляют банк реальных данных. И совсем немного экстраполяции необходимо для того, чтобы переместить глаз наблюдателя на другую часть комнаты. Тем не менее чисто визуальные воспоминания, память не бывают абсолютно точными.
— Но как ты объяснишь, почему человек, которого я видел в гараже, был прозрачным?
— Очень просто. Процесс только начинался, отчего интенсивность образа была еще слабой. То, что ты видел сегодня утром, намного сильней. Я намеренно снял с тебя снотворное, отлично сознавая, что те стимуляторы, которые ты принимаешь тайком, обязательно произведут какой-нибудь эффект, если позволить им действовать, не встречая противодействия лекарств.
Он подошел к Ларсену, взял у него стакан и наполнил его из графина.
— Но давай-ка подумаем о будущем. Самое интересное, это тот свет, который твой случай бросает на один из старейших архетипов поведения человеческой психики — возникновение призраков, то есть всей армии сверхъестественных существ: духов, ведьм, демонов и так далее. А не являются ли они фактически просто оптическими ретроспективами, перемещенными образами самого наблюдателя, материализующимися на сетчатке глаза чувствами, возникающими от страха, тяжелой утраты, религиозной одержимости? Самое примечательное, что можно сказать о большинстве призраков, это прозаичность, с какой они предстают перед глазами, по сравнению с изощренными литературными образами, созданными великими мистиками и мечтателями. Туманная белая простыня — вероятнее всего, собственный ночной халат наблюдателя. Вообще, это интересная тема для дискуссии. Поразмышляй о литературных призраках — например, какова суть самого Гамлета, если ты знаешь, что призрак его убиенного отца — в действительности просто образ в его голове?
— Хорошо, хорошо, — с раздражением вмешался Ларсен. — Но мне-то чем это может помочь?
Бейлисс перестал задумчиво смотреть в пол и перевел взгляд на Ларсена:
— Я как раз подхожу к этому. Существуют два метода обращения с расстройствами, подобными твоему. Классический состоит в том, чтобы накачать человека до отказа успокоительными средствами и уложить в постель на годик или около этого. Тогда постепенно сознание как-нибудь соберется вместе. Это долгое дело, утомительно скучное как для больного, так и для окружающих. Альтернативный метод, честно говоря, пока экспериментальный, но, мне кажется, он подойдет. Я заговорил о таких явлениях, как призрак, потому что это интересно само по себе. Были отмечены тысячи случаев, когда призраки преследовали людей, и очень мало случаев, когда преследовались сами призраки, но еще не было такого, чтобы призрак и наблюдатель встречались фактически по их собственному хотению. Скажи мне, что случилось бы, если бы ты, увидев своего двойника сегодня днем, сразу же вошел в гостиную и заговорил с ним?
Ларсен содрогнулся.
— По-видимому, ничего, если верить твоей теории. Мне не хотелось бы этого.
— Но это как раз то, что ты сделаешь. Не поддавайся панике. Следующий раз, когда застанешь двойника за чтением Кремчера, подойди и заговори с ним. Если он не ответит, сядь на его стул сам. Вот и все, что тебе нужно сделать.
Энергично жестикулируя, Ларсен вскочил на ноги.
— Ради бога, Бейлисс, ты что, тоже сошел с ума? Ты сам-то представляешь себе, что значит внезапно увидеть самого себя? Все, что хочется сделать, так это поскорее удрать.
— Понимаю, но это-то хуже всего. Почему же тогда, когда кто-нибудь пытается сцепиться с призраком, тот немедленно исчезает? Потому что, силой вытесняя призрак из физически занимаемых им координат, ты снова настраиваешь свой психический проектор на один только канал. Два обособленных потока образов на сетчатке глаз совпадают и сливаются вместе. Тебе нужно попробовать, Ларсен. Возможно, для этого придется приложить немалые усилия, зато ты излечишься раз и навсегда.
Ларсен упрямо покачал головой:
— Сама идея сумасшедшая. — Про себя он добавил: «Я скорее застрелю паразита».
Затем он вспомнил о револьвере 38-го калибра, лежавшем у него в дипломате, и присутствие оружия придало ему ощущение безопасности посильней всех пилюль и советов Бейлисса. Оружие являлось обыкновенным символом агрессии, и даже если призрак был просто порождением его собственного мозга, револьвер придавал уверенность, которая все еще оставалась не пораженной и была достаточной для того, чтобы рассеять чары двойника.
С полузакрытыми от усталости глазами Ларсен слушал Бейлисса. Полчаса спустя он вернулся к себе, отыскал револьвер и спрятал его под журналом в почтовом ящике, висевшем на входной двери снаружи. Оружие было слишком громоздким для ношения и при этом могло выстрелить случайно и ранить его. А вот в ящике револьвер будет храниться надежно, и его легко взять, он будет всегда наготове, чтобы по доброй старой традиции наказать любого двойника, который осмелится сунуть нос в игру.
Бейлисс уехал в город, чтобы купить новую иголку для стереопроигрывателя, договорившись с Ларсеном, что тот приготовит ленч, покуда он в отъезде. Ларсен сделал вид, что ему не по душе домашняя работа, хотя тайно был рад любому занятию. Ему надоело слоняться вокруг шале, словно подопытное животное, под наблюдением Бейлисса, с интересом дожидавшегося очередного кризиса. Если повезет, ЭТО может не повториться назло Бейлиссу, который всегда все выставлял в выгодном ему свете.
Накрыв на стол на кухоньке Бейлисса, приготовив побольше льда для мартини (Ларсен решил, что алкоголь — это то, что нужно, чтобы послужить отличным противоядием от больной ЦНС), Ларсен пошел в свой шале и надел чистую рубашку. Повинуясь какому-то импульсу, он решил также переобуться и переодеться — выудил из шкафа синий деловой костюм из саржи и пару черных оксфордских туфель, которые были на нем, когда он приехал в пустыню. Не то чтобы ассоциации, связанные с кремовым костюмом и спортивными туфлями, были особенно неприятными, просто полная смена одежды могла бы надежно предупредить новое появление двойника; Ларсен как бы создал новый психический образ самого себя, достаточно мощный для того, чтобы подавить любые побочные варианты. Посмотрев на себя в зеркало, он решил довести свой новый облик до совершенства — взял электробритву и начисто сбрил усы, затем тщательно зачесал волосы назад,
Происшедшие перемены во внешности оказались довольно эффективными. Когда Бейлисс выбрался из машины и вошел в гостиную, то едва узнал Ларсена. Он даже отпрянул назад при виде прилизанной фигуры в темном костюме, которая вышла ему навстречу из кухни.
— Какого черта ты резвишься? — коротко бросил он Ларсену. — Сейчас не время для розыгрышей. — Он критически осмотрел Ларсена: — Ты выглядишь, как дешевый детектив.
Ларсен заржал. Этот случай привел его в хорошее настроение, и после нескольких рюмок мартини он почувствовал себя весьма бодро. Он болтал без умолку в течение всего ленча. Как ни странно, Бейлисс, казалось, хотел как можно скорее отделаться от него. Он догадался — почему вскоре после того, как вернулся в свой шале. Его пульс участился. Он нервно слонялся по комнатам; мозг проявлял необычно высокую активность. Мартини лишь частично был повинен в этом. Теперь, когда воздействие вина прекращалось, Ларсен стал ощущать работу истинного возбудителя — стимулирующего средства, которое Бейлисс дал ему в надежде предупредить наступление следующего кризиса.
Ларсен стоял у окна, сердито разглядывая шале Бейлисса. Открытая бессовестность Бейлисса приводила его в ярость. Его пальцы нервно бегали по пластинам жалюзи. Неожиданно он почувствовал, что хочет развалить к черту весь этот дом и удрать подальше. Шале со своими фанерными стенами и похожими на спичечные коробки мебелью казалось ему просто картонной тюрьмой. Все, что случилось с ним здесь: нервное расстройство и эти кошмарные призраки, вероятнее всего, были нарочно запрограммированы Бейлиссом.
Ларсен заметил, что стимулирующее средство обладает огромной силой воздействия. Оно сказывалось постепенно и неумолимо. Тщетно он пытался расслабиться; отправился в спальню, со злости ударил ногой свой чемодан, затем выкурил две сигареты, даже не заметив этого.
В конце концов, не в состоянии больше сдерживать себя, он грохнул входной дверью и побежал по бетонному настилу, полный решимости выяснить все начистоту и потребовать успокоительного.
Шале Бейлисса оказалось пустым. Ларсен пронесся через весь дом на кухню и в спальню и обнаружил, к своей досаде, что Бейлисс принимает душ. Он пробыл в шале еще несколько мгновений, затем решил вернуться к себе.
Опустив голова, Ларсен быстрыми шагами пересек пространство, залитое солнечным светом, и ему оставалось всего несколько шагов до скрывавшейся в тени двери, когда он заметил, что там стоит человек в синем костюме и смотрит на него.
С прыгающим в груди сердцем Ларсен отпрянул назад, узнав своего двойника прежде, чем сумел воспринять полную перемену костюма, гладкое выбритое лицо, изменившиеся черты. Человек вел себя как-то неуверенно, шевелил пальцами и, казалось, собирался выступить вперед, на освещенное пространство.
Ларсен был от человека не далее десяти футов и находился на одной линии, соединявшей его и дверь шале Бейлисса. Ларсен отступил назад, одновременно отклоняясь влево, под укрытие тени от гаража. Там он остановился и взял себя в руки. Двойник все еще чего-то ждал у двери; Ларсен был уверен, что тот находится там дольше, чем он сам. Ларсен взглянул в лицо призраку с отвращением, и не столько от того, что этот образ был точной копией его самого — Ларсена неприятно поразил странный глянец кожи двойника, придававший ему вид трупа или восковой фигуры. Именно на этот ужасный глянец обратил внимание Ларсен. Между тем двойник находился на расстоянии вытянутой руки от почтового ящика, содержащего револьвер 38-го калибра, но ничто на свете не смогло бы заставить Ларсена подойти к нему.
Он решил проникнуть в шале и понаблюдать за двойником сзади. Вместо того, чтобы воспользоваться кухонной дверью, которая давала доступ в гостиную непосредственно справа от двойника, он решил обогнуть гараж и влезть в окно спальни на противоположной стене дома.
Он пробирался за гаражом по кучам штукатурки, опутанным какой-то проволокой, когда услышал голос:
— Ларсен, ты идиот. Как ты думаешь, чем ты сейчас занимаешься?
Это был Бейлисс, высовывающийся из окна своей ванной; Ларсен споткнулся, однако удержался на ногах и зло помахал Бейлиссу. Тот покачал головой и высунулся еще дальше, одновременно вытирая шею полотенцем.
Ларсен вернулся назад тем же путем и просигналил Бейлиссу, чтобы тот не шумел. Он пересекал пространство между стеной гаража и ближайшим углом шале Бейлисса, когда краем глаза заметил темную фигуру в синем костюме, стоявшую к нему спиной в нескольких ярдах от ворот гаража.
Двойник переместился. Ларсен остановился, позабыв про Бейлисса, и стал осторожно наблюдать за двойником. Тот привстал на цыпочки, как это делал Ларсен всего минуту назад, приподняв локти, чуть помахивая руками, в защитной позе; Его глаза не были видны, но казалось, что он смотрит прямо на входную дверь шале.
Автоматически Ларсен перевел взгляд на эту дверь.
Первоначальная фигура в синем костюме все еще стояла там, щурясь от солнца, вглядываясь в залитое солнцем пространство перед собой.
Теперь двойников стало двое. Какое-то мгновение Ларсен беспомощно смотрел на эти две фигуры, стоявшие по обе стороны бетонного покрытия, словно полуожившие манекены на выставке восковых фигур.
Фигура, стоявшая спиной, повернулась на пятке и стала быстро приближаться к нему. Она смотрела, словно незрячими глазами, на Ларсена, и солнечный свет озарял ее лицо. Ощутив внезапный прилив ужаса, Ларсен впервые увидел, насколько совершенно сходство двойника с ним — те же пухлые щеки, та же родинка у правой ноздри, белая кожа над верхней губой с порезом от бритвы — след сбритых усов. Но еще раньше Ларсен понял, что этот человек в состоянии шока — нервно подергивающиеся губы, напряженные мышцы шеи и лица; полное измождение, скрываемое под маской спокойствия.
В горле у Ларсена пересохло, он повернулся и помчался прочь.
Он остановился, отбежав две сотни ярдов от кромки бетонного покрытия, уже в пустыне. Тяжело переводя дух, он опустился на одно колено подле проступавшего из песка узкого камня-песчаника и взглянул на шале — второй двойник пробирался вокруг гаража по брошенной проволоке, другой пересекал пространство между шале. Не подозревая о существовании призраков, Бейлисс сражался с окном ванной, отодвинув его назад так, чтобы оно не мешало смотреть на пустыню.
Пытаясь успокоиться, Ларсен вытер лицо рукавом пиджака. Все же Бейлисс был прав, хотя не предполагал, что во время приступа больной может видеть более одного образа. Однако фактически Ларсен раздвоился последовательно и быстро — за последние пять минут каждый призрак объявился в самый критический момент. Размышляя о том, не стоит ли просто подождать, когда призраки исчезнут сами по себе, Ларсен вспомнил про револьвер в почтовом ящике. Какой бы иррациональной ни была надежда на него, но она казалась единственной. С помощью этой штуки он смог бы проверить, чего стоят на самом деле его двойники.
Выход известняка пролегал по диагонали в сторону бетонного покрытия. Встав на карачки, Ларсен пополз вдоль камня, иногда останавливаясь, — чтобы изучить обстановку. Оба призрака все еще сохраняли свое расположение, а вот Бейлисс справился с окном и куда-то исчез.
Ларсен достиг кромки бетона, который стелился по плоской площадке на фут выше поверхности пустыни, и двинулся вдоль его края туда, где старая пятидесятигаллонная металлическая бочка сулила ему надежное укрытие и наблюдательный пункт. Чтобы добраться до револьвера, он решил обойти шале Бейлисса с дальней стороны, тогда ворота его собственного гаража окажутся без охраны, если не считать призрака, дежурившего у гаража.
Ларсен собрался было двинуться вперед, когда что-то заставило его оглянуться через плечо.
Вдоль камня, направляясь прямо к нему, опустив голову, почти касаясь руками земли, мчалось огромное, похожее на крысу существо. Через каждые десять — пятнадцать ярдов оно останавливалось, смотрело на шале, и Ларсен увидел мельком лицо этого создания — безумное, искаженное от ужаса — еще одна копия его самого!
— Ларсен! Ларсен!
Бейлисс стоял подле шале и махал рукой в сторону пустыни. Ларсен оглянулся на призрак, мчавшийся к нему, — оставалось всего около тридцати ярдов, — затем вскочил и кинулся без оглядки к Бейлиссу.
Тот крепко схватил его:
— Ларсен, что с тобой? У тебя приступ?
Ларсен, тяжело переводя дыхание, показал жестами на фигуры, окружавшие его.
— Останови их, Бейлисс, ради бога, — только и сумел вымолвить он. — Не могу избавиться от них.
Бейлисс встряхнул его.
— Ты что, видишь больше одного? Где они? Покажи мне.
Ларсен указал на две яркие фигуры, словно парящие подле шале, затем безвольно махнул рукой в сторону пустыни.
— У гаража, и вот там, у стены. Еще один прячется за камнями.
Бейлисс схватил его за руку.
— Пойдем-ка, тебе придется встретиться с ними лицом к лицу, убегать бесполезно.
Он попытался тащить Ларсена за собой к гаражу, но тот рухнул на бетон.
— Не могу, Бейлисс, поверь мне. У меня в почтовом ящике револьвер. Достань его. Это единственное средство.
Бейлисс выжидающе смотрел на Ларсена.
— Ну, хорошо. Постарайся держаться.
Ларсен указал на дальний угол шале Бейлисса.
— Буду ждать тебя там.
Когда Бейлисс убежал, он заковылял в ту сторону, на полпути споткнулся об остатки лестницы, валявшиеся на земле, и вывихнул правую лодыжку, угодив ногой между ступеньками.
Сжимая поврежденную ногу руками, Ларсен присел на землю, как раз в тот момент, когда между шале появился Бейлисс, в руке у него был револьвер. Он озирался по сторонам, стараясь разыскать Ларсена, который пытался позвать его.
Но прежде чем Ларсен успел открыть рот, он увидел, как двойник, который преследовал его за камнями, выпрыгнул из-за бочки и заковылял к Бейлиссу по бетонному покрытию. Он был истрепан и изможден, пиджак едва держался у него на плечах, узел галстука съехал под ухо. Итак, призрак все еще преследовал его, копируя его во всем, как одержимая тень.
Ларсен снова попытался позвать Бейлисса, но увидел такое, отчего у него перехватило дыхание.
Бейлисс смотрел на его двойника.
Ларсен встал на ноги, почувствовав прилив ужаса. Он хотел привлечь внимание Бейлисса, но тот смотрел только на призрака, а призрак указывал на другие фигуры, кивавшие в знак согласия.
— Бейлисс! — Крик утонул в грохоте выстрела. Бейлисс стрелял куда-то между гаражами, и эхо выстрела запрыгало между шале. Двойник был все еще подле него, указывая рукой во всех направлениях. Бейлисс поднял револьвер и выстрелил снова. Звуковая волна ударилась в бетон, чуть не оглушив Ларсена, и вызвала у него тошноту.
Теперь Бейлисс тоже видел одновременно возникших двойников, но не себя самого, а Ларсена, на персоне которого был сосредоточен его мозг последнее время. Повторение образа Ларсена, спешившего к нему, спотыкаясь, и указывающего во всех направлениях, происходило у него в мозгу, и это случилось как раз в то мгновение, когда он вернулся с револьвером, и теперь он искал цель.
Ларсен стал уползать прочь, стараясь поскорее добраться до угла. Третий выстрел громыхнул в воздухе, и вспышка отразилась в окне ванной.
Ларсен достиг угла, когда услышал крик Бейлисса. Опершись рукой о стену, он оглянулся.
С широко открытым ртом Бейлисс дикими глазами смотрел прямо на него, словно гранату, сжимая в кулаке револьвер. Рядом с ним спокойно стояла фигура в синем костюме и поправляла галстук. Наконец Бейлисс осознал, что видит двух Ларсенов: одного совсем рядом, другого в двадцати ярдах поодаль у стены шале.
Откуда ему было знать, какая из этих фигур настоящий Ларсен? Казалось, он никак не мог разрешить эту загадку.
Затем двойник, стоявший почти вплотную к нему, поднял руку и указал на Ларсена, на ту самую стену, на которую Ларсен указывал сам минуту назад.
Ларсен пытался кричать, затем перевернулся к стене и пополз вдоль нее. Позади себя он услышал, как ботинки Бейлисса глухо застучали по бетону.
Он услышал только первый из трех выстрелов.
Перевод с англ. А. Кондракова
ГОРЛОВИНА 69
Первые дни все шло хорошо.
— Держитесь подальше от окон и забудьте об этом, — сказал им доктор Нейл. — Что касается вас, это еще одна вынужденная мера. В одиннадцать тридцать или двенадцать спуститесь в зал и побросайте мяч, поиграйте в настольный теннис. В два для вас прокрутят фильм в неврологической операционной. Пару часиков почитайте газеты, послушайте пластинки. Я появлюсь в шесть. К семи вы войдете в маниакальное состояние.
— Есть ли шанс появления провалов памяти? — спросил Авери.
— Абсолютно никакого, — ответил Нейл. — Если устанете, конечно, отдохните. Пожалуй, это единственное, к чему вам трудновато будет привыкнуть. Помните, что вы все еще сидите на 3500 калориях, поэтому ваш энергетический уровень — и вы заметите это, особенно днем, — будет все время на одну треть ниже. Вам самим придется следить за собой, вносить поправки в свое поведение. Все это, в основном, запрограммировано, но тем не менее учитесь, так сказать, играть в шахматы, овладевайте внутренним зрением.
Горелл наклонился вперед:
— Доктор, если уж так захочется, можно все-таки выглядывать из окна?
Доктор Нейл улыбнулся:
— Не беспокойтесь. Провода удалены. Теперь, даже если вы устанете, все равно не сможете заснуть.
Нейл подождал, пока трое мужчин покинут лекционный зал, направляясь назад, в Восстановительное крыло, а затем сошел с кафедры и закрыл за ними дверь. Это был невысокий широкоплечий мужчина старше пятидесяти, с резко очерченным нервным ртом и мелкими чертами лица. Он выхватил стул из переднего ряда и ловко уселся на него верхом.
— Ну? — спросил он. Морли сидел на столе у задней стены, рассеянно поигрывая карандашом. В свои тридцать лет он был самым молодым членом бригады, работавшей под руководством Нейла в клинике, но по какой-то непонятной причине Нейл любил потолковать именно с ним.
Он догадался, что Нейл дожидается ответа, и пожал плечами:
— Кажется, все в порядке. С чисто хирургической точки зрения выздоровление прошло успешно. Сердечные ритмы согласно ЭКГ в норме. Сегодня утром я просмотрел рентгеновские снимки — все залечилось просто великолепно.
Нейл с усмешкой наблюдал за ним:
— Вы говорите так, словно не одобряете чего-то.
Морли рассмеялся и встал на ноги:
— Конечно, одобряю. — Он прошелся между столами в своем расстегнутом белом халате, засунув руки глубоко в карманы. Нет, пока что вам удалось защитить свою позицию по каждому пункту. Вечеринка только начинается, а гости уже в чертовски хорошей форме. В этом нет никаких сомнений. Мне казалось, что трех недель будет недостаточно для того, чтобы вывести их из состояния гипноза, но и тут вы окажетесь, по-видимому, правы. Сегодня их первый самостоятельный вечер, посмотрим, что будет с ними завтра.
— А что вы ожидаете, так сказать, секретно? — спросил Нейл, криво улыбнувшись. — Интенсивной обратной реакции спинного мозга?
— Нет, — ответил Морли, ведь психометрические тесты показали, что ничего подобного не ожидается. Ни единой травмы. Он уставился на доску, а затем пристально посмотрел на Нейла: — Да, по осторожным предварительным оценкам, вы добились успеха.
Нейл оперся на локти, расслабил мышцы лица:
— Думаю, что я добился большего, чем просто успех. Заблокирование синапсов отсекло много данных, которые, как я полагал, останутся в центрах: незначительные отклонения психики, комплексы, небольшие фобии, в общем, перемены к худшему в психическом статусе. Большинство исчезли, по крайней мере, не обнаружились во время тестов. Однако все это побочные цели, и благодаря вам, Джон, и всем остальным в бригаде, нам удалось поразить главную цель.
Морли пробормотал что-то, но Нейл продолжал, по своему обыкновению проглатывая слова:
— Никто из вас еще не понимает этого, но совершен такой же огромный шаг вперед, как и тот, что проделал первый ихтиозавр, выйдя на сушу из моря 300 миллионов лет назад. Мы наконец-то освободили наше сознание, вытащив его из той архаичной сточной канавы, называемой сном, этого еженощного отступления в биологический автоматизм. Практически одним надрезом скальпеля мы добавили двадцать лет к человеческой жизни.
— Остается только надеяться, что люди сумеют распорядиться ими, — прокомментировал Морли.
— Погодите, Джон, — парировал Нейл, — это не аргумент. Что они собираются делать со временем, это их дело. Они возьмут из него все точно так же, как максимально пользуются всем, что нам уже дано. Думать об этом слишком рано, однако все же оценим универсальное применение достигнутого. Впервые человек станет жить все двадцать четыре часа в сутки, не уподобляясь треть суток роботу, с храпом развлекающемуся эротическими сновидениями.
Словно устав от тирады, Нейл замолчал и стал тереть глаза:
— Что же беспокоит вас?
Морли сделал беспомощный жест рукой:
— Не уверен… просто я… — Он потрогал пластиковый макет головного мозга на стенде рядом с доской. В одной из его плоскостей отражалась голова Нейла, искаженная, без подбородка, с огромным куполообразным черепом. Среди рабочих столов в пустом лекционном зале он казался каким-то сумасшедшим гением, терпеливо дожидающимся начала экзамена, которому никто не мог подвергнуть его.
Морли повернул макет пальцем — отражение Нейла поблекло, а затем исчезло. Какими бы ни были его сомнения, Нейл был, по-видимому, единственным человеком, который сумел бы понять их.
— Я знаю, все, что вы сделали — это отрезали несколько нервных узлов гипоталамуса. Понимаю — результат будет ошеломляющим. По-видимому, произойдет величайшая со времен грехопадения человека социальная и экономическая революция. Однако по какой-то необъяснимой причине у меня не выходит из головы рассказ Чехова, тот самый, об одном человеке, который поспорил на миллион, что проживет в полнейшем одиночестве в течение десяти лет. И все идет хорошо, но за минуту до того, как закончится срок, он сам, намеренно, покидает свою комнату. Конечно, он сошел с ума.
— Да?
— Не знаю, но я думаю об этом всю неделю.
Нейл фыркнул:
— Мне кажется, вы хотите сказать, что сон тоже что-то вроде коллективной деятельности и что эти трое теперь изолированы, лишены группового подсознательного призрачного океана снов? Так?
— Может быть.
— Вздор, Джон. Чем дальше мы прячем подсознательное в себе, тем лучше. Мы словно осушаем болота. С точки зрения физиологии, сон — не что иное, как причиняющие неудобство симптомы кислородного голодания мозга. Но не с этим вы боитесь расстаться, а со сном. Вы упрямо держитесь за свое кресло в первом ряду вашего личного кинозала.
— Вовсе нет, — мягко возразил Морли. Иногда агрессивность Нейла удивляла его, казалось, что тот считает сон сам по себе каким-то тайным позорным пороком. — Я просто имею в виду, что будь то к лучшему или к худшему, но Лэнг, Горелл и Авери заклинились на самих себя. Они никогда не смогут выйти из этого состояния, даже на пару минут, не говоря уж о восьми часах. Сколько бы вы выдержали сами? Может быть, нам просто нужна эта восьмичасовая скидка каждый день, чтобы облегчить бремя необходимости быть самим собой? Помните, что ни вы, ни я не сможем быть ежеминутно рядом с ними, чтобы пичкать их постоянно тестами и фильмами. Что произойдет, если они пресытятся собой?
«Этого не случится, — сказал себе Нейл. Он встал, ему внезапно наскучили рассуждения Морли. — Средний темп их жизни будет даже ниже, чем у нас; стрессы и напряжения не смогут даже выкристаллизоваться. Вскоре мы будем казаться им скопищем маньяков, которые полдня суетятся, как дервиши, а другую половину суток пребывают в ступоре».
Он двинулся к двери, потянулся к выключателю:
— Пока, увидимся в шесть.
Они вышли из аудитории и вместе пошли по коридору.
— Что вы собираетесь делать? — спросил Морли.
Нейл рассмеялся:
— А как вы думаете? Постараюсь хорошенько выспаться.
Сразу после полуночи Авери и Горелл играли в настольный теннис в залитом ярким светом гимнастическом зале. Оба были хорошими игроками и посылали шарик на сторону противника, прилагая минимальные усилия. Оба чувствовали себя полными сил и энергии; Авери слегка потел, но это происходило с ним из-за ярко светящихся плафонов под потолком, которые ради надежности эксперимента поддерживали иллюзию полного дня. Авери — самый старший из трех волонтеров, высокого роста, невозмутимый по натуре, с замкнутым выражением худого лица, даже не пытался говорить с Гореллом, а просто сконцентрировал силы, чтобы подготовиться к наступающему испытанию. Он знал, что ему не грозит усталость, но по мере того, как продолжал играть, все тщательнее следил за ритмом дыхания, тонусом мышц, то и дело поглядывая на часы.
Горелл, самодовольный, сдержанный человек, тоже был несколько подавлен. Между ударами он мельком разглядывал гимнастический зал, отметив изогнутые, как в ангаре, стены, просторный полированный пол, закрытые световые люки под потолком. Время от времени он бессознательно притрагивался пальцем к округлому шраму на затылке.
В самом центре вокруг проигрывателя стояли пара кресел и кушетка — там Лэнг играл в шахматы с несшим ночное дежурство Морли. Лэнг сидел, скорчившись над доской. Агрессивный по натуре, с волосами проволокой, острым носом и резко очерченным ртом, он пристально следил за фигурами. С тех пор, как четыре месяца назад Лэнг приехал в клинику, он регулярно играл с Морли; силы их были почти равны, если не считать легкого преимущества Морли. Однако сегодня вечером Лэнг применил новую систему атаки и уже через десять ходов завершил развитие своих фигур, а теперь крушил оборону противника. Его мозг работал четко, сконцентрировавшись исключительно на доске, хотя только этим утром Лэнг избавился от побочных последствий гипноза, в тумане которого он и оба его коллеги дрейфовали вот уже три недели, подобно роботизированкым призракам.
Позади Лэнга вдоль зала располагались лаборатории, в которых работала контрольная бригада. Через плечо он видел лицо человека, смотрящего на него сквозь круглое оконце в одной из дверей. Там в постоянной готовности находились группа санитаров, интернов[76] и каталки. (Последняя дверь, в небольшую палату на три койки, была тщательно заперта). Через мгновение лицо исчезло. Лэнг улыбнулся, вспомнив, какое современное оборудование применялось для наблюдения за ними. Свой перевод в клинику Нейла он считал удачей и абсолютно верил в успех эксперимента. Нейл заверил его в том, что в самом худшем случае внезапное накопление токсинов в крови может вызвать легкое оцепенение, но сам мозг окажется незатронутым.
— Нервная ткань никогда не устанет, Роберт, — повторял ему Нейл снова и снова. — Мозг не может устать.
Покуда Лэнг дожидался ответного хода Морли, он проверил время по настенным часам — двенадцать двадцать. Морли зевнул, его лицо, обтянутое словно посеревшей кожей, было сосредоточенно. Он выглядел усталым и каким-то бесцветным. Он сидел мешком в кресле, подперев лицо одной рукой. Лэнг стал размышлять о том, какими слабыми и примитивными будут скоро выглядеть те, кто вынужден засыпать каждый вечер, когда их мозг не выдерживает груза скопившихся токсинов и края их сознания становятся размытыми, словно потрепанными. Неожиданно он подумал о том, что сам Нейл в это мгновение тоже спит. Он словно наяву увидел Нейла, скорчившегося на измятой постели двумя этажами выше, — содержание сахара в крови низкое, сознание дрейфует в сновидениях.
Лэнг рассмеялся над своим самомнением, и Морли взял обратно ладью, которой только что сделал ход.
— Я, наверное, слепну. Что я делаю?
Лэнг снова рассмеялся:
— А вот я только что обнаружил, что бодрствую.
Морли улыбнулся:
— Запишем это, как лучшее высказывание недели.
Он переставил ладью, выпрямился и взглянул на теннисистов. Горелл нанес молниеносный удар — и Авери побежал за шариком.
— С ними, кажется, все в порядке. А как вы?
— Выше всяческих похвал, — откликнулся Лэнг. Он быстро окинул глазами фигуры на доске и сделал ход прежде, чем Морли успел перевести дыхание.
Обычно они быстро переходили в эндшпиль, но сегодня Морли пришлось сдаться уже на двадцатом ходу.
— Отлично, — сказал он ободряюще. — Скоро ты сможешь обыграть самого Нейла. Еще одну партию?
— Нет. Я все-таки устал. Кажется, это собирается перерасти в проблему.
— Придется столкнуться с этим. Со временем придешь в форму.
Лэнг выудил из фонотеки один из альбомов Баха. Он поставил «Бранденбургский концерт» и опустил иглу. Когда раздались громкие, обильные звуки, он откинулся назад, вслушиваясь в музыку.
Морли подумал: «Абсурд. Как сможешь ты быстро бегать? Три недели назад ты был просто щенком».
Оставшиеся часы пролетели быстро. В час тридцать они поднялись в операционную, где Морли и один из интернов подвергли подопечных беглому осмотру: пульс, быстрота реакции, выделения.
Одевшись, они отправились в пустой кафетерий перекусить и, усевшись на стулья, заспорили, как назвать этот новый для них, пятый по счету, прием пищи. Авери предложил «серединник», Морли — «сегодник».
В два часа все заняли свои места в неврологической операционной и провели пару часов, просматривая фильмы о сеансах гипноза за последние три недели.
Когда программа закончилась, они спустились вниз, в гимнастический зал, — ночь почти прошла. Они по-прежнему чувствовали себя уверенно и бодро. Горелл шел впереди, поддразнивая Лэнга по поводу некоторых эпизодов фильмов, имитируя его поведение в трансе.
— Глаза закрыты, рот открыт, — демонстрировал он, намеренно натыкаясь на Лэнга, который едва успевал отпрыгнуть в сторону. — Посмотри на себя. Даже сейчас с тобой происходит то же самое. Поверь мне, Лэнг, ты вовсе не бодрствуешь, ты сомнамбулируешь. — Он обратился за поддержкой к Морли: Согласны со мной, доктор?
Морли проглотил зевоту: «Ну, раз уж вы так — то оба хороши».
Он следовал за ними по коридору, прилагая все усилия, чтобы не спать на ходу; он чувствовал себя так, будто не эти трое, а он сам обходился без сна последние три недели.
По приказанию Нейла все освещение в коридорах и на лестницах было включено. Двое санитаров, идущих впереди, проверяли, чтобы окна, мимо которых они проходили, были надежно зашторены, а двери закрыты. Нигде не было ни единой затененной ниши или иного прибежища тени.
Нейл настоял на этом, тем самым весьма неохотно подтвердив факт возможного возникновения рефлекторной ассоциации между темнотой и сном:
— Придется согласиться с этим. У всех организмов, за исключением немногих, такая ассоциация достаточно сильна, чтобы стать рефлексом. Млекопитающие с высоко организованной нервной системой зависят в своем существовании от весьма чувствительного аппарата в сочетании с по-разному развитой способностью запоминать и классифицировать информацию. Поместите их в темноту, отсеките поступление к коре головного мозга потока визуальных данных — и это их парализует. Сон — защитный рефлекс. Он снижает скорость обмена веществ, способствует накоплению энергии, увеличивает способность организма к выживанию, погружая его в привычную среду…
На лестничной площадке на середине пролета было широкое зашторенное окно, днем настежь открытое, словно навстречу парку за клиникой. Проходя мимо этого окна, Горелл остановился. Он подошел к нему и отстегнул защелку шторы.
Все еще не открывая окна, он повернулся к Морли, который наблюдал за ним с верхней площадки.
— Табу, доктор? — спросил он.
Морли по очереди посмотрел на каждого из этой троицы. Горелл держался спокойно и невозмутимо, по-видимому, просто удовлетворяя свой каприз, и не более того. Лэнг сидел на перилах и следил за происходящим с любопытством, однако на его лице было написано выражение безразличия. Только Авери выглядел слегка взволнованным, его тонкое лицо было бледно и напряженно. В голове Морли зашевелились не совсем уместные мысли: тень в четыре утра; им придется бриться дважды в сутки; почему здесь нет Нейла? Уж он-то знал, что они кинутся к окну, как только представится случай.
Заметив, что Лэнг насмешливо улыбается, глядя на него, он пожал плечами, стараясь скрыть свою нерешительность.
— Ради бога, если хотите. Как сказал Нейл, провода отключены.
Горелл отбросил в сторону штору, и все они сгрудились у окна, всматриваясь в ночь. Внизу под ними серо-оловянные газоны стелились в сторону сосен и отдаленных холмов. Милях в двух в стороне слева неоновая реклама мигала и манила к себе.
Ни Горелл, ни Лэнг не отметили в себе никакой реакции, и уже через несколько мгновений их интерес к окну стал пропадать. Авери ощутил неожиданный укол под сердцем, однако взял себя в руки. Он стал обшаривать глазами темноту — небо было ясным и совершенно безоблачным, и сквозь массу звезд он сумел разглядеть узкий призрачный Млечный Путь. Он молча смотрел на него, позволяя ветру высушить проступивший у него на лице и шее пот.
Морли тоже подошел к окну и облокотился на подоконник рядом с Авери. Краешком глаза он пристально наблюдал за любым проявлением моторного тремора — подергиванием века, ускорением дыхания, что указало бы на проявление рефлекса. Он вспомнил предупреждение Нейла — в человеке сон, в основном, бессознательный акт, связанный с рефлексом, обусловленным привычкой. Однако благодаря тому, что мы отрезали гипоталамические связи, регулирующие поток информации, сонливость не должна возникать вовсе. Однако это вовсе не значит, что рефлекс не проявится каким-либо иным способом. Но рано или поздно нам все равно придется пойти на риск и позволить им взглянуть, так сказать, на темную сторону жизни.
Морли размышлял обо всем этом, когда кто-то толкнул его в плечо.
— Доктор, — услышал он голос Лэнга. — Доктор Морли. — Очнувшись, он взял себя р руки. Он остался у окна один. Горелл и Авери были уже на середине следующего пролета.
— Что-то случилось? — быстро спросил Морли.
— Ничего, — успокоил его Лэнг. — Мы возвращаемся в зал. Он пристально взглянул на Морли: — У вас все в порядке?
Морли потер щеку.
— Боже, я, должно быть, заснул. — Он посмотрел на часы четыре утра. Они простояли у окна минут пятнадцать. Он запомнил только, как он облокотился о подоконник. — Я беспокоился только о вас.
Это позабавило всех, особенно Горелла.
— Доктор, — пропел он. — Если вам это интересно, я рекомендую вас хорошему анестезиологу.
Через пять часов они почувствовали некоторый отлив сил в мышцах. Начались обильные выделения — видимо, продукты распада медленно засоряли их организм. Ладони чуть занемели и стали влажными, подошвы ног казались подушечками из губ. Эти ощущения вызывали смутное беспокойство даже на фоне отсутствия умственной усталости.
Нечувствительность продолжала распространяться. Авери отметил, как она словно расползлась по коже на скуле, перекинулась на виски, отчего возник легкий приступ лобной мигрени. Он упрямо переворачивал страницы, но его руки были словно слеплены из замазки.
Затем появился Нейл, и они стали оживать. Нейл выглядел посвежевшим и элегантным, он словно летал на крыльях.
— Как дела у ночной смены? — осведомился он отрывочно, переходя от одного подопытного к другому, всякий раз улыбаясь при этом. — Чувствуете себя нормально?
— Не так уж плохо, — ответил за всех Горелл. — Легкий приступ бессонницы.
Нейл захохотал и похлопал его по плечу, затем направился в лабораторию.
В девять часов, побрившись и переодевшись, они собрались в аудитории. Они снова чувствовали себя бодрыми и полными энергии. Периферийное оцепенение и легкая апатия прошли, как только были подключены капельницы, и Нейл сказал, что в течение недели их организмы адаптируются достаточно, чтобы справляться своими силами.
Все утро и большую часть дня они работали над серией тестов для выявления коэффициентов умственного развития, ассоциативных и моторных связей. Нейл не давал им передышки, то и дело поправляя изображение на экране «радар», жонглируя сложными цифровыми и геометрическими последовательностями, выстраивая все новые и новые словесные цепочки.
Он казался более чем удовлетворенным результатами.
— Чем короче время поступления информации, тем глубже следы памяти, — сказал он Морли, когда в пять трое испытуемых удалились на отдых. Жестом он указал на карточки тестирования, рассыпанные перед ним на столе. — А вы беспокоились о подсознательном. Взгляните на данные Лэнга. Поверьте мне, Джон. Скоро он станет вспоминать у меня о своем пребывании в утробе матери.
Морли кивнул; его первые сомнения рассеивались.
В течение последующих двух недель он или Нейл находились с добровольцами неотлучно, просиживая вместе с ними под потоками света, излучаемыми плафонами, оценивая их ассимиляцию к дополнительным восьми часам суток, тщательно наблюдая за симптомами любого «отклонения». Нейл вел их от одной фазы программы к другой, подвергая тестам, через долгие часы бесконечных ночей — его мощное эго словно вспрыскивало энтузиазм во всех членов бригады.
Однако Морли беспокоил все усиливающийся эмоциональный окрас взаимоотношений Нейла с его тремя подопечными. Он опасался, как бы они не привыкли идентифицировать Нейла с самим экспериментом. (Позвони в колокольчик — и у подопытного животного начинается выделение слюны. И наконец прекрати звонить после долгого периода адаптации — и оно временно теряет способность кормиться вообще. Такой пробел едва ли повредит собаке, но может привести к несчастью ставшую сверхчувствительной психику.)
Однако Нейл пристально следил за этим. К концу двух первых недель, схватив сильную простуду после полной ночной отсидки, он решил провести следующий день в постели и вызвал Морли к себе в офис.
— Переходный процесс проходит слишком позитивно. Нужно бы немного сбавить.
— Согласен, — ответил Морли. — Но как?
— Скажите им, что я буду спать двое суток, — сказал Нейл. Он собрал со стола пачку докладов, таблиц, карточек тестирования и сунул их под мышку. — Я нарочно перегрузился успокоительным, чтобы хорошенько отдохнуть. Я превратился в тень, переполнен синдромами усталости, перегруженные клетки моего организма взывают о помощи. Выложите им все это.
— Не слишком ли резко? — спросил Морли. — Они возненавидят вас за это.
Однако Нейл лишь улыбнулся и отправился реквизировать офис рядом со своей спальней.
В ту ночь Морли был на дежурстве в гимнастическом зале с десяти вечера до шести утра. Как обычно, сначала он проверил, чтобы санитары с их каталками были наготове, затем прочитал записки в журнале, оставленные одним из старших интернов, его предшественников, а уж потом отправился к креслам. Он уселся на кушетке рядом с Лэнгом и стал листать журнал, внимательно присматриваясь к людям. В ярком свете плафонов их осунувшиеся лица приобрели какой-то болезненный, Синюшный оттенок. Старший интерн предупредил его, что Авери и Горелл, возможно, переутомились, играя в теннис, но к одиннадцати часам они прекратили игру и уселись в кресла. Они читали как-то невнимательно и совершили два похода в кафетерий, всякий раз в сопровождении одного из санитаров. Морли рассказал им о Нейле, но, к его удивлению, никто из них не отреагировал ни словом.
Медленно наступила ночь. Авери читал, согнув свое длинное туловище в кресле. Горелл играл в шахматы с самим собой. Морли дремал.
Лэнг ощутил непонятное беспокойство. Тишина в зале и отсутствие всякого движения угнетали его. Он включил проигрыватель и снова прослушал «Брандербургский концерт», анализируя последовательность музыкальных тем, затем сам на себе провел тестирование на слова-ассоциации, переворачивая страницы книги, используя слова в верхнем правом углу страниц для контроля.
Морли склонился к нему:
— Что-то происходит?
— Несколько интересных ответов, — Лэнг нащупал блокнот и набросал что-то. — Я покажу это Нейлу утром или когда он проснется. — Он задумчиво посмотрел на источники света: — Я просто размышлял. Как вы думаете, каким будет очередной шаг вперед?
— Куда вперед? — переспросил Морли.
Лэнг сделал широкий жест:
— Я имею в виду — по лестнице эволюции. Триста миллионов лет назад мы начали дышать атмосферным воздухом и оставили море. Теперь мы сделали еще один — перестали спать. Что потом?
Морли покачал головой:
— Эти два шага не аналогичны. Во всяком случае, с точки зрения фактов, мы еще не вышли из первобытного моря. Вы все еще носите с собой его точную копию в виде системы кровообращения. Все, что мы совершили, — это заключили в капсулу часть необходимой нам окружающей среды для того, чтобы бежать из нее.
Лэнг кивнул.
— Я думал о другом. Скажите, вам никогда не приходило в голову, насколько полно наша психика ориентирована на смерть?
Морли улыбнулся.
— Время от времени, — сказал он, стараясь угадать, куда клонит Лэнг.
— Как странно все это, — продолжал задумчиво тот. — Принцип удовольствие — боль, вся сексуальная система выживания принуждения, одержимость нашего суперэго завтрашним днем; в основном, психика не заглядывает дальше собственного могильного камня. Откуда такая непонятная фиксация? — Он помахал указательным пальцем. — Потому что благодаря этому психика получает убедительное напоминание об уготованной ей судьбе.
— Вы имеете в виду черную дыру? — предположил Морли, криво ухмыльнувшись. — Сон?
— Абсолютно точно. Это просто псевдосмерть. Конечно, вы не сознаете этого, но это должно быть ужасно. — Он нахмурился: — Не думаю, чтобы даже сам Нейл отдавал себе отчет в этом; помимо того, что сон — это отдых, он наносит нам чувствительную травму.
«Ах, вот что, — подумал Морли. — Великий отец-аналитик был застигнут врасплох на собственной кушетке». Он попытался решить, что хуже, — пациент, хорошо знакомый с психиатрией, или тот, кто знает лишь немногое.
— Исключите сон, — продолжал Лэнг, — и вы также уничтожите все страхи и защитные механизмы, построенные вокруг них. Затем, наконец, психика получит шанс сориентироваться на чем-то стоящем.
— Например?.. — спросил Морли.
— Не знаю… возможно, на самое себя?
— Интересно, — прокомментировал Морли. Было три десять утра. Он решил провести следующий день за изучением последних карточек тестирования Лэнга.
Он тактично выждал минут десять, затем встал и пошел в офис.
Лэнг закинул одну руку за спинку кушетки и стал наблюдать за дверью в комнату санитаров.
— В какую игру играет Морли? — спросил он. — Кто-нибудь вообще видел его где-нибудь?
Авери опустил журнал:
— Разве он не пошел в комнату санитаров?
— Десять минут назад, — сказал Лэнг, — и с тех пор не показывался. Ведь кто-то обязан дежурить при нас неотлучно. Где он?
Горелл, игравший в шахматы в одиночку, оторвал глаза от доски:
— Возможно, на него действует столь поздний час. Лучше разбудите его, а то Нейл все равно узнает. Скорее всего, он заснул над грудой карточек тестирования.
Лэнг рассмеялся и устроился поудобней на кушетке. Горелл потянулся к проигрывателю, достал пластинку и поставил ее на диск.
Когда проигрыватель зашипел, Лэнг отметил, как тихо в зале. В клинике всегда было спокойно, но даже по ночам, когда наступал, так сказать, отлив сотрудников, поток разнообразных звуков — скрип стула в комнате санитаров, гудение генератора в операционной — пробивался сюда, поддерживая ощущение продолжения жизни.
Теперь же воздух словно поредел и был недвижим. Лэнг внимательно прислушался. Здание словно вымерло, лишившись малейшего эха. Он встал и прошел в комнату санитаров. Он знал, что Нейл не одобряет болтовню с обслуживающим персоналом, но отсутствие Морли изумило его.
Он подошел к двери и заглянул в комнату через стекло, пытаясь узнать, там ли Морли.
Комната была пуста. Свет горел. Две каталки стояли на своих обычных местах у стены рядом с дверью, третья была посредине, на столе были рассыпаны карточки, но вся группа из трех — четырех интернов куда-то исчезла.
Лэнг подождал, потянулся к дверной ручке и обнаружил, что дверь заперта.
Он снова повертел ручку и крикнул через плечо остальным:
— Авери, здесь никого нет.
— Попробуй другую дверь. У них, наверное, брифинг на завтра.
Лэнг перешел к двери в хирургическую. Свет там был выключен, но он видел белый, отделанный эмалью стол и большие диаграммы, развешанные по стенам. Внутри никого не было.
Авери и Горелл наблюдали за ним.
— Они там? — спросил Авери.
— Нет, — Лэнг повернул ручку. — Дверь заперта.
Горелл выключил проигрыватель и вместе с Авери подошел к Лэнгу. Они снова попробовали открыть и ту, и другую двери.
— Но они где-то здесь, — сказал Авери. — Хотя бы один должен быть на дежурстве. — Он указал на дверь в самом конце: — А как насчет той?
— Заперто, — сказал Лэнг. — 69-я всегда заперта. Наверное, там спуск вниз.
— Попробуем офис Нейла, — предложил Горелл. — Если их нет и там, мы пройдем через приемный покой и попытаемся выйти. Наверное, это какой-то новый фокус Нейла.
В двери офиса Нейла стекла не было. Горелл постучал, подождал и постучал снова, громче.
Лэнг повертел ручку, затем опустился на колени.
— Света нет, — доложил он.
Авери обернулся и посмотрел на две оставшиеся двери зала, обе в дальнем конце — одна вела в кафетерий и неврологическое крыло, другая — в парк позади клиники.
— Разве Нейл не намекал, что может однажды сыграть с нами подобную шутку? — спросил он. — Чтобы посмотреть, как мы справимся ночью самостоятельно.
— Но Нейл спит, — возразил Лэнг. — Он собирался отоспаться пару деньков. Если только…
Горелл указал кивком головы на кресла:
— Подойдемте. Скорее всего, он и Морли наблюдают за нами.
Они вернулись на свои места. Горелл перенес шахматную доску через кушетку и расставил фигуры. Авери и Лэнг раскинулись в креслах, открыли журналы и стали листать страницы. Прямо над ними плафоны посылали конусы обильного света вниз, в тишину.
Единственным звуком было тиканье часов. Три пятнадцать утра.
Перемены были почти незаметны. Сначала это коснулось перспективы — легкое размывание и перегруппировка очертаний. Кое-где пропадал фокус, по стене медленно скользила какая-то тень, углы изменили конфигурацию и удлинились. Словно двигалась жидкость, вереница бесконечно малых величин, однако постепенно сформировалось главное направление.
Гимнастический зал уменьшался в размерах. Дюйм за дюймом стены двигались вовнутрь, словно наползая друг на друга по периметру пола. По мере того, как они сближались, их очертания изменялись тоже; ряды огней под самым потолком внезапно потускнели, сетевой кабель, проходивший у основания стены, влез в плинтус; квадратные дефлекторы воздушных вентиляторов смешались в беспорядке.
Сверху, подобно днищу огромного лифта, на пол надвигался потолок.
Горелл оперся локтями о шахматную доску, закрыв лицо руками. Он устроил сам себе вечный шах, но продолжал двигать фигуры взад и вперед, время от времени поглядывая вверх, словно в поисках вдохновения, одновременно шаря глазами по стенам. Он знал, что Нейл где-то прячется и наблюдает за ним.
Он пошевелился, снова посмотрел вверх и пробежал взглядом по стене до самого дальнего угла в поисках подслушивающего устройства, спрятанного в панели. Он давно уже пытался отыскать «глазок» Нейла, но безуспешно. Стены были идеально ровными, и он уже дважды исследовал каждый квадратный фут, но кроме трех дверей в стене, казалось, не было никаких, даже самых крошечных отверстий.
Вскоре у него стал болезненно подергиваться левый глаз, и, отодвинув от себя шахматную доску, он лег навзничь. Прямо над ним с потолка свешивались ряды люминисцирующих трубок, вправленные в клетчатые пластиковые плафоны, рассеивающие свет. Он собирался было поделиться с Авери и Лэнгом результатами поисков подслеживающего устройства, когда неожиданно ему пришла в голову мысль о том, что каждый из них мог сам прятать на себе микрофон.
Он решил размять ноги, встал, медленно прошелся по полу. Просидев над шахматной доской с полчаса, он чувствовал, как у него затекли мышцы, и ему захотелось поиграть мячиком или поработать на тренажере гребли. Однако к своему вящему раздражению он вспомнил, что кроме кресел и проигрывателя в зале не было ничего.
Он достиг стены и пошел обратно, прислушиваясь к любым звукам, долетавшим из прилегающих комнат. Ему стало досаждать шпионств Нейла и вообще вся эта конспирация замочной скважины; он отметил с удовольствием, что уже половина четвертого — часа через три все это закончится.
Гимнастический зал сокращался. Теперь он стал вдвое меньше своего первоначального объема; голые стены лишились дверей, это была теперь все еще просторная, но продолжавшая сжиматься коробка. Ее стены въехали друг в друга, сливаясь по какой-то абстрактной, не толще волоса линии, подобно граням, разрываемым в многомерном потоке. На месте оставались только часы и единственная дверь.
Лэнг все же обнаружил, где спрятан микрофон. Он сидел в своем кресле, пощелкивая суставами пальцев, пока не вернулся Горелл, затем встал и предложил ему свое место. Авери сидел в другом кресле, положив ноги на проигрыватель.
— Присядь-ка на секунду, — сказал Лэнг. — Мне захотелось прогуляться.
Горелл опустился в кресло.
— Я спрошу Нейла, нельзя ли нам заполучить стол для тенниса. Это поможет скоротать часы и даст возможность разминаться.
— Неплохая идея, — согласился Лэнг. — Если только мы протащим его через дверь. Сомневаюсь, что это удастся, кроме того, здесь и так негде повернуться, даже если мы поставим кресла вдоль стены.
Он прошелся по залу, исподтишка посматривая сквозь окно в комнате санитаров. Свет был включен, но там все еще никого не было.
Тогда он легким шагом подскочил к проигрывателю и несколько мгновений прохаживался рядом с ним. Неожиданно он повернулся и зацепился ногой за гибкий шнур, ведущий к розетке в стене.
Вилка выскочила из розетки и упала на пол. Лэнг оставил ее лежать там и уселся на подлокотник кресла Горелла.
— Я только что отключил микрофон, — доверительно сообщил он.
Горелл осторожно оглянулся:
— Где он был?
Лэнг показал:
— Внутри проигрывателя. — Он рассмеялся чуть слышно. Мне показалось, будто я зацепил самого Нейла. Он придет в бешенство, когда поймет, что больше не слышит нас.
— А почему ты думаешь, что эта штука была в проигрывателе? — спросил Горелл.
— Где ей быть еще? Кроме того, ей вообще не было иного места. Только здесь. Если только не там, — он жестом показал на плафон, висевший в самом центре потолка. — Он пуст, если не считать двух лампочек. Проигрыватель — самое подходящее место. Я давно догадался, что микрофон там, но не был уверен до тех пор, пока не уяснил, что у нас есть проигрыватель, но нет пластинок.
Горелл кивнул с важным видом. Лэнг отошел, прищелкивая языком. Над дверью в помещение 69 часы оттикали три часа пятнадцать минут.
Движение ускорялось. То, что было раньше гимнастическим залом, превратилось теперь в небольшую комнату семи футов в ширину — тесный, почти идеальный куб. Стены сдвинулись вовнутрь по сходящимся диагоналям, не доходя всего несколько футов до окончательного фокуса…
Авери заметил, что Горелл и Лэнг слоняются вокруг его кресла.
— Вы что, хотите присесть? — спросил он. Они отрицательно покачали головами. Авери отдыхал еще несколько минут, потом выбрался из кресла и потянулся.
— Четверть четвертого, — заметил он, упершись руками в потолок. — Кажется, будет долгая ночь.
Он отклонился назад, чтобы позволить Гореллу пройти мимо него, а затем стал ходить по кругу вслед за остальными в тесном пространстве между креслом и стенами.
— Не представляю, как это Нейл хочет, чтобы мы бодрствовали в этой дыре по двадцать четыре часа в сутки, — продолжал он. — Почему у нас нет телевизора? Даже радио сгодилось бы.
Они скользили вокруг кресла: Горелл, за ним Авери, а Лэнг завершал круг; за плечами у них словно выросли горбы, шеи согнулись от того, что они смотрели все время вниз, на пол, ноги автоматически повторяли медленный, словно свинцовый ритм часов.
Теперь зал стал уже горловиной — узкой вертикальной камерой всего несколько футов в ширину и шести футов в высоту. Сверху горела всего одна запыленная лампочка под металлической сеткой. Словно разрушаясь под воздействием стремительного движения, поверхность стен стала шероховатой, напоминая фактурой рябой от щербин камень…
Горелл нагнулся, чтобы ослабить шнурок на ботинке, и Авери тут же врезался в него, ударившись плечом о стену.
— Все в порядке? — спросил он, взяв Горелла за руку. Здесь немного тесновато. Просто не понимаю, зачем это Нейл засунул нас сюда.
Он прислонился к стене, склонив голову, чтобы не касаться теменем потолка, и в раздумье озирался по сторонам.
Зажатый в угол, Лэнг стоял рядом с ним, переминаясь с ноги на ногу.
Горелл присел на корточки прямо под ними.
— Сколько времени? — спросил он.
— Пожалуй, около четверти четвертого, — предположил Лэнг. — Что-то около этого.
— Лэнг, где вентилятор? — спросил Авери.
Лэнг принялся рассматривать стены и небольшой квадрат потолка:
— Да где-то здесь.
Горелл поднялся на ноги, и они стали исследовать пол у себя под ногами.
— Вентилятор должен быть с легкой сеткой, — предположил Горелл. Он потянулся вверх, просунул пальцы сквозь прутья клетки и пощупал что-то за лампочкой.
— Ничего нет. Странно. Мне кажется, что нам не хватит воздуха уже через полчаса.
— Вполне возможно, — сказал Авери. — Ты знаешь, что-то…
Тут вмешался Лэнг. Он схватил Авери за локоть.
— Скажите, Авери, как мы очутились здесь?
— Что ты имеешь в виду, «очутились»? Мы же в команде Нейла.
Лэнг прервал его: «Знаю». Он указал на пол: «Я имею в виду, здесь, внутри».
Горелл покачал головой:
— Уймись, Лэнг. Ну как еще? Вошли через дверь, конечно.
Лэнг в упор посмотрел на Горелла, потом на Авери.
— Какую дверь? — спросил он спокойно.
Горелл и Авери подождали, потом каждый из них повернулся, чтобы по очереди осмотреть каждую стену, обегая ее взглядом от пола до потолка. Авери потрогал руками кладку стен, затем опустился на колени и пощупал пол, стараясь подковырнуть пальцами плиты. Горелл скорчился рядом с ним, разгребая швы между камнями.
Лэнг вжался в угол и бесстрастно наблюдал за ними. Его лицо было неподвижно и спокойно, однако он чувствовал, как безумно часто пульсирует вена у него на левом виске.
Когда они наконец встали, неуверенно всматриваясь в лица друг друга, он бросился между ними к противоположной стене.
— Нейл! Нейл! — закричал он и злобно замолотил кулаками по стене. — Нейл! Нейл!
Освещение стало тускнеть у них над головой.
Морли закрыл за собой дверь офиса операционной и прошел к столу. Несмотря на то, что было три часа пятнадцать минут, Нейл, вероятно, уже проснулся и работал над самыми последними материалами в офисе по соседству со своей спальней. К счастью, карточки тестирования, собранные в тот день, со свежими пометками одного из интернов, уже достигли лотка для информации на его столе.
Морли выбрал папку Лэнга и стал просматривать карточки. Он подозревал, что ответы Лэнга на некоторые тесты, замаскированные в форму вопросов, могут пролить свет на действительные мотивы, лежащие за его уравнением «сон есть смерть».
Смежная дверь в комнату санитаров открылась, и внутрь заглянул интерн.
— Не хотите ли, чтобы я сменил вас в зале, доктор?
Морли жестом отослал его: «Не беспокойтесь. Я буду там через минуту».
Он выбрал нужные ему карточки и начал готовиться к переходу в зал. Он не торопился оказаться снова под ослепительными лучами плафонов и поэтому оттягивал возвращение как можно дольше. Только в три двадцать пять он наконец-то вышел из офиса и вошел в зал.
Люди сидели там, где он оставил их: уронив голову на кушетку, Лэнг наблюдал за тем, как он приближался, Авери сутулился в кресле, уткнувшись носом в журнал, а Горелл горбился над шахматной доской, спрятавшись за кушетку.
— Кто-нибудь хочет кофе? — позвал Морли, решив, что им нужно отвлечься.
Никто не пошевелился. Морли почувствовал легкое раздражение, особенно при виде Лэнга, который смотрел мимо него на часы.
Затем он заметил нечто, заставившее его остановиться: на полированном полу в десяти футах от кушетки лежала шахматная фигура. Он подошел и поднял ее. Это был черный король. Он изумился, как это Горелл играет в шахматы без одной из самых важных фигур, когда заметил еще три фигуры, тоже валявшиеся на полу. Он посмотрел туда, где сидел Горелл.
Под креслом и кушеткой валялись все остальные фигуры. Горелл сидел на своем месте мешком: один его локоть соскользнул с подлокотника — и рука висела между коленями, касаясь костяшками пальцев пола. Другой рукой Горелл подпирал лицо. Его мертвые глаза уставились в пол.
Морли подбежал к нему:
— Лэнг! Авери! Позовите санитаров! — Он добрался до Горелла и потянул его из кресла. — Лэнг! — позвал он снова.
Лэнг все еще смотрел на часы. Тело его застыло в жесткой, неестественной позе восковой фигуры. Морли уложил Горелла на кушетку, затем склонился над Лэнгом и заглянул ему в лицо. Потом потянулся к Авери, отвел в сторону журнал и тронул его за плечо. Голова Авери безвольно качнулась. Журнал выпал у него из рук, пальцы которых так и остались в скрюченном положении у него перед лицом.
Морли перешагнул через лежащие на проигрывателе ноги Авери и дотянулся до кнопки. Он включил его и повернул ручку объема звука на полную мощность.
Звонок тревоги загремел над дверью в комнату санитаров.
— Вас не было с ними? — резко спросил Нейл.
— Нет, — сознался Морли. Они стояли у двери палаты интенсивной терапии. Двое санитаров только что привели в готовность блок электротерапии и увозили его корпус на тележке. За пределами гимнастического зала происходило суетливое движение санитаров и интернов. Все огни, за исключением плафонов в центре потолка зала, были выключены, и сам зал напоминал теперь театральную сцену, опустевшую после представления.
— Я просто заскочил в офис, чтобы забрать свежие карточки тестирования, — объяснял он. — Меня не было дольше десяти минут.
— Вам надлежало наблюдать за ними неотступно, — выпалил Нейл. — Никуда не отлучаться, как бы вам этого ни хотелось. На кой черт мы нагородили и зал, и весь этот цирк?
Это происходило вскоре после пяти тридцати утра. Бесполезно промучавшись над тремя людьми в течение двух часов, он был близок к полному истощению. Он посмотрел на них, лежавших безучастно на своих койках, прикрытых простынями по самые подбородки. Они почти не изменились, но их открытые глаза не мигали, а на словно опустевших лицах было написано полнейшее безразличие.
Интерн склонился над Лэнгом, вспрыскивая ему подкожное. Морли уставился в пол.
— Думаю, рано или поздно они все равно ушли бы.
— Как вы можете говорить такое? — Нейл сжал губы. Он чувствовал себя изможденным и обессилевшим. Он знал, что Морли, вероятно, прав — те трое отключились окончательно, не выказывали никакой реакции ни на инсулин, ни на электрошоки, пребывая в состоянии кататонического ступора. Однако, как всегда, Нейл отказывался соглашаться с чем-либо без абсолютного доказательства.
Он направился в офис и закрыл за собой дверь.
— Садитесь, — он пододвинул стул для Морли и заметался по комнате, ударяя кулаком в ладонь другой руки.
— Отлично, Джон. Так что же это такое?
Морли взял одну из карточек тестирования, лежавшую на столе, и повертел между пальцев. Отрывочные фразы проносились у него в голове, незаконченные, неуверенные, подобные слепой рыбине.
— Что же вы хотите от меня услышать? — спросил он. — Реактивация инфантильности? Отступление в великую дремлющую матку? Или же просто приступ раздражения?
— Продолжайте.
Морли пожал плечами: «Состояние непрерывного бодрствования — это выше того, что может вынести мозг. Любой сигнал, часто повторяемый, постепенно теряет свой смысл. Попробуйте повторить слово «сон» пятьдесят раз. Начиная с какого-то момента самосознание мозга притупляется. Он не способен больше схватить, кто это или почему происходит то, он словно ложится в дрейф».
— Что же мы тогда делаем?
— Ничего. Недостаток зарубок в памяти вплоть до первого поясничного сегмента. Центральная нервная система не выносит анестезии.
Нейл покачал головой:
— Вы проиграли. Вы запутались, — сказал он кратко. Жонглирование обобщениями не вернет этих людей к жизни. Сначала нужно выяснить, что же случилось с ними, что они чувствовали и видели фактически.
Выражая сомнение, Морли нахмурился:
— Эти джунгли помечены табличкой «частное владение». Даже если вы добьетесь этого, неужели в картине психической драмы ухода из жизни есть какой-нибудь смысл?
— Конечно, есть. Каким бы ни было их безумие для нас, для них это была реальность. Если бы мы узнали, что провалился потолок, или весь зал наполнился мороженым, или превратился в лабиринт, нам было бы над чем поработать. — Он уселся на стол: — Вы помните тот рассказ Чехова, о котором вы мне говорили?
— «Пари»? Да.
— Я прочитал его вчера вечером. Любопытно. Это намного ближе к тому, о чем вы пытаетесь сказать, — он пристально осмотрел офис.
— Эта комната, к обитанию в которой человек осужден на десять лет, символизирует ум человека, доведенный до высшей степени самосознания… Что-то очень сходное произошло с Авери, Гореллом и Лэнгом. Должно быть, они достигли стадии, за которой уже не смогли больше хранить идею их собственной индивидуальности. И я сказал бы, кроме неспособности понять эту идею, они не осознавали ничего больше. Они уподобились человеку, заключенному в сферическое зеркало, который видит только одно огромное, уставившееся на него око.
— Так вы думаете, что их уход — бегство от этого ока, всеподавляющего эго?
— Не бегство, — поправил Нейл. — Психический больной никогда ни от чего не убегает. Он намного чувствительней. Он просто подстраивает реальность под себя. Научиться бы этому фокусу. Комната в рассказе Чехова наводит меня на объяснение того, как происходит это приспособленчество. В нашем случае эквивалентом комнаты был гимнастический зал. Я начинаю понимать, что было ошибкой помещать их там — все эти огни, просторный пол, высокие стены. Все это усилило перегрузку. Фактически, гимнастический зал мог легко стать внешней проекцией их собственного эго.
Нейл забарабанил пальцами по столу:
— Моя догадка заключается в том, что в этот момент они либо выросли в этом зале сами до размеров этаких гигантов, либо низвели объем зала до их собственной величины. Вероятней всего, что они сами обрушили на себя этот зал.
Морли едва заметно ухмыльнулся:
— Итак, все, что остается делать, так это накачать их медом и апоморфином и уговорить ожить? А если они откажутся?
— Не откажутся, — сказал Нейл. — Вот увидите.
В дверь постучали, интерн просунул внутрь голову.
— Лэнг выбирается из этого. Он зовет вас.
Нейл выпрыгнул из офиса. Морли последовал за ним в палату. Лэнг лежал на койке под простыней совершенно неподвижно. Его губы были слегка раздвинуты. Ни звука не слетало с них, но Морли, склонившийся над ним вместе с Нейлом, видел, как спазматически вибрировала подъязычная кость.
— Он очень слаб, — предупредил интерн,
Нейл пододвинул стул и уселся рядом с койкой. Видно было, насколько он сконцентрировался, хотя плечи его были расслаблены. Он низко склонился к Лэнгу и напряженно вслушивался. Через пять минут все повторилось. Губы Лэнга задрожали. Его тело под простыней напряглось, он словно старался разорвать пряжки, затем снова расслабился.
— Нейл… Нейл, — пробормотал он. Звуки, слабые и приглушенные, доносились словно из чрева колодца. — Нейл… Нейл.
Нейл погладил его по лбу своей небольшой аккуратной рукой.
— Да, Бобби, — произнес он мягко. Его голос был нежнее птичьего пуха. — Я здесь, Бобби. Ты можешь теперь выходить.
Перевод с англ. А. Кондракова
НЕВОЗМОЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК
С наступлением малой воды, закопав наконец-то яйца в перепаханном песке у подножия дюн, черепахи начали обратное путешествие к морю. Конраду Фостеру, вместе с дядей наблюдавшему за этой картиной с баллюстрады приморского шоссе, казалось, что животным остается всего пятьдесят ярдов до кромки спасительной воды. Черепахи тяжело пробивались к цели, их темные горбатые спины то и дело скрывались среди брошенных упаковочных ящиков из-под апельсинов и куч бурых водорослей, принесенных морем. Конрад указал на стаю чаек, отдыхавших на подсыхающей отмели в устье эстуария. Птицы, все как одна, смотрели в сторону моря, словно им были безразличны пустынный берег, старик и мальчик, стоявшие у ограждения шоссе, но стоило Конраду сделать жест рукой, как все птичьи головы разом повернулись.
— Они заметили их… — Конрад положил руку на ограждение. — Дядя Теодор, вы думаете?..
Его дядя указал палкой на автомобиль, ехавший по шоссе в четверти мили от них.
— Наверное, их внимание привлекла та машина. — Он вынул трубку изо рта, и тут же с песчаной банки донеслись крики. Первые чайки взмывали в воздух, а затем вся стая, словно коса, стала разворачиваться к берегу. — Они идут.
Черепахи вышли из-за укрытия мусора у самой линии отлива. Они пересекали полоску влажного песка, отлого уходящего в воду, когда над ними раздались крики чаек, словно вспарывавшие воздух.
Конрад двинулся было в сторону шале и заброшенного чайного сада на окраине городка, но дядя задержал его, схватив за руку. Черепах выхватывали прямо из воды, сбрасывали на песок, где десятки клювов разрывали их на части.
Примерно через минуту после прибытия птицы уже поднимались с пляжа. Конрад и его дядя не были единственными зрителями краткого пиршества. Небольшая группа, чуть больше десятка мужчин, покинула свой наблюдательный пункт среди дюн и двинулась по пляжу, отгоняя последних птиц от черепах. Это были пожилые люди, лет за шестьдесят и даже за семьдесят, в майках и хлопчатобумажных брюках, закатанных до колен. У каждого в руках были брезентовый мешок и багор — деревянная рукоять, увенчанная стальным лезвием. Они подбирали панцири, очищая их на ходу быстрыми, заученными движениями, а затем бросали в мешки. Влажный песок был весь в крови, и вскоре босые ноги и руки мужчин покрылись багровыми пятнами.
— Пожалуй, нам пора, — дядя Теодор посмотрел в небо, провожая взглядом чаек, возвращавшихся в эстуарий. — Твоя тетя, уж наверное, что-нибудь приготовила к нашему возвращению.
Конрад наблюдал за стариками. Когда они проходили мимо, один из них поднял в знак приветствия свой испачканный кровью багор.
— Кто они? — спросил юноша, когда его дядя ответил на салют.
— Сборщики панцирей, они приезжают на сезон. Панцири приносят приличные деньги.
Они направились в город. Дядя Теодор двигался медленно, опираясь на палку. Когда он задержался, Конрад обернулся, чтобы посмотреть на пляж. Непонятно почему, но эти старики, испачканные кровью убитых черепах, выглядели неприятней, чем зловещие чайки. Затем он вспомнил, что, по-видимому, сам навел чаек на черепах.
Шум грузовиков заглушил угасающие крики птиц, садившихся на песчаную банку. Старики ушли, и наступающий прилив начал омывать испачканный песок. Старик и юноша достигли первого перекрестка у шале. Конрад провел дядю к острову безопасности в самом центре шоссе. Дожидаясь, когда проедет грузовик, он сказал:
— Дядя, ты заметил, что чайки так и не прикоснулись к песку?
Грузовик проревел мимо, его высоченный фургон заслонил собой небо. Конрад взял дядю за руку и двинулся вперед. Старик послушно заковылял следом, втыкая палку в зернистый гудрон, затем сделал шаг назад — трубка вывалилась у него изо рта, когда он закричал при виде спортивного автомобиля, выскочившего на них в облаке пыли из-за грузовика. Конрад успел заметить побелевшие костяшки пальцев водителя на рулевом колесе, застывшее лицо за ветровым стеклом, в то время как автомобиль уже на тормозах скользил юзом по поверхности шоссе. Конрад попытался оттолкнуть старика, но машина, в клубах пыли врезавшись в островок безопасности, настигла их.
Больница была почти пуста. В первые дни Конраду нравилось лежать неподвижно одному в палате, наблюдая за пятнами света на потолке — отражение от цветов, стоящих на подоконнике, прислушиваться к звукам за раздвижными дверями комнаты санитаров. Время от времени появлялась сестра-сиделка, чтобы взглянуть на него. Однажды она нагнулась, чтобы поправить шину, в которой покоилась его нога, и он заметил, что она немолода, даже старше его тети, несмотря на худую фигуру и тщательно подкрашенные волосы. Фактически все сестры и санитарки, которые ухаживали за ним в этой пустой палате, были пожилыми и смотрели на Конрада, скорее, как на ребенка, чем на семнадцатилетнего юношу; они беззлобно подшучивали над ним, когда делали что-то в палате.
Позднее, уже потом, когда боль от ампутированной ноги не давала ему покоя, сестра Сэди стала наконец-то заглядывать ему в лицо.
Она сообщила, что его тетя приходит навестить его каждый день и обязательно появится завтра.
— …Теодор, дядя Теодор?.. — Конрад попытался присесть в постели, но невидимая нога, мертвая и тяжелая, как у мастодонта, остановила его. — Господин Фостер… мой дядя. Автомобиль…
— Проехал в нескольких ярдах, дорогой. Даже дюймах. Сестра Сэди потрогала его лоб рукой, подобной прохладной птице. — У него только царапины на запястье, там, где руку порезало ветровым стеклом. Но, боже мой, сколько же стекла мы вынули из тебя — ты выглядел так, будто пролетел сквозь оранжерею.
Конрад отстранил голову подальше от ее пальцев. Он обежал взглядом ряд пустых кроватей в палате.
— Где он? Здесь…
— Дома. За ним присматривает твоя тетя, вскоре он будет совсем здоров.
Конрад откинулся в постели, дожидаясь, когда сестра Сэди уйдет и он останется один на один со своей болью в исчезнувшей ноге. Над ним, подобно белой горе, громоздилась металлическая конструкция шины. Как ни странно, новость о том, что дядя Теодор избежал несчастного случая почти без единой царапины, не вызвала у Конрада чувства облегчения. С пятилетнего возраста, когда гибель родителей в авиакатастрофе сделала его сиротой, узы, связывавшие его с дядей и тетей, стали даже крепче, чем могли быть с отцом и матерью; их любовь и терпимость были даже более осознанными и неизменными. И все же сейчас он ловил себя на том, что думает больше не о дяде и даже не самом себе, а о надвигающемся автомобиле. Со своими острыми воздухообтекателями и прочими штуками он мчался на него подобно чайкам, атакующим черепах, с той же агрессивностью. Лежа в постели с нависающей над ним шиной, Конрад вспомнил, как пробивались по влажному песку черепахи под своими тяжелыми панцирями, а старики в дюнах подкарауливали их.
А за окнами больницы плескались фонтаны, и пожилые санитары и сестры расхаживали парами по тенистым аллеям.
На следующий день, еще до появления тети, повидать Конрада пришли два врача. Старший из них, доктор Натан, был стройным, седоволосым человеком с руками такими же нежными, как у сестры Сэди. Конрад видел его и раньше, в первые часы при поступлении в больницу. На губах доктора Натана всегда играла слабая усмешка, словно у всеми забытого комического призрака.
Другой врач, доктор Найт, был значительно моложе и по сравнению со своим коллегой, казалось, пребывал в возрасте самого Конрада. Его волевое лицо с квадратной челюстью глянуло на Конрада с шутливой свирепостью. Он потянулся к запястью больного с таким видом, будто собирался вышвырнуть его из постели на пол.
— Это и есть молодой Фостер? — он посмотрел Конраду прямо в глаза. — Ну, что же, Конрад, нет смысла спрашивать, как ты себя чувствуешь.
— Нет… — неуверенно кивнул Конрад.
— Что нет? — доктор Найт улыбнулся доктору Натану, который порхал в ногах постели подобно пожилому фламинго в осушенном водоеме. — Я думаю, что доктор Натан лечил тебя очень хорошо. — Когда Конрад пробормотал что-то, стараясь не нарваться на очередную насмешливую реплику, доктор Найт прервал его: — Не правда ли? И все же, лично я больше заинтересован в твоем будущем. Я беру тебя у доктора Натана, так что теперь можешь обвинять только меня, если что-то не будет ладиться.
Он подтянул к постели металлический стул и уселся на него, широко расставив ноги, быстро выхватив из-под них полы своего белого халата.
— Но совсем не обязательно, что это случится. Так?
Конрад прислушался к топоту ног доктора Натана на полированном полу и осведомился: «Где остальные?»
— Ты заметил это? — доктор Найт глянул на своего коллегу. — Впрочем, как могло быть иначе? — Он посмотрел в окно на пустынную территорию больницы. — Верно, там почти никого нет.
— Но ведь это комплимент в наш адрес, ты не думаешь? Доктор Натан снова приблизился к постели. Улыбка, игравшая у него на губах, казалось, принадлежала другому лицу.
— Д-а-а, — протянул доктор Найт, — конечно, никто не стал бы объяснять тебе, Конрад, что это вовсе не больница в общепринятом смысле.
— Что?.. — Конрад попытался присесть, ухватившись за шину. — Что вы имеете в виду?
Найт поднял руки:
— Пойми меня правильно, Конрад. Конечно, это больница, самый современный хирургический корпус, но это нечто большее, чем просто лечебница. Вот это я и хочу тебе объяснить.
Конрад наблюдал за доктором Натаном. Пожилой врач смотрел в окно, очевидно, на горы, однако лицо его было бледным, улыбка исчезла с губ.
— В каком смысле? — осторожно спросил Конрад. — Это имеет какое-то отношение ко мне?
Доктор Найт сделал неопределенный жест.
— В каком-то смысле да. Но лучше поговорим об этом завтра. Мы и так уже надоели тебе.
Он встал — его глаза все еще изучали Конрада — и положил руки на шину.
— Нам придется еще повозиться с твоей ногой, Конрад. В конце концов, когда мы закончим, ты будешь приятно удивлен нашим достижением. Со своей стороны, ты, пожалуй, сможешь помочь нам — мы надеемся на это, не так ли, доктор Натан?
Улыбка доктора Натана, подобно возвращающемуся видению, снова запорхала на его тонких губах.
— Я уверен, что Конрад будет только рад этому.
Когда они были уже у двери, Конрад снова позвал их.
— В чем дело, Конрад? — Доктор Найт задержался у соседней кровати.
— Водитель, человек в машине. Что случилось с ним? Он здесь?
— Видишь ли, он… — доктор Найт замолк, затем, казалось, изменил курс. — Чтобы быть честным до конца, Конрад… ты не сможешь увидеться с ним. Знаю, что все случилось исключительно по его вине…
— Нет! — Конрад покачал головой. — Я не собираюсь обвинять его… Мы появились внезапно из-за грузовика. Он здесь?
— Автомобиль сначала ударился о стальной столб ограждения островка безопасности, затем перелетел через стену ограждения шоссе. Водитель разбился уже на пляже. Он был чуть старше тебя, Конрад. Наверное, он пытался спасти тебя и твоего дядю.
Конрад кивнул, вспомнив побелевшее лицо за ветровым стеклом.
Доктор Найт повернулся к двери. Почти «sottovoce»[77] он добавил:
— И ты увидишь, Конрад, он все еще может помочь тебе.
В тот же день в три часа появился дядя. Сидя в кресле-коляске, толкаемой его женой и сестрой Сэди, он весело помахал Конраду своей свободной рукой. Однако на этот раз дяде Теодору не удалось поднять настроение Конрада. Юноша предвкушал этот визит, однако дядя состарился лет на десять после несчастного случая, и вид этих трех пожилых людей — один из них чуть ли не инвалид, — приближающихся к нему с улыбкой на устах, лишь напомнил Конраду о его собственном одиночестве в больнице.
Слушая дядю, Конрад понял, что его изоляция была просто более тяжелой версией положения всех молодых людей за пределами больницы. Еще ребенком Конрад имел лишь немногих друзей его возраста по той единственной причине, что дети вообще стали такой же редкостью, какой были столетние старики много лет назад. Он родился в мире, принадлежавшем людям среднего возраста, в мире, где средний возраст сам по себе находился все время в движении, подобном отступлению горизонта Вселенной, отодвигающемуся все дальше и дальше от исходной точки. Его тетя и дядя, оба достигшие почти шестидесятилетнего возраста, представляли срединную линию. А за ними — огромная армия вышедших на пенсию стариков, заполняющих собой магазины и улицы приморского городка; их медленно передвигающиеся, словно чего-то ожидающие фигуры смазывали все краски жизни подобно серой вуали.
По контрасту с ними самоуверенные манеры доктора Найта, какими бы агрессивными и неожиданными они ни были, заставляли сердце Конрада биться чаще.
К концу визита, когда тетя вместе с сестрой Сэди отошли к окну, чтобы полюбоваться фонтанами, Конрад сказал дяде:
— Доктор Найт обещал что-то сделать с моей ногой.
— Я уверен, что он может, Конрад, — дядюшка Теодор ободряюще улыбнулся, однако его глаза пристально наблюдали за неподвижным Конрадом. — Эти хирурги — умные головы, просто изумительно, на что они способны.
— А твоя рука, дядя? — Конрад показал на повязку, покрывавшую левый локоть дяди. Легкая ирония в голосе дяди напомнила ему о заученных двусмысленностях доктора Найта. Он чувствовал, что люди вокруг него что-то не договаривают.
— Эта рука? — дядя передернул плечами. — Она создана для меня почти шестьдесят лет назад, отсутствие одного пальца не помешает мне набивать трубку. — Прежде чем Конрад успел вставить слово, он продолжал: — А вот твоя нога — совсем другое дело, тебе придется решать самому, что делать с ней.
Прежде чем уйти, он шепнул Конраду:
— Как следует отдохни, может быть, тебе придется побегать, прежде чем ты начнешь ходить.
Два дня спустя, точно в девять часов, к Конраду заглянул доктор Найт. Бойкий, как всегда, он сразу же перешел к делу.
— Ну, Конрад, — начал он, заменяя после осмотра шину. Прошел месяц со времени твоей последней прогулки к пляжу, подошло время убираться отсюда и вставать на собственные ноги. Ты что-то сказал?
— Ноги? — повторил за ним Конрад. Он выдавая из себя смешок. — Вы имеете в виду… в переносном смысле?
— Нет, в буквальном. — Доктор Найт пододвинул стул. Скажи мне, Конрад, ты когда-нибудь слышал о восстановительной хирургии? Может быть, об этом говорили в школе.
— На биологии. Это трансплантация почек и прочее в этом роде. Это практикуют на пожилых людях. Именно это вы хотите проделать с моей ногой?
— Ну-ну! Попридержи лошадей! Давай-ка сначала проясним некоторые вещи. Как ты сам говоришь, восстановительной хирургии почти пятьдесят лет — тогда были сделаны первые пересадки почек, хотя долгие годы до этого обычным делом была пересадка роговицы глаза. Если считать кровь тоже тканью, то сам принцип еще старше. После того случая тебе было сделано массивное переливание крови, и еще раз, когда доктор Натан ампутировал раздробленное колено и голень. В этом нет ничего удивительного, не так ли?
Конрад немного подождал, прежде чем ответить. На этот раз доктор Найт заговорил извиняющимся тоном, словно экстраполировал что-то, задавая вопросы, на которые, как он опасался, Конрад мог ответить отрицательно.
— Конечно, нет, — ответил Конрад. — Вовсе нет.
— Это очевидно, что тут удивительного? Хотя стоит вспомнить, что многие люди отказывались от переливания крови, несмотря на то, что это означало верную смерть. Помимо религиозных воззрений, многие из них чувствовали, что посторонняя кровь как бы загрязнит их собственное тело. — Доктор Найт откинулся назад, сердясь про себя. — Можно понять их точку зрения, но необходимо помнить, что наше тело вообще состоит из разнородных веществ. Ведь мы не прекращаем есть только ради того, чтобы сохранить в целости наше собственное я. — Доктор Найт рассмеялся на этом месте своей речи. — Это было бы разгулом эготизма, не правда ли? Ты не согласен?
Когда доктор Найт посмотрел на него в ожидании ответа, Конрад сказал:
— Более или менее.
— Хорошо. И конечно же, в прошлом многие люди тоже отстаивали свою точку зрения. Замена больной почки здоровой ни в коей мере не меняет целостности твоего организма, особенно если спасена твоя жизнь. Главное — твоя собственная, продолжавшая жить личность. По самой их структуре отдельные части тела служат более обширному физиологическому целому, а человеческое сознание достаточно объемно для того, чтобы обеспечить человека ощущением такого единства.
Кроме того, никто еще серьезно не оспаривал этого, и пятьдесят лет назад появилось определенное число храбрецов: мужчин и женщин, многие из которых сами были врачами, — они добровольно отдавали свои здоровые органы тем, кто нуждался в них. К сожалению, все подобные, попытки оканчивались неудачей уже через несколько недель в результате так называемой несовместимости. Организм другого человека, даже умирая, сопротивлялся пересаженному органу как инородному телу.
Конрад покачал головой:
— А я — то думал, что проблема несовместимости уже решена.
— Со временем да. Это было делом, скорее, биохимии, чем хирургической техники. Постепенно все прояснялось, и десятки тысяч человеческих жизней были спасены; люди с болезнями почек, печени, пищеводного тракта, даже с пораженными частями сердца и нервной системы получили трансплантированные органы. Главной проблемой было — где заполучить их? Вы можете отдать почку, но нельзя же расстаться с печенью или митральным клапаном сердца. К счастью, многие люди просто завещали свои органы после их смерти — фактически в настоящее время для поступления в общественную больницу необходимо одно условие — в случае смерти пациента любая часть его тела может быть использована для целей восстановительной хирургии. Первоначально единственными органами, пригодными для консервации, были органы грудной клетки и брюшной полости, однако сегодня мы имеем запасы практически любой ткани человеческого организма, поэтому в распоряжении хирургов имеется все, будь то легкое целиком или несколько квадратных сантиметров какого-то особого эпителия.[78]
Как только доктор Найт уселся на место, Конрад указал на стены вокруг:
— Эта больница… вот здесь и происходит такое?
— Совершенно верно, Конрад. Это один из сотен институтов, где мы занимаемся восстановительной хирургией. Как ты вскоре поймешь, только у небольшого процента пациентов, поступающих сюда, такие случаи, как твой. В основном, восстановительная хирургия используется в целях гериатрии, т. е. для увеличения продолжительности жизни пожилых людей.
Доктор Найт поощрительно кивнул, когда Конрад присел в постели.
— Теперь ты понимаешь, почему в мире вокруг тебя всегда так много пожилых людей. Объяснение простое — посредством восстановительной хирургии мы дали людям, которые обычно умирали после шестидесяти — семидесяти лет, дополнительный отрезок жизни. Средняя продолжительность жизни увеличилась с шестидесяти пяти лет, как было пятьдесят лет назад, почти до девяноста пяти.
— Доктор… водитель автомобиля. Я не знаю его имени. Вы сказали, что он еще может помочь мне…
— Я имел в виду то, что сказал, Конрад. Одна из проблем восстановительной хирургии — это снабжение материалом. В случаях с пожилыми людьми все просто — здесь существует избыток восстановительного материала. Исключая некоторые случаи общих заболеваний, большинство престарелых людей сталкивается с проблемой отказа не более чем одного органа, а каждый смертельный исход обеспечивает нас запасом ткани, способным продлить жизнь двадцати другим больным. Однако в случаях с молодыми людьми, особенно в твоей возрастной группе, спрос превосходит наличие раз в сто. Скажи мне, Конрад, и не думай, пожалуйста, о том водителе автомобиля, как ты настроен в принципе по поводу восстановительной операции?
Конрад посмотрел на простыни, закрывавшие его. Не говоря о шине, асимметрия его нижних конечностей была слишком очевидна.
— Трудно сказать. Я думаю, что…
— Решать тебе, Конрад. Тебе либо придется носить протез металлическую подпорку, которая будет причинять тебе много хлопот до конца дней твоих и не позволит тебе бегать, плавать и вообще двигаться, как нормальному молодому человеку, либо у тебя будет живая нога из плоти и крови.
Конрад выжидал. Все, что сказал доктор Найт, совпадало с тем, что он сам слышал о восстановительной хирургии, — на эту тему не было табу, хотя об этом редко говорили в присутствии детей. И все же он был уверен, что это подробное резюме было лишь прологом к куда более трудному решению.
— Когда вы собираетесь сделать это — завтра?
— О, Боже, нет, конечно, — доктор Найт невольно рассмеялся, затем его голос зарокотал дальше, стараясь сгладить неловкость. — Даже не в ближайшие два месяца. Это чрезвычайно сложный комплекс работ: нам придется отыскать и пронумеровать окончания всех нервов и сухожилий, затем подготовить сложнейшую пересадку кости. По меньшей мере с месяц ты будешь носить искусственную конечность — поверь мне, придет время, и ты уже будешь предвкушать возвращение нормальной ноги. Скажи, Конрад, могу я считать, что в принципе ты согласен? Нам необходимо согласие вас обоих — твое и твоего дяди.
— Думаю, что так. Мне хотелось бы поговорить с дядей Теодором. Все же я еще не принял окончательного решения.
— Думающий, осторожный человек, — доктор Найт протянул свою руку. Когда Конрад потянулся, чтобы взять ее, то понял, что доктор намеренно демонстрирует ему едва приметный шрам, который словно обегал основание большого пальца и скрывался затем где-то посреди ладони. Палец казался нормальной частью руки и все же был словно обособлен.
— Правильно, — сказал доктор Найт. — Вот тебе небольшой пример восстановительной хирургии. Это случилось, когда я был студентом. Я потерял только один сустав после заражения в анатомичке — мне заменили весь палец. Он отлично служит мне; именно после этого случая я выбрал хирургию своей специальностью. — Доктор Найт показал Конраду целиком весь шрам. — Конечно, есть кое-какая разница, например, сочленение — этот палец даже более гибкий, чем был мой, и ноготь другой формы, но во всем основном он теперь вполне мой. Я нахожу в этом даже некоторое альтруистическое удовлетворение — на мне прижилась частица другого человеческого существа.
— Доктор Найт… водитель автомобиля. Вы хотите дать мне его ногу?
— Да, это так, Конрад. Мне все равно придется сказать тебе, потому что пациента должен устраивать его донор — совершенно естественно, люди весьма неохотно соглашаются на пересадку органов от преступников или психически ненормальных. Как я уже объяснил, для человека твоего возраста совсем не просто подыскать соответствующего донора…
— Однако, доктор… — рассуждения собеседника еще раз изумили Конрада. — Должен же быть кто-нибудь другой. Не то, чтобы я настроен против него, но… Есть и другая причина, не так ли?
После небольшой паузы доктор Найт кивнул. Он отошел от постели, и некоторое время Конрад терялся в догадках, не собирается ли тот вообще отказаться от своего намерения. Затем Найт повернулся на каблуках и показал в окно.
— Конрад, пока ты был здесь, не показалось ли тебе странным, что больница пустует?
Конрад показал жестом на просторную палату:
— Возможно, потому, что она слишком большая. На сколько пациентов она рассчитана?
— Свыше двухсот. Это большая больница, однако пятнадцать лет назад, еще до того, как я пришел сюда, здесь едва справлялись с притоком пациентов. В основном, это были случаи гериатрические: мужчины и женщины, которым было за шестьдесят, которым нужно было заменить в худшем случае пару органов. Тогда были огромные очереди, многие пациенты пытались даже платить солидные суммы — взятки, чтобы быть точным, так хотели попасть в больницу.
— Что же случилось теперь?
— Интересный вопрос. Ответ на него частично объясняет, почему теперь ты очутился здесь и почему мы проявляем такой интерес к твоему случаю. Видишь ли, Конрад, примерно лет десять назад в больницах по всей стране было отмечено, что количество поступающих больных стало резко сокращаться. Поначалу все почувствовали облегчение, но спад продолжался и в последующие годы, и приток пациентов опустился теперь примерно всего до одного процента от поступлений в прошлые годы. И большинство пациентов — это врачи или люди из обслуживающего персонала медицинских учреждений.
— Но, доктор… раз они не идут сюда… — Конрад поймал себя на том, что подумал в этот миг о своих дяде и тете. Раз они не хотят оказаться здесь, значит, они предпочитают…
— Совершенно верно, Конрад. Они предпочитают умереть.
Неделю спустя, когда дядя снова пришел навестить его, Конрад рассказал ему о предложении доктора Найта. Они сидели на террасе рядом с палатой, посматривая на фонтаны пустынной больницы. Дядя все еще носил повязку на руке, но, в основном, оправился от случившегося. Он молча слушал Конрада.
— Старики больше не поступают, они лежат дома, когда заболевают… и дожидаются конца. Доктор Найт говорит, что не видит причины, почему во многих случаях восстановительная хирургия не могла бы продлить срок их жизни на более или менее неопределенное время.
— Разве это жизнь? Чем же, по его, разумению, ты можешь помочь им?
— Видишь ли, он убежден, что нужен пример, символ, если хочешь. Кто-нибудь вроде меня, получивший серьезнейшую травму в результате несчастного случая в самом начале своей жизни, может заставить их поверить в реальную пользу восстановительной хирургии.
— Тут едва ли просматривается сходство, — задумчиво проговорил дядя. — Однако… а ты-то сам как считаешь?
— Доктор Найт был вполне откровенен. Он рассказал мне о таких «ранних» случаях, когда люди, получившие новые органы, буквально распадались на части, если не выдерживали швы. Полагаю, что он прав. Жизнь нужно сохранять, нужно помочь умирающему, лежащему на тротуаре, почему бы нет и в других случаях? Потому что рак или бронхит менее драматичны…
— Я понимаю, Конрад, — дядя поднял руку. — Но почему он считает, что пожилые отвергают восстановительную хирургию?
— Он признается, что не знает. Он чувствует, что по мере того, как повышается средний уровень продолжительности жизни, пожилые люди стали доминировать в обществе и формировать его взгляды. Вместо того, чтобы иметь вокруг себя молодежь, они видят людей, подобных себе. И единственный способ избежать этого — умереть.
— Это просто теория. Другое дело, он хочет, чтобы ты получил ногу водителя, который наехал на тебя. Довольно странный выбор. В этом есть что-то дьявольское.
— Нет, его точка зрения — он пытается доказать, что раз нога будет пересажена, она станет частью меня самого. — Конрад указал на дядюшкину повязку. — Вот эта рука, дядя Теодор. Ты потерял два пальца. Доктор Найт рассказал мне. Ты собираешься восстанавливать их?
Дядя рассмеялся:
— Собираешься обратить меня в свою веру, Конрад?
Два месяца спустя Конрад снова поступил в эту больницу, чтобы подвергнуться восстановительной операции, которой он дожидался во время выздоровления. Накануне он сопровождал своего дядю во время короткого визита к его друзьям, которые проживали в районе для пенсионеров в северо-западной части города. Это были приятные для глаза одноэтажные домики в стиле шале, построенные на средства муниципалитета, сдававшиеся всем желающим за низкую арендную плату; они занимали заметную часть территории города. За три недели своего пребывания на амбулаторном лечении Конрад, казалось, побывал в каждом таком домике. Искусственная нога, которой его снабдили, причиняла множество неудобств, однако по просьбе доктора Найта дядя брал Конрада с собой ко всем своим знакомым.
Хотя целью этих визитов было представить Конрада как можно большему числу престарелых обитателей этих шале, прежде чем он вернется в больницу, главную кампанию предстояло предпринять позднее, когда новая конечность окажется на месте. Но Конрад уже начал сомневаться в успехе замысла доктора Найта. Конечно, эти визиты не вызывали у хозяев каких-либо отрицательных эмоций, и все же появление Конрада не вызывало в них ничего, кроме сочувствия и благожелательности. Куда бы он ни приходил, старики выходили к калитке поболтать с ним и пожелать удачной операции. Иногда, когда он отвечал на улыбки и приветствия седоволосых мужчин и женщин, наблюдающих за ним из своих садиков и с балконов, ему казалось, что он был единственным молодым человеком в округе.
— Дядя, как ты объяснишь этот парадокс? — спросил он однажды, когда они ковыляли рядышком во время одного из таких визитов. Конрад опирался на две крепкие палки. — Они желают мне получить новую ногу, а сами не хотят отправляться в больницу.
— Но ты молод, Конрад, для них ты просто ребенок. Ты собираешься получить обратно то, что является твоим по праву: уметь ходить, бегать и танцевать. Твоя жизнь еще не простерлась за пределы естественного существования.
— Естественного существования? — устало переспросил Конрад. Он потер крепление протеза под брюками. — В некоторых частях света продолжительность естественной жизни едва превышает сорок лет. Разве это не относительно?
— Не совсем. За пределами некоей точки.
Несмотря на то, что дядя послушно водил Конрада по городу, он, казалось, неохотно рассуждал на эту тему. Они достигли нового жилого района. Один из многочисленных гробовщиков города открыл здесь новый офис, и в тени, за освинцованными стеклами, Конрад увидел молитвенник на подставке красного дерева и строгие фотографии катафалков и мавзолеев. Какой бы завуалированной ни была близость этого офиса к домам пенсионеров, это вывело из равновесия Конрада — он словно увидел ряды только что сработанных гробов, выставленных на всеобщее обозрение вдоль тротуара.
Дядя просто пожал плечами, когда Конрад упомянул об этом:
— У стариков реалистичный взгляд на вещи, Конрад. Они не боятся смерти и не относятся к ней с таким благоговением, как молодежь. Фактически, они живо интересуются этим вопросом.
Когда они остановились подле одного из шале, дядя взял Конрада за руку.
— Одно предупреждение, Конрад. Не хочу шокировать тебя, но сейчас ты увидишь человека, который намеревается на практике противостоять точке зрения доктора Найта. Возможно, за несколько минут он расскажет тебе больше, чем я или доктор Найт за десять лет. Его зовут Мэттьюз, кстати, доктор Мэттьюз.
— Доктор? — повторил Конрад. — Ты имеешь в виду, доктор медицины?
— Совершенно верно. Один из немногих. Однако сначала познакомься с ним.
Они подошли к шале — скромному двухкомнатному строению с небольшим запущенным садом, где доминировали высокие кипарисы. Дверь открыли сразу же, едва они прикоснулись к звонку. Пожилая монахиня в форменном одеянии благотворительного ордена впустила их после краткого приветствия. Вторая монахиня, с закатанными рукавами, с фарфоровым сосудом в руках прошла по дорожке на кухню. В доме стоял неприятный запах, с которым не справлялось даже дезинфицирующее средство в большом количестве.
— Мистер Фостер, не будете ли любезны подождать несколько минут. Доброе утро, Конрад.
Они ждали в грязноватой гостиной. Конрад изучал фотографии в рамках, висевшие над письменным столом-бюро с убирающейся крышкой. На одной из фотографий была изображена похожая на птицу седоволосая женщина, которую он принял за покойную миссис Мэттьюз. Другая фотография — группа молодых людей, только что зачисленных в студенты.
Потом их проводили в небольшую спальню. Вторая монахиня прикрыла простыней все, что стояло на прикроватном столике. Она поправила покрывало на постели, а затем вышла в холл.
Опираясь на свои палки, Конрад стоял за спиной дяди, в то время как тот всматривался в обитателя постели. Отвратительный запах стал теперь еще более острым и, казалось, исходил непосредственно из постели. Когда дядя приказал Конраду выйти вперед, ему, как ни странно, не удалось разглядеть осунувшееся лицо человека на подушке. Посеревшие щеки и волосы словно слились с ненакрахмаленными простынями, покрытыми тенью от занавешенных окон.
— Джеймс, это сын Элизабет — Конрад, — дядя пододвинул деревянный стул. Он кивнул Конраду, чтобы тот сел. — Доктор Мэттьюз.
Конрад пробормотал что-то, почувствовав, как голубые глаза уставились на него. Что удивило его сильнее всего, так это сравнительная молодость умирающего. Хотя доктору Мэттьюзу было лет шестьдесят пять, он выглядел лет на двадцать моложе большинства жителей этого района.
— Он стал настоящим молодым человеком, не так ли, Джеймс? — заметил дядя Теодор.
Едва ли вообще проявляющий интерес к их визиту, доктор Мэттьюз кивнул. Его глаза задержались на темном кипарисе в саду.
— Да, — промолвил он наконец.
Конрад пребывал в неловком ожидании. Прогулка утомила его; бедро, казалось, снова кровоточило. Его интересовало, смогут ли они вызвать такси прямо из этого дома.
Доктор Мэттьюз повернул голову. Пожалуй, он был все-таки в состоянии видеть Конрада и его дядю своими голубыми глазами.
— Кого ты нанял для мальчика? — спросил он резко. — Надеюсь, доктор Натан все еще на месте?
— Одного из молодых, Джеймс. Ты, вероятно, не знаешь его, но это отличный малый. Найт.
— Найт? — больной повторил это имя, почти без намека на интерес. — И когда мальчик ложится?
— Завтра. Не так ли, Конрад?
Конрад собирался было заговорить, когда увидел, что человек в постели едва заметно улыбается. Неожиданно устав от этой странной сцены, полагая, что странный юмор умирающего врача связан с его персоной, Конрад встал и, опершись на свои громыхающие палки, сказал:
— Дядя, можно я подожду снаружи?..
— Мальчик мой… — доктор Мэттьюз высвободил правую руку. — Я потешался над твоим дядей, а не над тобой. У него всегда было хорошо развито чувство юмора. Либо его вообще не было. Как ты считаешь, Теодор?
— Не вижу ничего смешного, Джеймс. Ты хочешь сказать, что мне не следовало бы приводить мальчика сюда?
Мэттьюз откинулся на подушке.
— Вовсе нет — я присутствовал при его появлении, пусть же он поприсутствует при моем конце… — Он снова посмотрел на Конрада. — Желаю тебе наилучшего, Конрад. Не сомневаюсь, ты удивляешься, почему я не хочу идти вслед за тобой в больницу.
— Ну, я… — начал было Конрад, но дядя попридержал его за плечо.
— Джеймс, нам пора двигать. Думаю, мы можем считать, что обо всем договорились.
— По-видимому, нет. — Доктор Мэттьюз снова поднял руку, нахмурившись при этом от слабого шума. — Я скоро, Тео, но если я не расскажу ему кое-что, никто не сделает этого, и в первую очередь, доктор Найт. Итак, Конрад, тебе семнадцать?
Когда Конрад кивнул, доктор Мэттьюз продолжал:
— В таком возрасте, насколько помню, кажется, что жизнь продолжается вечно. Однако каждый живет всегда по соседству с вечностью. По мере того, как стареешь, все чаще и чаще обнаруживаешь, что все стоящее в жизни имеет определенные границы — во времени, начиная с простых вещей до самых важных: бракосочетание, рождение детей и так далее; это касается и самой жизни. Четкие линии, очерченные вокруг вещей, как бы определяют их место. Нет ничего ярче бриллианта.
— Джеймс, ты зашел слишком далеко…
— Спокойно, Тео. — Доктор Мэттьюз приподнял голову, он почти присел в постели. — Может быть, Конрад, ты объяснишь доктору Найту, что только благодаря тому, что мы так дорожим жизнью, мы отказываемся сокращать ее. Тысячи четких линий прочерчены между тобой и мной, Конрад, это различие в возрасте, характере и жизненном опыте, различие во времени. Ты должен сам заработать все эти отличия. Ты не можешь взять их взаймы у кого бы то ни было, в особенности у мертвого.
Конрад оглянулся, когда открылась дверь. Старшая из монахинь стояла в холле. Она кивнула дяде. Конрад поправил свой протез для обратного путешествия, ожидая, пока дядя распрощается с доктором Мэттьюзом. Когда монахиня шагнула к постели, он заметил на шлейфе ее накрахмаленного платья пятна крови.
Они снова прошли мимо офиса гробовщика; Конрад тяжело опирался на свои палки. Когда старики в садиках махали им руками, дядя Теодор сказал:
— Я сожалею, он, кажется, подтрунивал над тобой, Конрад. Я не хотел этого.
— Он присутствовал при моем рождении?
— Он помогал твоей матери. Мне показалось, что было бы правильно, если бы ты увидел его перед смертью. Что он нашел в этом смешного, не могу понять.
Полгода спустя, с точностью до одного дня, Конрад Фостер шел по шоссе навстречу пляжу к морю. В ярком солнечном свете он видел высокие дюны над пляжем, а за ними — чаек, сидевших на подсыхающей песчаной банке в устье эстуария. Движение по приморскому шоссе было еще более оживленным, чем тогда, и песчинки, поднятые в воздух колесами мчавшихся легковых и грузовых автомобилей, облаком пыли дрейфовали над полями.
Конрад споро шел по дороге, нагрузив свою новую ногу до предела. За последние четыре месяца швы окрепли, почти не причиняя боли, и нога казалась еще сильней и гибче, чем была когда-то его собственная. Иногда, когда он забывал о ней во время прогулки, нога, казалось, рвалась вперед по своей собственной воле.
И все же, несмотря на ее добрые услуги и исполнение всего того, что доктор Найт обещал ему за это, Конрад не принял свою новую ногу. Линия шрама не толще волоса, которая окружала его бедро над коленом, стала границей, которая разделяла ногу надвое с большей убедительностью, чем любая другая физическая граница. Как и говорил доктор Мэттьюз, присутствие этой ноги словно уничижало его самого, скорее разделяя, чем интегрируя ощущение его собственного я. С каждой неделей и месяцем это чувство становилось все сильней, по мере того, как сама нога приходила в полную норму. По ночам они лежали вместе подобно молчаливым партнерам в неудавшемся браке. В первый месяц своего выздоровления Конрад согласился помочь доктору Найту и руководству больницы в осуществлении их кампании побудить пожилых людей ложиться на восстановительные операции, а не просто расставаться со своими жизнями, однако после смерти доктора Мэттьюза Конрад решил не принимать больше участия в этом. В отличие от доктора Найта он понял, что не существует реальных средств принуждения, и только оказавшиеся на смертном одре, подобно доктору Мэттьюзу, были вправе оспаривать этот вопрос. Остальные же просто улыбались и махали руками в своих тихих садиках.
Более того, Конрад знал, что его собственная, растущая в нем неуверенность по поводу новой конечности станет скоро очевидной для их пытливых глаз. Большой новый шрам теперь обезобразил кожу над голенью, и причина этого была очевидна — поранив ногу дядиной газонокосилкой, он намеренно позволил ране загноиться, словно этот акт самоуничтожения мог символизировать ампутацию ноги. Однако нога, казалось, стала еще здоровее от этого кровопускания.
В сотне ярдов поодаль был перекресток с дорогой, ведущей от пляжа. От легкого бриза мелкий песок поднимался клубами пыли с дорожного покрытия. В четверти мили от него двигалась цепочка автомобилей, и водители последних легковушек пытались обогнать два тяжелых грузовика. Вдалеке, в эстуарии, послышались крики. Невзирая на усталость, Конрад припустился бегом. Хорошо знакомое стечение обстоятельств вело его к месту несчастного случая.
Когда Конрад достиг перекрестка, первый грузовик оказался совсем близко от него — водитель замигал фарами, когда Конрад ступил на бордюрный камень, стремясь как можно скорее оказаться на островке безопасности с его свежевыкрашенным пилоном.
За шумом автомобилей он все же расслышал резкие крики чаек, когда те, словно белый меч, описывали круг в небе. Когда этот меч пронесся над пляжем, старики с баграми направились с дороги к своему укрытию в дюнах.
Грузовик промчался мимо Конрада — подхваченная потоком воздуха серая пыль ударила ему в лицо. Высокий пикап пролетел мимо, обогнав грузовик, другие машины напирали сзади. Чайки с резкими криками стали пикировать над пляжем, когда Конрад наконец-то прорвался сквозь облако пыли на середину шоссе и побежал навстречу потоку автомобилей, а те на полной скорости мчались к нему.
Перевод с англ. А. Кондракова

Жебе
ШАРЛЬ РЕБУАЗЬЕ-КЛУАЗОН ОБВИНЯЕТ

13 августа 1963 года все главные редакторы французских газет и журналов нашли в своей почте письмо следующего содержания:
«Господин Главный Редактор!
Меня зовут Шарль Ребуазье-Клуазон. Мое имя Вам, без сомнения, знакомо, так как часто удостаивалось чести быть помещенным на страницах Вашей газеты и читатели не раз содрогались, читая рассказы о покушениях, объектом которых я являюсь на протяжении вот уже долгих лет.
Не обладая достаточной информацией. Вы всегда лишь намекали на те причины, из-за которых я являюсь излюбленной мишенью людей, имена которых Вы замалчивали. Это от отсутствия информации.
Таким образом, чтобы не оставлять Вас больше в неведении и чтобы Вы наконец узнали универсальный секрет, которым я обладаю, надо, чтобы Вы меня выслушали. Именно с этой целью я устраиваю конференцию у себя дома 20 августа в 15.00 и приглашаю Вас принять в ней участие.
Приближение к моему дому связано с большим риском. Вероятно, мои враги будут делать все, что в их силах, лишь бы помешать Вам нанести этот визит. Но я рассчитываю на Ваше любопытство и навашу любовь к правде. В качестве исключения я разрешу им снимать.
Будет виски моего собственного приготовления.
С сердечным приветом. Шарль Ребуазье-Клуазон.
Вилла Дебуа-дорога на Мелен.
В двух километрах после выезда из Виронн-ле-Вьей».
И МЕНЯ ПОСЫЛАЮТ ТУДА
Ровно в 15.00 я проехала ворота виллы Дебуа. По дороге сюда после выезда из Виронн-ле-Вьей я одного за другим подобрала пятерых своих коллег, тащившихся пешком, которые были несказанно рады воспользоваться машиной журнала — «Харакири». Вместе с моими фотографами нас теперь было семь человек; И мы должны были наперегонки атаковать поднимающуюся к террасе аллею, где нас ожидал Шарль Ребуазье-Клуазон, одетый в обычный костюм из грубой ткани. Я еще не успела поставить машину на ручной тормоз, как хлопнули дверцы автомобиля. Пулей вылетев из машины, все пять журналистов с револьверами в руках, бежали в направлении хозяина дома. Я отчетливо видела, как они нажимали на курки, один, два, три — раза, но не слышала ни одного выстрела. Некоторые стреляли, держа револьверы двумя руками, но оружие отказывало. Неужели у всех одновременно заело! Действительно, чудо! Раздосадованные, лжежурналисты, что-то бурча себе под нос, рассеялись и вскоре скрылись из вида в пышной растительности парка.
— Входите же, — пригласил нас Шарль Ребуазье-Клуазон. Его виски было неплохое. В центре единственной комнаты находился колодец.
Каждые десять минут Элоди, старая экономка, которая сама ткала всю одежду для Шарля Ребуазье-Клуазона, переворачивала огромные песочные часы и рисовала палочку на стене.
— Я полагаю, вы будете единственными, кто пришел, — произнес хозяин. — Решительно, пресса стала трусливой. Ну, да это неважно. Внимание, я начинаю. Вот что я имел вам сообщить. Есть нечто подозрительное в современной технике. Вот уже десять лет, как я это повторяю. По этой причине в меня и стреляют. Впрочем, именно благодаря этому «некоему подозрительному» я неуязвим, так как все их машины, огнестрельное оружие в том числе, действуют в том случае, если лишь ты этого очень захочешь. Чтобы быть убитым, надо стать соучастником. В связи с этим вот что я хочу заявить: современная техника — это не создание только лишь человека. Что-то за этим стоит, и я это докажу.
Возьмем, например, двигатель внутреннего сгорания, четырехтактный — это понятно, я думаю. Когда, собирая по частям, изготавливают некий прибор, подтверждающий верность какой-либо теории, и утверждают, что он будет работать, я согласен, здесь все понятно. Но если идти дальше… Мой мозг отказывается понимать, что, крутя ручку, можно привести в движение весь механизм и что это движение будет поддерживаться. Это слишком хорошо, чтобы существовать на самом деле.
Вы когда-нибудь мастерили? Да? Ну тогда вы меня лучше Поймете. Вот, например, человек, которому после многих часов работы удалось поставить небольшую мельницу на ручье, протекающем по его владениям. Пока он спускает мельницу по склону, ведущему от дома к ручью, мельница начинает работать при малейшем ветерке. Наконец человек и его творение на месте, дрожащими руками устанавливает создатель свою хрупкую машину. Крылья мельницы касаются воды. Все готово… Но они не крутятся. Естественно, человек поднимает голову, чтобы призвать небо в свидетели: как капризна техника. И вдруг он видит пролетающий самолет. Он восклицает: «Прогресс — это здорово!» Но в его голове зарождается подозрение. Так вот, у меня это подозрение зародилось десять лет назад. Я катил по дороге в своем автомобиле, и, не зная, о чем думать, я попытался представить себе все виды движения, все явления, которые, действуя вместе, заставляют ехать мой автомобиль.
После того как мне удалось мысленно представить себе общую точную картину, я попробовал задать ей ритм реальной модели. В действительности двигатель имел 2400 оборотов в минуту. Но тот, что был у меня в голове, не мог преодолеть и десяти оборотов в минуту. Сосредоточившись, я смог улучшить этот результат, однако в ущерб ритму. Из-за этого число оборотов сократилось до двух оборотов в минуту. Внезапно меня осенило, и я буквально взвыл: «Нет, нет, нет! Это невозможно!»
Тон, каким это было сказано, был похож на заключение злых духов. Вскоре я обнаружил, что автомобиль замедляет ход, и наконец двигатель перестал работать. Итак, я выявил тогда какую-то неизвестную движущую силу и доказал, что то, что нельзя понять умом, просто не может существовать. Я удивился, почему не подумал об этом раньше.
С тех пор я не прекращал об этом размышлять и проверял эту мысль на всем, к большому неудовольствию тех, кто вступил в сделку с темными силами.
Но эксперимент с двигателем требует серьезных познаний в механике, поэтому я вам предлагаю более простой, чтобы вы все могли проверить…
Сядьте перед телевизором. Попытайтесь мысленно проследить развертку 819 линий электронным лучом, и все это двадцать пять раз в секунду. Через несколько мгновений ваш мозг встанет перед выбором: снизить активность до минимума, отказаться от такого эксперимента или же взбунтоваться и не признавать существование явления, которое невозможно объять умом. Если он крикнет изо всех сил: «Нет», — вы тут же увидите, что экран темнеет. Специалистам телевидения, возможно, удастся себе представить, понять его суть, но с позиции простого человека это работать не должно.
Швейная машинка тоже не должна!
А если что и работает, так только оттого, что что-то есть в человеке, который в этом участвует.
Это что-то и есть то самое, что заставляет летать самолеты, приводить в действие револьверы, и это то, что здравый ум может привести в замешательство.
В этот момент граната, брошенная, вероятно, в окно, шлепнулась на стол. Шарль Ребуазье-Клуазон вскочил, завопив: «Слишком сложно! Это не может функционировать!» Затем, взяв рукой механизм, ставший безопасным, благодаря его неверию, он швырнул гранату в урну.
— Она уже полная, надо выбросить мусор, — обратился он к экономке. И, возвращаясь к нам, продолжал: — Мой сад буквально напичкан подобными штучками. Каждую неделю я вынужден копать новую яму. Им пора придумать что-нибудь новенькое.
Я отважилась спросить, кто они такие — его ярые враги.
— Это головорезы, состоящие на службе у тех, кого я разоблачил; убийцы, вот уже на протяжении десяти лет оплачиваемые теми, которые вошли в сговор со сверхъестественными силами, чтобы восторжествовала их прочная техника. С кем или с чем они подписывали договор? Что они дали или обещали взамен? Я этого не смог узнать. Но я утверждаю, что эта сделка является мерзким предательством нашей цивилизации.
Вспомните, какой здоровой была наша жизнь до появления этих сложных механизмов! Крестьянин толкал вперед свой плуг, столяр — свой фуганок. Любую работу, любой механизм можно было объять умом. Представьте себе человека на велосипеде. Удержание равновесия, усилие, направленное на педали, с помощью цепи и шестерни переданное на колесо, — все это было понятно и можно было проследить действие всего механизма. Но человек, летящий в самолете со скоростью 2000 км/час, женщина, строчащая на машинке или слушающая пластинку, мужчина, бреющийся электробритвой, тот, кто смотрит телевизор или кто включает стартер своего автомобиля; тот, кто хранит пищу в холодильнике, человек, нажимающий на кнопки компьютера, все они приводят в действие темные силы и безрассудно вверяются им.
Покоренный мозг безропотно соглашается на полное непонимание того, как действует тот или иной механизм. Он позволяет опережать себя. Самое важное здесь то, что мозг отсутствует, так как не видит логики.
Даже инженер, который рассчитал и вычертил двигатель, чей ум просчитал каждую линию, каждую цифру, смело предоставляет его самому себе, как только тот начинает действовать. Наивный, он полагает, что его расчеты были правильными и что это головокружительное движение зависит только от них.
Но тот, кто стоит за всем этим, направляет его и оплачивает его труд. Лишь он все знает и насмехается над нами. Хотя за десять лет бодрости у него поубавилось и зубоскальство стало деланным. Это потому, что все эти десять лет я, Шарль Ребуазье-Клуазон, знаю о его существовании.
— Месье, под вашим стулом! — закричала экономка, указывая своему хозяину на гранату, которую мы не заметили.
— Слишком сложно! Это не может работать! — завопил Шарль Ребуазье-Клуазон и точным ударом ноги послал гранату в приоткрытую дверь. Мы услышали чье-то ворчание и удаляющиеся шаги.
— Глупцы, — продолжал наш хозяин тихим голосом, — они пытаются достать меня всякими сложными устройствами, которые, однако, легко вывести из строя. Достаточно крупицы отрицания, неверия — и механизм заело.
Видите ли, господа, им было бы достаточно лука или огромной дубины, ножа, наконец, так как это простые приспособления. Им не противопоставишь своего неверия. Здесь все ясно, все понятно. К сожалению, они не могут придумать ничего другого, кроме как пистолет, граната последней модели или автомат.
Элоди, зажгите, пожалуйста, свечи. Дни становятся все короче.
Да, у меня нет ни электричества, ни водопровода, ни газа. Лампа накаливания — это еще куда ни шло. Это я могу понять. Еще краны и проточную воду, огонь. Но электростанции, насосные станции — это нечто темное, неясное. У меня есть собственный колодец, камин и свечи.
Элоди, со свечой в руках, тихо кружила по комнате, выискивая гранаты. Мягкий свет другой свечи, поставленной на стол, создал уютную атмосферу, способствуя большему откровению.
— Теперь я назову вам имена. Я обвиняю в подписании соглашения со сверхчеловеческими силами с целью изобретения механизмов, не подвластных сознанию, следующие компании: Ситроен, Рено, Фрижидер, Пежо, Мулинекс, Шнайдер, Кодак, Томсон, Мануфактура Сент-Этьен (та, что производит оружие, а не велосипеды)…
Время от времени в комнату влетала граната. Шарль Ребуазье-Клуазон испускал свой крик. Шуршание листвы выдавало убийцу, спасающегося бегством. Граната со звоном летела в урну, и перечисление продолжалось:
— Торадо, ИБМ, Марсель Дассо, Мишелэн, Электролюкс…
Щелчок фотоаппарата прервал Шарля Ребуазье-Клуазона. После долгого молчания он добавил, что остальные не стоят того, чтобы их упоминать.
— Не главные лица, на вторых ролях, — уточнил он и продолжал: — Теперь, господа, вам угрожает такая же опасность, как и мне. То, что я сейчас вам поведал, подставляет вас под удары противника. И так как у вас нет еще такой сноровки, чтобы парировать их, я предлагаю воспользоваться моей машиной, чтобы доехать до станции. Я знаю короткую дорогу через поля. Завтра я привезу ваш автомобиль в город, чтобы вы могли его там забрать. Это может вам показаться слишком сложным, но в данной ситуации это единственное правильное решение.
Мы поднялись со своих мест. Гостиная напрямую сообщалась с гаражом. Шедшая впереди Элоди вдруг застыла на месте. Ее рука, в которой была свеча, медленно опустилась, высвечивая из темноты труп. На лице Шарля Ребуазье-Клуазона не появилось никакого изумления.
— Это телохранитель, нанятый теми, кто поддерживает меня, — сказал он… — Он охранял меня и, должно быть, позволил застать себя врасплох. Эти бедняги плохо вооружены, и им мало платят. Те, кто на моей стороне, не имеют таких возможностей, как «те, другие», несмотря на то, что, они объединились. Это все приверженцы простейшей техники, которые нашли прекрасную возможность побороться с опасными конкурентами. Их ассоциация, возглавляемая компанией Жилетт, включает в себя изготовителей метел, отколовшихся от Мануфактуры Сент-Этьен (изготовители велосипедов), фабриканты садовых ножниц, морожениц, спиц, трехколесных грузовых мотороллеров с педальным ходом, щипцов для завивки волос. В конечном счете, их помощь мне доставляет больше забот, чем удобств. По возвращении мне придется хоронить этого юношу. Это уже пятый за последнюю неделю. Я уже и не знаю, где копать в этом саду, полном гранат. Но как бы вы не опоздали! Усаживайтесь, а я займусь мотором.
Любопытная это была машина, вся из дерева, похожая на ящик на колесах. Никаких дверок, а просто отверстия в боковых стенках, позволяющие проникать вовнутрь. Два отверстия впереди: для шофера и для пассажира, — и одно сзади. Вместо сидений — садовые стульчики. На месте руля обыкновенный рычаг. Наклонившись, чтобы осмотреть заднюю часть машины, я заметила Шарля Ребуазье-Клуазона, заводившего ее с помощью ключа, похожего на ключ от детской игрушки. Как раз в этот момент он поднял голову.
— Готово, — произнес он, прищурясь. — Знаете ли, это машина, движение которой осуществляется с помощью пружины. Не сложнее, чем игрушечные автомобили. Просто и надежно. Настоящее наслаждение для мозга.
Он запрыгнул в машину.
— Видите! Никакого руля. Обычная педаль, связанная непосредственно с передней осью, и я управляю с помощью ног. Этот рычаг, что у меня между ногами, одновременно тормоз и акселератор. Вы готовы? Итак, в путь! Элоди, дверь! — Шарль Ребуазье-Клуазон опустил рычаг.
Машина рванулась в темноту, едва не задев Элоди. Большой фонарь, подвешенный спереди, освещал развороченный путь. Машина, на скорости, которую позволяла развить пружина, устремилась вперед, по кочкам, покрытым травой, и нас бросало из стороны в сторону на каждой выдолбине. Наши стулья ерзали, царапая пол. Все это странное, сооружение стонало и скрипело, как старый грузовой корабль, который несет на рифы, но капитан еще в силах перекричать бурю. Словно вместо сигнала автомобиля, он без остановки бросал в сторону дороги ругательства, уберегающие его от убийц.
— Что? Мины? Слишком сложно! Это не будет работать! Мины? Нет, они не могут действовать!..
Мощные прожектора внезапно появлялись перед нами, но их тут же переезжало колесами. Позади автомобиля, несшегося на всей скорости, вставали неясные тени и, подняв руки к небу, исчезали в поле.
На вокзал мы прибыли в одно время с поездом. Прощание было теплым, все были немного взволнованы.
— Можете не спешить, поезд подождет. Эти махины, я управляю ими, когда хочу. Спасибо, что приехали. Еще раз благодарю. Приезжайте еще и как можно скорее. Пора переходить в наступление. Я надеюсь, что вы мне поможете поднять всех на ноги и разоблачить это чудовищное преступление.
— Можете на нас рассчитывать, господин Ребуазье-Клуазон. Помочь вам завести вашу машину?
— Не надо. Еще остался завод, как раз, чтобы добраться до дома. Кстати, зовите меня просто Шарль. До свидания!
Мы вскочили в поезд, а он — на свой стул. Отправились мы в путь одновременно. Последний взмах руки, фонарь автомобиля описал круг и стал удаляться.
— Что? Мины? Это слишком сложно! Я не понимаю! Это не будет действовать!
Хриплый, неистовый звук свистка приглушил впечатление от всего услышанного в этот-день. Мой фоторепортер уже спал.
Сильно раскачавшись, состав наконец сдвинулся с места. В течение нескольких минут я пытаюсь представить себе весь механизм парового двигателя.
Неожиданно для себя я вдруг прошептала:
— Это довольно сложно…
Поезд замедлил ход и остановился. Проходя вдоль состава, служащий выкрикивал название станции. Затем поезд тронулся с места и вновь набрал ход.
Я задремала.
Перевод с франц. Н. Скворцовой
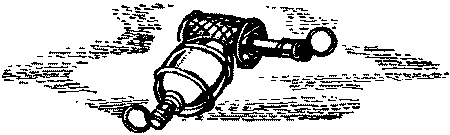
Гарднер Дозойс
ЧУДНЫЙ РАССВЕТ

— Ты слышал когда-нибудь рассказ про старика и море? Не торопись, присядь и послушай.
Этот чудесный рассказ полон раздумий о человеческой судьбе, но очень содержательный рассказ. Не я его придумал. Мои гораздо длиннее и лишь мимоходом касаются того, что скрыто в глубине человеческого сознания. Но если ты не хочешь, то иди, я не буду приставать к тебе с этим рассказом. Люди моего возраста, мне кажется, заслужили рассказывать свои истории в ущерб более молодым, и пусть черти приберут всех критиков, если я не прав. Мне нравятся мои сюжеты… Что с моей ногой? Это старая, жуткая история, по-моему, она тебе понравится. Ты любишь кровь? Я расскажу тебе о своих приключениях — возможно, этот рассказ тебе пригодится и поможет лучше разобраться в жизни и понять то, что большинство понимает, стоя на краю могилы. Возможно, услышав ее, ты задумаешься о смысле жизни, пусть мы и живем в жуткое время, а задумываться о смысле жизни тяжкое бремя, которого я не пожелал бы и врагу. Я очень хочу, чтобы ты заполнил мою карточку, это для того, чтобы ты не сбежал, не расплатившись за мой рассказ. Спасибо. Остерегайся нищих, помни, что у некоторых из них кредитный счет больше, чем тебе удастся заработать за всю оставшуюся жизнь. Эти нищие выгодно торгуют своими увечьями. Но я честный нищий! Пусть из-за этого мне будет хуже… Да, единственный источник моего существования — милостыня, при условии, что мою жизнь вообще можно назвать существованием. Я помню все! Нога… Чтобы понять мою историю, придется вернуться на полвека назад и на полсектора в сторону, если у Вселенной есть стороны… Это случилось задолго до переворота, изменившего Мир. В те времена Мир еще не вступил в Сообщество. Собственно, Переворот был свершен ради вступления… Квесторы, стремящиеся к вступлению с оружием в руках, добились своего и, свергнув Объединение, силой присоединили к Сообществу Мир. Тогда и началась моя история.
Многие повести начинаются с ожидания… Моя не будет исключением. Но когда ты ждешь смерти и лежишь на земле, любя жизнь, ты, может быть, впервые замечаешь, как прекрасен мир… Лежишь, слушая приближающийся топот копыт коня князя тьмы, чувствуешь, как подковы безжалостно высекают искры с поверхности мозга, и знаешь, что еще миг — и смерть сойдет с небес, и невозможно остановить ее разящий удар — это ожидание самое долгое и тяжелое. Минуты растягиваются в часы, часы невообразимого ужаса. Попробуй представить себе все ужасы, суммируй их чешуйчатые, покрытые коростой, морды и получишь те полтора дня, которые я провел тоща в горной долине в Доминиканах. Там… — скорее всего, это били последние часы, из которых я смог извлечь хотя бы какую-то пользу для себя.
Все случилось спустя несколько часов после уничтожения Дакоты. Когда все находившееся там превратилось в одно большое месиво. Никто не знал, что случилось. Связь не работала.
В те времена я был молод и сражался на стороне Квесторов. Мы не знали, что предпримет Объединение, и не имели ни малейшего представления, как нам отвечать на его акции. Отряды бесцельно передислоцировались с места на место. Казалось, что мир сошел с ума и вся планета охвачена паникой.
Доминиканская Дакота неожиданно превратилась в невообразимое, семидесятимильное поле безумия. Сверху это поле накрывали зонты кипящего радиоактивного пепла, который, кружась, взмывал в стратосферу, а затем опадал на землю. Ночью на затянутом тучами небе играли огненным светом зловещие зарницы — отблески кипевшего, раскаленного шлака. Эти зарницы посеяли панику среди воскресших из Сред. Вряд ли они когда-нибудь так волновались.
Предсказать результат битвы было невозможно. Мы считали, что у нас превосходство… и победа над Объединением близка. Но одновременно нам было известно, что Квесторы на уничтожение Дакоты израсходовали почти весь огневой потенциал и у нас попросту нет средств для нанесения сколько-нибудь ощутимого удара по силам Объединения. Если они выжили после первого удара, уничтожившего Дакоту, то нам следовало готовиться к смерти.
«Бойся Бога» — есть такая старая поговорка. Я осознал ее смысл там, под Дакотой. Там, в этом огненном аду, для Бога не было места, но я видел огонь, льющийся с небес, и широко распахнутую землю, ждущую насилия, это было жутким знамением… Наверняка не найдется человека, способного, увидев весь этот ад, остаться равнодушным. Сегодня не многие знают, что там, под Дакотой, мы были как никогда близки к уничтожению Мира.
В ту ночь мы жались — наш взвод — за высокими холмами в Доминиканах, надеясь, что достаточно удалены от центрального штаба и ничто не хлопнется с неба на наши грешные головы. От стены, в которой совсем недавно красовался город Дакота, нас отделяло миль двадцать изрядного предгорья. Но, несмотря на значительное расстояние, грунт под нашими животами дрожал, словно в ознобе. Мы могли отступить, но убежать от этого кошмара было невозможно… Мы были обязаны смотреть на деяние рук своих. Так мы решили молча, без лишних слов…
Мы были обязаны смотреть на этот ад, это было как искупление… иначе, мне кажется, потом, когда бы все кончилось, никто из нас не смог бы считать себя по-прежнему человеком. И мы смотрели… два долгих часа, превратившихся в один страшный миг. Смотрели все, от начала до конца. Зрелище походило на фотографию времени, на которой все слилось в единое: боль, ярость, бессилие, ужас — и одновременно всего этого словно и нет, просто дурной сон, проснемся, и все… нет никакого ада…
Мы молчали. Во всеобщем гвалте казалось, что стонет воздух, а грохот взрывов заглушал все. Но мы молчали бы, даже если бы на нас снизошла тишина. В присутствии разъяренного Бога молчат. Время от времени мы быстро переглядывались. Все были как один — серые лица, обтянутые шелушащейся кожей, остекленевшие глаза. Пропыленные, с дряблыми мышцами, настолько ослабевшие, что уже не в состоянии спрятаться от этого кошмара в шоке.
Мы переглядывались и вновь смотрели на ад, развергшийся перед нами. Почти не осознавая виденного, устремляли свои взгляды к огню, словно притягиваемые его магнетизмом.
Вначале мы лежали плотно, плечо к плечу, но постепенно расползались в стороны, замыкаясь в себе. Все виденное было так велико, что сам по себе человек превращался в ничто, инстинкт группироваться в случае опасности подвергся изменению с обратным знаком… Присутствие посторонних только подчеркивало осознание собственной наготы.
Незадолго до начала всего этого кошмара мы успели установить защитный экран, и он более или менее защищал нас от всякой мерзости типа жесткого излучения, отводил часть тепла, немного глушил шумы… Мы прекрасно понимали, что шансы выжить ничтожны, но лежали и смотрели не в силах сбежать. Парализованные адской красой всеобщего уничтожения, мы были прикованы ею, словно цепями, к поверхности холма.
А там, в вышине, над нами, танцевал разъяренный Бог, стирая своими ступнями землю в порошок-пепел.
Как это выглядело, спрашиваешь ты.
На Косе и сейчас есть океаны, в которых бушуют штормы? Прекрасно. Видел ли ты когда-нибудь море, всклокоченное сильным ветром? Ветер пенит море, взбивает воду в белую пену, пока она не превратится в океан клокочущего кружева, без малейших следов голубизны. Если ты это видел, то поймешь, как выглядела земля под Дакотой. Предгорья шевелились. У Квесторов там находился генератор гравитации, и под его воздействием земля волновалась, подобно воде. Грунт трескался, словно яичная скорлупа. Одни участки вздувались новыми горами, на других появились каньоны…
Представь себе великана, спящего под самой поверхностью земли. Теперь представь, что ему снятся кошмары, под влиянием которых он постоянно шевелится, а ростом этот великан с добрую милю. Вообрази, как он неожиданно просыпается и, охваченный ужасом, вскакивает на колени с воплем десяти миллионов горящих человеческих тел. Вообрази, что окружавшая его суша в мгновение ока тонет, подобно скале в океане, открывая лоно в тысячу футов шириной, все поглощая и растирая в пыль. Представь себе гору и мгновенно возникшую исполинскую воронку под ней. Эта гора проваливается, и пыль от нее омывает, подобно воде, подножие более древних Доминикан, а на месте горы остается бездонная бездна. В это же время падающая на дно соседней воронки земля взлетает вверх, подобно исполинскому фонтану, затем роли меняются, потом еще и еще, словно тебе показывают фрагменты кинофильма, раз за разом повторяя его. Теперь помножь это на миллион и растяни до самого горизонта. Ты сможешь себе это представить? Боюсь, что нет.
Духи огня свирепствовали среди этого хаоса, натыкаясь друг на друга и кружась в танце смерти. Временами взрывы тактических ядерных ракет пробивали недолговечную дырку во мраке ночи — яркую, быстро меркнущую, подобно свече под порывом ветра.
Город исчез. Невозможно было увидеть ничего, созданного рукой человека. На месте города бушевал каменный ураган. В считанные доли секунды испарилась река Дельва. Некоторое время был виден овраг — след ее русла, гигантскими зигзагами пересекавший равнину, потом земля зашевелилась и поглотила его.
Не верилось, что там, внизу, могло что-нибудь сохраниться. Еще труднее было поверить, что там уцелели люди.
Но тяжелые орудия еще сохранялись в своих укрытиях, невидимые для нас во всеобщем хаосе. Скрытые ширмами фазостен и прикрытые рассеивающими экранами, они били наугад, вперед. Объединение вело малоуспешный огонь из биодотов ядерными снарядами. Квесторы в свою очередь отвечали увеличением мощности гравитационного генератора. У Квесторов был только один генератор, и техники уповали на бога, чтобы в него не угодил случайный снаряд противника.
Собственно, гравитационный генератор не был оружием, но войска Объединения, не ожидавшие встречи с чем-нибудь подобным, несли большие потери.
Неожиданно все изменилось: покрытые радиоактивными осадками участки посветлели и покрылись голубоватым туманом. Затем все вокруг замигало — словно ты смотришь фильм, а лампа в кинопроекторе замыкает…
Сначала мы подумали, что это вызвано разностью температур у поверхности земли из-за пожара. Но через секунду частота мерцаний возросла. Создалось впечатление, что степь превратилась в огромный калейдоскоп и кто-то невидимый вращает его. На это невозможно было смотреть, это ранило глаза, наполняя нас паникой, черной, не имеющей границ, не поддающейся описанию.
Мы закрыли глаза, и ужас смыкался над нашими головами.
Никто из нас не знал, что нам довелось наблюдать первое применение в военных целях сверхсветового двигателя космических кораблей. Явление, вызываемое им у поверхности Земли, долго держалось в тайне как Объединением, так и Сообществом. Я не инженер, но в общих словах… В общем, при включении двигателя в паре с гравитационным генератором в определенных районах со временем начинало твориться черт-те что.
Попробуй себе представить, что ты одновременно оказался и тут, и на пару минут вперед… а может быть, и в прошлом по отношению к точке, отстающей от тебя на несколько дюймов. К примеру, от меня…
Понимаю, что мое объяснение способно кого угодно довести до нервного расстройства… В общем, на одном ограниченном участке тело оказывается одновременно в нескольких временах, и в придачу эти как бы фазы времени постоянно меняются. Этот-то процесс мы и увидели…
Наконец аппаратуру Объединения разнесло в куски… Так же, как и людей, угодивших под воздействие этого явления: некоторые задохнулись — из-за того, что их вдохи не совпадали с поступлением воздуха, другие утонули в собственной крови, отчего-то оказавшейся снаружи. Как нам показалось — весь этот кошмар продолжался минут десять, по крайней мере, для нас, сторонних наблюдателей.
Один физик однажды рассказал мне, что «это» может «тянуться» вечно, равно как и «не существовать» вообще, и что высказывание в пользу одного из этих утверждений вовсе не ставит под сомнение существование другого, в результате любое из утверждений верно и применимо к этой ситуации — в общем, я не понял… В общем, кошмар длился минут десять…
Затем мир остановился. Нет, не остановился, а застыл. Мы осмотрелись… Земля перестала бушевать, невдалеке, среди руин, засверкала маленькая звездочка, крохотная, как игольное ушко. Но очень яркая и четкая. Казалось, она вбирает в себя тьму ночи, словно проткнутая булавкой в теле Вселенной дырка, ведущая в новую действительность, вбирающую в себя воздух для крика о том, что она есть…
Мы как по команде вжались в грунт, прикрыв головы руками. Произошла вспышка, мы ее ощутили затылками и кистями рук. Ее свет слепил даже сквозь плотно сомкнутые, вжатые в землю веки. Холм под нами подпрыгнул, мы взлетели в воздух один раз, другой, третий… Мы так испугались, что не обратили внимания на страшный грохот.
Спустя миг все стихло. Тут мы почувствовали, вот именно, почувствовали, а не услышали низкий гул. Подняв головы и открыв глаза, мы увидели поток медленно текущей магмы. Магма поднималась из глубины земли и заливала степь огромными языками. Языки сталкивались, и тогда вверх взлетали снопы ярко-красных искр.
Экран принял на себя ударную волну взрыва и спас нам жизни, затем перегруженные генераторы сгорели. Это был первый случай, когда генераторы экрана вышли из строя.
Все молчали, не в силах посмотреть друг другу в глаза. Мы просто лежали, и все…
Часы говорили, что прошел час, но для нас понятие времени отсутствовало…
Наконец двое наших поднялись и пошли осматривать, что осталось от позиции. Вслед за ними стали подниматься с земли остальные. Молчаливые, хмурые, мы отряхивались от пыли, и тут я услышал чей-то голос:
— От этого представления я наложил полные штаны…
Ничего не думая и не чувствуя, мы хмуро перевязывали раны, чисто автоматически привели лагерь в порядок, закопав сгоревший генератор. И все так же автоматически, как в полусне, вновь опустились на землю и стали пялиться на лаву, заполнявшую степь.
Было ясно — война окончена и нам «повезло». Это было больше, чем факт, любые вопросы показались бы наивными и глупыми. Дакота исчезала, от нее ничего не осталось. Точка! Война кончилась.
Мы были близки к истине, но недостаточно, чтобы понять ее.
Примерно через час на гравитолете прилетел связной из главного штаба. Выключив аппарат, он спрыгнул на землю и сделал два шага по брустверу, выходящему в ад и… остановился. Его рука потянулась к горлу, остановилась, опустилась и вновь стала подниматься.
Мы молча смотрели. Штаб, руководивший уничтожением Дакоты, был предусмотрительно размещен за Доминиканами. Из своего укрытия они в лучшем случае могли наблюдать зарницы в облаках. И сейчас эта тыловая крыса, наверное, впервые в жизни увидела, что же такое война, воочию, а не по сводкам. Он смотрел на город, точнее, на то место, где совсем недавно был город.
По лицу тыловика я мог безошибочно прочитать все его мысли и с удовлетворением заметил, как вдруг он весь как-то сгорбился, словно кто-то невидимый занес кулак над его головой. Многие из штаба Квесторов, принимавшие непосредственное участие в планировании уничтожения Дакоты, покончили жизнь самоубийством. Но у остальных нервы оказались покрепче или совести было поменьше… Не знаю, к какой категории относился этот гусь…
Связник наконец собрался с духом и поплелся к нам. Он шел, как после бурного возлияния, с неестественно белым лицом. Но чудовищным усилием воли ему удавалось владеть собой. Отозвав в сторону командира нашего отделения, Гейнита, он что-то втолковывал ему в течение получаса. Видно, отчаявшись что-нибудь ему объяснить, связник развернул карту и продолжил свои объяснения, тыча в нее пальцем. Гейнит, видимо, начал понимать и временами в знак согласия кивал головой. Потом тыловик быстро что-то нацарапал на листке бумаги и передал записку командиру. Прощаясь, он пожал руку, кивнул нам и поспешил к своему гравитолету. Аппарат взмыл каким-то странным рывком, на миг завис над нашими головами, а затем, описав пологую дугу, скрылся за вершинами Доминикан. Гейнит стоял в клубах пыли, поднятой воздушным потоком, и с непроницаемым лицом следил за полетом гравитолета.
И вновь в лагере воцарилась тишина.
Командир подошел к нам, немного подождал, пока все обратят на него внимание, и отдал приказ готовиться к маршу. Мы не поняли… Он повторил приказ все таким же спокойным, не терпящим возражений голосом — Гейнит всегда терпелив до безобразия. Секунду мы молчали, потом кто-то чертыхнулся, кто-то печально усмехнулся, и «заклятие» Дакоты было снято, по крайней мере, на некоторое время. Мы начали довольно быстро сворачивать лагерь. Кое-кто начал разговаривать, но таких было немного.
Когда со сборами было покончено, Гейнит возглавил строй и повел нас всех вверх по склону, а затем вниз, в сторону хребта. Мы перешли перевал и стали спускаться по другую сторону горной цепи. Думаю, что каждый из нас хотел оглянуться назад, на то место, где была Дакота, но никто не оглядывался… Каким-то необъяснимым образом над нами по-прежнему царствовала ночь.
Обычно мы не разговаривали на марше, но тишина этой ночи была воистину ужасающей — можно было слышать хруст гальки под сапогами, слегка хриплое дыхание, приглушенное звяканье штыков, бьющихся о подсумок… Можно было услышать наш страх, можно было увидеть его, почувствовать!!!
Мы могли попробовать его на вкус, прикоснуться к нему!
Мы были частицами чего-то настолько древнего, что название ЭТОГО пришлось откапывать из-под толщи пыли веков, из забытия, перелопатив руины древних историй в поисках древних идей, ’пригодных сегодня для борьбы с Объединением. Я был в отряде «коммандос». Не надо спрашивать, что значит это слово. Я сам так и не смог понять его значения. Но именно так когда-то очень давно называли подобные отряды. Я смутно догадываюсь, что это означает в категориях человеческого дела. Это значит — гадость! Длинные, мерзкие дни и ночи, в которых вся дневная мерзость проходит в кошмарах, от которых вскакиваешь с постели в холодном поту. Холод, мрак, сырость, смерть, вылетающая неизвестно откуда и когда, смерть, разрывающая нервы постоянной смертельной опасностью. Смерть, словно перчатка, брошенная в лицо. Ты постоянно в напряжении, которое постепенно превращается в боль. Ты привыкаешь к этому. Боль настолько входит в тебя, что ты свыкаешься с ней, забываешь о ее существовании, забываешь, что раньше, за миллионы лет, ты не знал о ней. А в настоящем ты живешь только на адреналине.
Но мы любили эту жизнь. Мы были одержимы идеей. Мы ненавидели, а служба позволяла нам выплескивать накопившуюся злость. На сотни лет мы были первыми, кто сумел сделать это… и это был наш триумф. Ученые и историки, стоявшие у истоков движения Квесторов, были умны и не слишком приглядывались к отдельным членам Общества, благодаря этому и удалось сложить мозаику из разноцветных архивных документов праистории. Они с самого начала знали, что единственная ’ возможность победить Объединение заключается в том, чтобы застать его врасплох радикальными концепциями и еще чем-нибудь таким, с чем оно никогда не сталкивалось, а значит, и не было готово к противодействию тем, что находится за пределами современного опыта человечества.
Концепции они стали выкапывать в документах праистории, настолько древних, что тление практически уничтожило их. Наконец им повезло, и они нашли подходящие записи с нужными данными. После этого им оставалось подвести древние идеи под современную стратегию…
В одной из записей они почерпнули идею «партизанской войны». Я не знаю, что это значит, но на практике мы использовали эту идею примерно так… мы играли по своим собственным правилам вместо того, чтобы копировать основы стратегии противника. Ты позволяешь противнику играть по его правилам, но сам постоянно руководствуешься своими. Это открывает перед тобой широчайший стратегический простор. Ты действуешь! По мнению противника, действуешь абсурдно, но в этом-то и заключалась древняя, давно забытая тактика. Противник не знает, откуда ждать следующий удар, от, чего ему обороняться. Кажется, он так и не понял наших методов борьбы.
Мы привыкли ходить на операции с оружием, изготовленным по древним чертежам. Наше оружие действовало на основе простых химических реакций внутри механизма, метавшего крошечные металлические снарядики. Эти снарядики обладали громадной энергией, входя в тело, они пробивали внутренние органы и убивали, в других случаях надолго выводили противника из строя. Я знаю, что в век гравитационных полей это звучит странно, но поверь, действовало это оружие довольно эффективно.
Тут надо не забывать то, что в Объединении общество находилось под строгим контролем, во многом даже более строгом, чем в Сообществе. Украсть энергетическое оружие было почти невозможно, да и использование оружия из арсеналов Объединения было сопряжено с большими трудностями — большинство его типов питалось (заряжалось) Центральной Энергостанцией Объединения. Тотчас после пропажи хотя бы одной единицы… Объединение отключило бы питание соответствующего кода вооружений. Своими силами в наших мастерских такое оружие было практически невозможно изготовить, к тому же мы не имели энергостанции, способной обеспечить наше оружие зарядом. Наши «автоматы», при всех их недостатках, были, по крайней мере, атомными, к тому же все средства защиты типа фазостен и всевозможных защитных экранов были не в состоянии задержать наши маленькие снарядики или, как их называли древние, «пули». Экраны были слишком сложны и не могли реагировать на такие мелочи, как комочки металла, движущиеся с относительно небольшой скоростью. Так же получилось с «бомбами» и «гранатами» — металлическими оболочками, начиненными взрывчатым веществом; после взрыва оболочку разрывало на куски, и они летели, неся смерть.
Этот список можно было бы продолжить до бесконечности.
Стратеги Объединения думали, что мы не способны быстро передислоцироваться с места на место, поскольку все машины питались от Центральной Энергостанции Объединения… Ты когда-нибудь слышал о «велосипедах»? Эти устройства приводились в движение механической энергией, посредством несложного привода превращавшейся в энергию движения. Ездили они на колесах, приводимых в движение посредством физического труда, точнее, работы ног, вращавших маховик. Масса этих «велосипедов» была невелика, и их невозможно было заметить на экранах локаторов, поэтому мы могли скрытно подобраться к таким местам, к каким, по мнению специалистов Объединения, и приблизиться было невозможно. Связь? Мы передавали информацию при помощи солнечных зайчиков — которых пускали маленькими зеркалами. В пасмурную погоду использовали дым. Кроме того, у нас были связные, которые доставляли особо важные депеши лично.
Но самым важным было то, что мы как бы олицетворяли, собой войну! Это было, пожалуй, самым важным из того, чего добивались наши командиры. Это превратило нас из банды подростков, бегающих туда-сюда в поисках приключений, в людей, твердо знавших, ради чего они идут на смерть, и это лишало войска Объединения духа борьбы. К сожалению, из-за этого же до сих пор люди с тревогой вспоминают Переворот, особенно в Сообществе.
Нам приходилось убивать людей собственными руками. Мы перерезали им глотки. В своем рассказе я уже однажды упоминал штыки, но готов дать голову на отсечение, что ты не знаешь значения этого слова. Хотя, отдавая тебе должное, признаю, ты великолепно блефуешь. Открою тебе маленький секрет: лучший путь завоевать репутацию мудрого человека — всегда оставайся невозмутимым и делай умное лицо, плюс никогда не болтай лишнего… Ну, я немного уклонился от темы… Штык — это заостренная полоска металла, снабженная рукояткой. По граням он обоюдоострый, острие очень твердое и тоже острое. Все это сделано для того, чтобы металл резал человеческую плоть так же легко, как масло, в конечном итоге убивая жертву. Когда ты убиваешь, кровь хлещет из раны и течет по твоим рукам. Ее трудно смыть, она накрепко пристает к твоим рукам. Мы хорошо освоили свою грязную работу… Наши удары были сильны и точны. Мы не только резали своих врагов, но и душили их кусками стального провода… Прости, если я тебя шокировал… В подобном шоке оказались и люди Объединения. Они привыкли убивать на расстоянии… Они нажимали кнопки, а… остальное выполняли их грозные машины. Люди не являлись для них чем-то конкретным, в их понимании жертвы представлялись какой-то абстрактной статистической величиной — и не более.
Мы же убивали, видя лица своих жертв. Слыша их предсмертные стоны, видя их агонию…
Так способны убивать только безумцы. Мы и стали такими, в безумцев нас превратила война. Благодаря этому мы стали грозным, боеспособным подразделением.
В отряде нас было двенадцать. Но действовали мы обычно повзводно — боевыми четверками.
На долгие два года взвод заменил мне семью…
Я был во взводе Гейнита — командира отряда.
Гейнит — крепкий, с залысинами, порядочный мужчина средних лет. Наделенный от природы талантами командира и организатора.
Рен — флегматичный, немного замкнутый в себе, молчаливый, со своеобразным чувством юмора и до безобразия точный.
Гот — молодой, неутомимый, очень импульсивный, с резкими перепадами настроения — от щенячьей радости до вселенской скорби. Но пробыл он с нами недолго, месяца четыре, придя на смену Мейсону, погибшему при штурме Кате Итика.
Ну и ваш покорный слуга.
Мы были людьми скорченными, в какой-то степени — эмоциональными калеками… Одним словом — безумцы.
Объединение, несмотря на то, что за годы своего господства уничтожило миллионы людей, не могло понять наше безумие. Они нас боялись… и это обрекло их на поражение. И это приводило к провалу их планов.
Незадолго до нападения на Дакоту нам удалось захватить Доминиканский передатчик… Окруженный в несколько колец противолучевыми, противохимическими и противобактериологическими экранами… Защищенный от любой энергетической атаки, он казался неприступен.
Мы пришли к нему пешком. Они даже не могли представить, что можно атаковать пешим строем, и они оказались беззащитны… Сигнализация была запрограммирована на более изощренные угрозы… Десять лет войны так и не научили их тому, что человек сам по себе является наиболее грозным оружием. Благодаря этому мы беспрепятственно подошли к передатчику. Вошли и уничтожили весь обслуживающий персонал. Команда передатчика состояла из разумных Клопов. Их было десять, включая командира-инструктора. И никаких Нулевиков или Воскресших. Десять техников, похожих один на другого. Десять фигур, мечущихся в панике и глядящих на нас, как на явление из загробной жизни. Мы раздавили их, как жуков, не задумываясь. Позже мы подорвали передатчик химическими запалами. Когда вверх взметнулся фонтан огня, освещая все вокруг, мы вскочили на велосипеды и что есть духу покатили назад к Доминиканам. Спустя мгновение сработало искажающее поле. Но мы были уже далеко.
Это все, что у меня было общего с исторической битвой под Дакотой. Впрочем, для меня этого более чем достаточно. Мы начинали эту битву. Без передатчика силы Объединение лишилось энергии, вся их сложная техника, начиная с обогревателей стекол и кончая смертоносным оружием, перестала работать. Без передатчика Дакота не могла существовать, а значит, по сути была обезврежена… И самое важное — без энергии остались четыре главных мозга Дакоты, занятые решением стратегических задач.
То же произошло и с многочисленными меньшими мозгами синапсами, требующими непрерывной энергоподкормки, а также и с комплексом ганглианов, через которые должен постоянно проходить психокибернетический ток, поскольку обесточенные, а значит, лишенные привычного раздражителя, они впадали в бешенство. Даже Нулевики, доведенные отсутствием энергии до осознания своего существования, стали непослушными и агрессивными. Через несколько дней они погибли. В положении Нулевиков оказались и разумные Клопы низших категорий — не имеющих собственных органов пищеварения, в большинстве своем используемых на военной службе. Без энергопитания они не прожили и двух дней.
Независимые дозаторы пищи, которыми пользовались Клопы высших каст, не смогли бы обеспечить питанием всех остальных ни при каких условиях — они были маломощны.
Да, разумеется, были и вспомогательные, запасные системы. Но они не использовались в течение столетий и по большей части пришли в негодность. О том, чтобы исправные не работали, позаботились другие отряды Коммандос.
Дакота проиграла задолго до первого залпа. Реакция Объединения совпала с нашими планами. Как это и внушали ему рапорты от надежных разведчиков, доносившие о большой концентрации сил Квесторов под Дакотой. В несколько часов Объединение подтянуло к городу мощные соединения.
Почти все профессиональные войска, огромное количество полицейских, подготовленных из представителей промышленных Клонов во времена, когда Квесторы только начинали поднимать свой мятеж. Сюда же, под Дакоту, была стянута основная масса тяжелых вооружений Объединения. Они хотели застать Квесторов врасплох, зажать их войска между городом и Доминиканами. Накрыть этот район таким энергетическим залпом, чтобы после него никто не остался жив. Они надеялись покончить с нами раз и навсегда. И хотели это сделать с максимальной жестокостью, чтобы никто не решился выступить против Объединения.
Но их планы обернулись против своих создателей. Квесторы за долгие годы войны в совершенстве овладели стратегией. А маневренность у наших подразделений, как я уже говорил, была велика. До этого мы старались избегать крупных сражений, предпочитая заниматься диверсиями. Мы никогда не применяли против Объединения своих тяжелых орудий. Когда Объединение рискнуло и поставило на карту все, решив бросить против Квесторов практически всю свою мощь… мы изменили обычной технике… Квесторы приняли вызов и ударили по Объединению мощью всего своего потенциала, скопленного за годы войны. Всем, что могли украсть, сделать, купить за более чем астрономическую стоимость.
Примерно через час после начала арт-подготовки город исчез. Весь, за исключением двух Главных мозгов и Приюта. Вот тогда-то Квесторы и запустили свой генератор гравитации, который по случаю приобрели здесь на Косе у какой-то фирмы. Это казалось безумием… прибор, используемый при крупных земляных работах, мог уничтожить всю планету — но вся армия Квесторов состояла из безумцев… Наше безумие было продиктовано отчаяньем… В общем, в штабе решились на эту крайнюю меру… В несколько минут превратились в порошок тяжелые батареи Объединения, затем исчез Приют — наверное, это был первый за всю историю случай уничтожения Приюта, мы его уничтожили случайно. Потом, когда дозирование энергии вышло из-под контроля и впридачу включили этот проклятый двигатель, в степи вообще ничего не осталось!.. НИЧЕГО!!!
Жуткая была бойня.
Вспомни, как было велико население Дакоты — второго по величине города на планете и одного из крупнейших в этом секторе Галактики. У его пирсов швартовались флотилии подводных судов, доставлявшие в верховья Дельвы урожаи бытии и другие товары — а в то время года движение по реке было весьма интенсивным.
Вспомни про шахты и фабрики, про Западные Верфи и завод Энергоустановок. Прибавь массу жителей шести Главных Контролируемых Сред, кольцом окружавших город. Прибавь Администрацию Южного Округа, правящую на этом полушарии. Прибавь двадцать поколений «Полноразумных из Дакоты», формулы личностей которых хранились в непроницаемых сейфах Приюта. Они тоже погибли, на этот раз естественной смертью. После падения Дакоты она уже не могла воскреснуть даже в образе бестелесного мозга, помещенного в питательный раствор. Записи из Мозговых кодов погибли. Нельзя восстановить сознание из лужи расплавленного шлака. Это был смертельный удар по Объединению, он вызвал большее напряжение, чем все остальное. Можно восстановить, создать заново все, что угодно — кроме интеллекта. Потери в живой силе противоборствующих сторон можно не учитывать, в сравнении со всем остальным они были ничтожны.
И без них погибло несколько миллиардов человек… Задумайся…
Разум не в силах объять это число. Оно так велико, что его невозможно представить. Но никогда нельзя забывать о них…
Я шел и всматривался в спину Рена, в его почти невидимую в темноте фигуру манекена, и пытался понять ради чего, ради чего погиб цветущий город. Я шел почти вслепую, спотыкаясь. Преследуемый пережитым кошмаром…
Миллиарды!!!
Сколько душ не познают покоя? Кого они проклянут за свою смерть?
МИЛЛИАРДЫ!!!
Спустя два часа после выхода на марш нас нагнал рассвет. Как всегда, он пришел неожиданно. То мы почти наощупь пробирались сквозь чернильно-черную, безлунную ночь, под пристальным наблюдением сотен звезд. И вот уже светло, звезды ушли.
На востоке заалела заря, я на секунду замешкался, стягивая очки ночного видения и пялясь на небо. Что принесет нам новый день? Наивный вопрос? Что же, в свое время и я был глуп, как ты… Но это была моя первая самостоятельная мысль, с тех пор как я валялся там на 1.олме, наблюдал танец разъяренного бога. Я повторил мой вопрос и стал ждать ответа, наблюдая, как мое дыхание сгущается, превращаясь в сгустки пара.
Солнце вылетело из-за горизонта, подобно метеору. Оно всегда выскакивало так стремительно и неожиданно, что к этому не могли привыкнуть даже рожденные на Мире…
Сначала суровый, затем все более радостный свет залил все вокруг. Тени с каждой секундой становились все более четкими. Солнце с каждой секундой поднималось все выше и выше, очищая своим светом небо от ночной черни. Свет становился все ярче, из розового превращаясь в золотой. Начал подниматься утренний туман, мы по колено тонули в нем, а он поднимался все выше и выше — потоками устремляясь к вершине гор.
Мы шли между туманом и небом, вне грешной земли, и старались прогнать мысли о происшедшей трагедии. И тут я почувствовал, как по моим щекам, может быть, первый раз в жизни, текут слезы…
Что-то защелкало — так наши термокостюмы реагировали на изменение температуры и света, теперь под действием солнечного света они из черных превратились в белые. По склонам гор увядали ночные растения, когда туман поднимался к вершинам гор, это было хорошо видно. За считанные секунды Доминиканы изменились, превратившись в мертвую пустыню. Солнце, поднявшись высоко, превратилось в огромный диск. Лишенные растительности горы покрывались шрамами четких, на удивление черных теней. Казалось, жизнь покинула их. Но спустя несколько секунд из всех щелей стала выбиваться дневная растительность. С вершин гор в долину устремились тучи, смывая пыль, покрывавшую ущелье и неся жизнь.
Через час мы вышли в долину; Гейнит повел нас вниз, на простирающуюся до самого горизонта долину. Описав полукруг, мы подошли к горловине долины. Все укрылись, растянувшись в цепь поперек горловины, за исключением нашей четверки. Мы пошли дальше.
Миновав еще один перевал, мы вошли в заросли саблетрав и стали скрытно пробираться через них. Мы старались двигаться вместе с порывами ветра, чтобы ничей посторонний глаз не мог нас заметить.
После получаса утомительного ползанья я почувствовал, что достиг края зарослей. Остановившись, я осторожно раздвинул листья травы и выглянул наружу…
На поляне стоял огромный гравитопаром, примерно пятисотфунтовый, оснащенный оборудованием для самовыгрузки и самозагрузки.
Рядом с паромом стояло три человека.
На то, чтобы увидеть все это, мне потребовались доли секунды. Все рассмотрев, я тотчас отпрянул назад. Быстро проверив исправность автомата, я снял его с предохранителя, а затем осторожно пополз через траву, стараясь подобраться поближе к парому.
Выглянув в очередной раз из травы и убедившись в том, что до парома довольно близко, всего около двадцати футов, я приступил к тщательному наблюдению. Со своей позиции я рассмотрел на борту корабля идентификационную голограмму. Судя по ней, корабль был приписан к Урхейму — столице Объединения. Городу, расположенному в северном полушарии. Чтобы сюда добраться, им пришлось проделать большой путь, несмотря на то, что они передвигались не своими ногами… Их путь был долог потому, что им пришлось пройти все фазы развития — от зародышей в стеклянных пробирках до людей, дрожащих сейчас под порывами ветра у меня на мушке. Эта мысль меня позабавила, и я задумался: обладают ли они даром предчувствия и догадываются ли о том, что этот рассвет окажется для них последним. Подобная мысль заставила меня улыбнуться, и я вторично, без всякой нужды, проверил свой автомат.
Приходилось ждать, стараясь заглушить нарастающее чувство беспокойства.
Двое из стоявших отошли к носу парома и закурили одну сигарету на двоих. Ветер донес до меня слабый аромат наркотической травы. Слегка пошатываясь от наркотика или от постоянного недосыпания, они внимательно смотрели поверх саблетрав на равнину. Своим «одеревенелым» видом они напоминали людей, впервые угодивших в ночлежку и с непривычки проворочавшихся там с боку на бок всю ночь, так и не уснув. На них была надета форма младших полноразумных офицеров касты военных. Скорее всего, как и большинство представителей неклонированных каст, они получили свои должности по наследству. Не считая кадров из Урхема и других главных городов, они были одними из немногих счастливчиков, уцелевших после уничтожения Дакоты — там погибли сотни тысяч кадровых, офицеров военной касты, а клан военных всегда был немногочисленным. Хотя регламент рекомендовал Объединению формировать силы Безопасности из представителей неклонированных высших каст последнего бастиона «закостеневшего деспотизма», — но за долгие годы бездействия силы Безопасности превратились в чисто формальный отряд и не играли существенной роли. Это, в свою очередь, привело к движению Квесторов и, в конце концов, вынудило Объединение принудительно перевести представителей промышленных клонов в отряды полиции.
Один из курильщиков был ниже и моложе меня. Третий ушел и теперь сидел в кабинете парома. Сквозь затемненные стекла иллюминатора был виден его силуэт.
Я ждал.
После нескольких минут ожидания я услышал негромкий свист Гейнита.

Я тотчас вскочил на колени и, раздвинув траву, прицелился. Офицеры вздрогнули. На их лицах отразился смертельный страх. Старший из них сделал шаг вперед, сжимая в руке бластер… Рен дал очередь, и он упал как подкошенный. Затворы автоматов громко щелкали, из стволов вылетал огонь, из травы с невероятным шумом поднялась стая птиц. Офицер уронил бластер и упал. Его спутник бросился к шлюзам парома. Я нажал на спуск. Кадета отбросило. Широко раскинув руки, он стукнулся о борт парома, сполз вниз и, распластавшись на земле, затих. Секунду спустя он попытался приподняться и снова упал.
Третий покинул кабину и выскочил из шлюза, паля наугад из биодэта. В травах, там и тут, в местах попадания его смертоносных лучей, появлялись борозды почерневшей травы. Гейнит меткой очередью прекратил это безобразие. Пули отбросили офицера к корме парома, где он замер, неестественно выгнув руки. Биодэт лежал рядом с ним.
Когда мы выбрались из укрытий и подошли к парому, кадет все еще дышал. Гот поднял автомат, но Гейнит знаком остановил его. И словно благодаря за эту милость, юноша открыл глаза, посмотрел на нас и… умер.
Мы пролили много крови.
Услышав, что бой закончился, подошли остальные, Гейнит отправил их в караул. А нам разрешил отдохнуть.
Оттащив трупы подальше в заросли, мы улеглись в тени парома.
И вновь, как после Дакоты, я почувствовал себя полностью опустошенным…
Я все утро не мог успокоиться, чувствуя себя не в своей тарелке. Казалось, что разум покинул тело и оно живет и двигается само по себе…
Работы было очень много… Среди наших вещей имелось четыре промышленных лазера для горных работ. Эти большие, малопроизводительные устройства использовались для прокладки тоннелей в горах и никак не могли быть использованными в качестве оружия. Но мы решили попробовать, тем более, у нас не было выбора. Эта операция не планировалась. Связной доставил приказ, и теперь нам приходилось импровизировать на скорую руку. Приходилось использовать все, что хоть отдаленно могло послужить в качестве оружия. Времени тщательно подготовиться у нас не оставалось, а от исхода этой операции зависела судьба восстания. Когда в штабе узнали о планах Объединения, времени на раздумье уже не было, а мы оказались ближайшим отрядом… Так что выполнять приказ выпало нам. Наши лазеры чисто случайно оказались под рукой, их суммарная мощность почти равнялась мощности тяжелого полевого орудия. Поэтому мы и решили использовать их.
Захватив паром, мы тотчас разбили передатчик. Гейнит посигналил зеркальцем в сторону недавно покинутого нами горного перевала. Не прошло и десяти минут, как прибыл связной, притащивший на спине один из лазеров. В четыре ходки он приволок все… Затем, не прощаясь, вернулся на перевал. Было хорошо видно, как его гравитолет по сумасшедшей дуге летит в сторону Доминикан. Он не проронил ни слова, ни разу не улыбнулся. По-моему, он был из тех Квесторов, которые после победы пошли по Дороге Покаяния. Это предположение подтверждает то, что я его больше никогда не видел.
Иногда я сожалею, что не отправился по тому же пути, но с другой стороны, мне кажется, что я всю свою последующую жизнь только тем и занимался, что каялся и пытался искупить свои грехи. А это, на мой взгляд, гораздо тяжелее, чем просто уйти в небытие. Возможно, я прав, не мне судить… По крайней мере, иногда приятно так думать.
На установку и наладку лазеров у нас ушло два часа. Мы разместили их с четырех сторон долины, укрыв в наклонных шахтах, высверленных в скалах. Самым трудным было рассчитать угол стрельбы, но в конце концов нам удалось скрестить лучи лазеров в точке, расположенной на сто футов выше земли в центре долины. При этом шахты позволяли в случае необходимости изменять угол на несколько градусов в сторону. По нашим расчетам, именно там должен был приземлиться «незваный гость». Незваным гостем должен был стать «стандартный орбитальный бот». Почему орбот? Потому, что только такой корабль и мог приземлиться в этой долине и при этом не повредить гравитопаром. Если же его решат посадить за горловиной долины, то наши усилия пойдут прахом… Изменить прицел наших лазеров было почти невозможно… Разумеется, в этом случае мы бы постарались взять, орбот штурмом, лишь только он коснется земли. Однако в этом случае наши шансы на успех были невелики.
Но мы были почти уверены, что он приземлится в долине. Во-первых, потому что здесь уже приземлился гравитопаром, а во-вторых, это место с четырех сторон прикрывалось высокими гранитными скалами. Здесь бот надежно скрывался от случайных любопытных глаз.
Если бы наше предположение подтвердилось, то наши шансы на успех становились почти полными. Во всяком случае, никак не меньше восьмидесяти процентов.
Закончив приготовления, мы укрылись в траншеях невдалеке от своих импровизированных орудий.
Гейнит отвел меня с Готом к лазеру, расположенному на склоне горы, прямо над гравитопаромом. Рен остался внизу. Когда мы скрылись, он забрался в кабину парома.
И вновь в долине казалось все спокойно. С нашей позиции гравитопаром казался маленькой блестящей игрушкой. Солнечные зайчики играли на его блестящей поверхности. Просто потерянная игрушка, затерявшаяся в высокой траве, ожидающая, что хозяева вспомнят о пропаже и найдут ее. Но хозяева никогда не придут.
Шло время.
Птицы, успокоившись, вернулись на склоны. Я постарался усесться поудобнее. Но Гейнит взглядом приказал мне не шевелиться. Мы скрывались в траншее шесть на восемь футов, накрывшись маскирующей сеткой со стороны долины, приподнятой в некоторых местах. Местами сетка была присыпана землей и дерном. Гейнит сидел посередине, рядом с пультом управления лазера. Слева от него расположился Гот, справа — ваш покорный слуга. Когда придет время, Гейнит включит лазер… Для этого хватит одного человека. Мы с Готом остались не у дел, нам нечего делать, даже когда начнется схватка. Если только не придется заменить командира… если произойдет что-то неординарное, и командира выведут из строя случайным взрывом. «На войне, как на войне», — сказал кто-то из древних. Правда, мы с Готом могли понадобиться еще и в случае, если бы пришлось изменить прицел лазера. Но и то, и другое было маловероятно. По крайней мере, мы надеялись на это.
Приближался бенефис Гейнита, нам же предстояло играть роль молчаливых статистов.
А это очень плохо — у нас появлялось время для размышлений. И это было самым страшным.
Я почувствовал, что тупею, было такое ощущение, что меня отделили от мира стеклянным колпаком. И этот колпак медленно, слой за слоем, тает. И еще меня, несмотря на то, что я сидел бок о бок со своими товарищами, не покидало чувство одиночества. Казалось, что они находятся за десяток миль от меня, и вместе с этим меня охватила паника, тупая, звериная. Казалось, мое тело превратилось в прозрачный пластик, кости в стекло, и нет вокруг ничего, и некуда укрыться. Окружи меня армия, я все равно останусь один. Закопайте меня под землю, я все равно буду нагим. Часть мозга думала, что это — результат шока или следствие переутомления. Другая боролась, стараясь удержать крик ужаса, готовый сорваться с моих губ. Кошмар нарастал. Я ощущал только обостряющееся чувство одиночества.
Я смотрел на все как бы со стороны… Мне был виден расплавленный паук Дакоты, лежащий на хребте и показывающий свое отвратительное брюхо, шевеля в небе огненными конечностями, касаясь ими облаков, вызывая на них пузыри от ядовитых укусов.
Я видел парня с залитым кровью лицом, бившегося в предсмертной агонии на земле.
Великие, простые идеи казались мне порочными.
В долине все оставалось спокойным, за исключением колышущихся на ветру трав да птиц, круживших над ними.
Ноги паука.
Танец краба.
Черная тень гравитопарома, ползущая по долине.
Неожиданно удивительно четко я увидел Рена, сидящего там, в кабине парома. Он развалился в кресле, положив ноги на пульт управления, скрестив руки на груди и поставив автомат между колен. Несмотря на кажущуюся отрешенность, он внимательно следил за входом в долину. Время от времени он вынимал изо рта дымящуюся сигарету и стряхивал пепел на блестящий металлический пол…
И… улыбался своей непонятной улыбкой, осторожно поднося кончик сигареты к плюшевой обивке. Ткань (натуральная, не пластиковая подделка) тлела, дымясь струйкой серого дыма, и в кресле появлялась очередная дыра с обугленными краями. Рен, вновь улыбнувшись, подносит сигарету ко рту, поудобнее откидывается на спинку кресла и глубоко затягивается.
Рена оставили в кабине, чтобы послать ответный сигнал на запрос орбота. По нашим расчетам это должно было уверить экипаж в полной безопасности и стянуть их с орбиты в объятия смерти. Если бы они что-нибудь заподозрили, он умер бы первым. Если же все пойдет гладко, то, исходя из плана, он тоже скорее всего погибнет. Он был на виду. «Камикадзе» — так древние называли людей, выполнявших подобные задания. Рен говорил, что не наложит в штаны. Возможно. А возможно, что он попросту рассчитывал на везенье. Вообще, он был со странностями. Старше любого из нас, даже Гейнита. Большую часть жизни провел в Урхейме, работая военным инструктором в Администрации. Он честно трудился, вкладывая в работу всю свою энергию. Трижды его представляли на должность старшего инструктора, но он трижды отказывался. После третьего раза его отправили в отставку на жалкую, полунищенскую пенсию, которую ему назначили за сорок лет безупречной службы.
На следующее утро он отправился в свою контору к началу рабочего дня, завладел биодэтом часового из охраны Административного Корпуса, пришел к себе в отдел и, перестреляв всех его служащих, бежал из Урхейма. В течение года он где-то скрывался, потом поступил на службу к Квесторам. В течение года он учился, а потом, несмотря на преклонный возраст, был направлен в один из отрядов «коммандос». Это произошло за пять лет до падения Дакоты. Вместе мы служили два года. За эти годы я слышал от него примерно по пять слов в день. Свое дело он выполнял профессионально — никогда не ошибался, никогда не жаловался, никогда и никому не показывал своих чувств. Но иногда он начинал улыбаться и прожигать дырку… В чем-нибудь или в ком-нибудь…
Вечерело, солнце нырнуло за горизонт, и казалось, что оно разбилось о долину брызгами огня. Одним глотком ночь поглотила нас, чернея, как брюхо чудовища.
Это вырвало меня из власти кошмара и вернуло к действительности. На мгновение я испугался — мне показалось, что я ослеп. Но потом я стал мыслить логически… Надел очки ночного видения, и мир, правда черно-белый, вернулся ко мне.
Гейнит тер одеревеневшие от долгого сидения ноги об основание лазера. Он отдал приказ, и мы проглотили по таблетке транквилизатора, паршивое было время. Третьи сутки мы держались на таблетках. Они были жутко горькие, без воды их было почти невозможно проглотить, но они помогали… Кровь быстрее бежала по жилам, настроение подымалось, сонливость пропадала. Я покосился на командира, Он молчал, думая о чем-то своем. Затем, видимо, почувствовав мой взгляд, посмотрел на меня, на Гота и разрешил выбраться из окопа.
Мы с радостью покинули тесную яму и принялись растирать онемевшие члены, притопывая на месте, чтобы восстановить нормальное кровообращение.
Звезды, подобно осколкам стекла на черном бархате, усеяли небо. Дневные травы увяли, дневные животные впали в спячку. Из грунта, кормясь останками дневных, показались ночные растения. Они росли с непостижимой быстротой на наших глазах, удваивая, а затем утраивая свой рост. В основном это были странные кусты с толстыми, липкими ветками, около четырнадцати футов высоты. Листья на них росли черные, формой напоминавшие наконечники копья. Мы с Готом аккуратно, стараясь не повредить корней, выкопали пару таких кустов и поставили на маскировочную сеть. Взамен увядших дневных трав. Брать кусты приходилось ватными рукавицами, их листья реагировали на любой источник тепла и обжигали, подобно сухому льду.
Потом мы вернулись в траншею. Но после разминки сидеть там было еще хуже. Движение и таблетка привели меня в норму, но теперь, когда я был вновь обречен на ничего-не-деланье, дневной кошмар вернулся с удесятеренной силой. Минутный отдых сделал кошмар невыносимым.
Я попытался заговорить, но получилось лишь неразборчивое бормотание, утонувшее в ватной тишине. Я видел, как неузнаваемо изменился командир. Своими движениями, напряженными мышцами, заостренными скулами он напоминал скалу… Гот чувствовал себя хуже всех. Молодой, всегда подвижный и веселый, он плохо переносил ожидание. Особенно в эту ночь.
Чтобы хоть как-то выбраться из состояния депрессии, нам надо было говорить. Каждый мучился, одолеваемый своими собственными мыслями… Хотя постепенно каждый из нас приближался к тому состоянию, за которым продолжать молчать было равносильно самоубийству. До Дакоты мы обычно всегда, находясь в секрете, коротали время за разговорами, взаимно изливая друг другу страхи, воспоминания, планы. Это помогало нам держаться вместе, лучше узнавать друг друга. Это отгоняло страх, скрывавшийся глубоко, в дальних уголках подсознания каждого из нас. Страх показать товарищам свою боязнь смерти. И теперь, когда, чтобы очиститься и сбросить с себя оковы «кошмара Дакоты», нам надо было просто по-человечески поговорить и выплеснуть одолевающие нас мысли наружу — никто не решился на это…
Всех переполняли видения недавнего кошмара; кипящая магма, испускающая свое зловонное, обжигающее дыхание с примесью запаха тухлых яиц.
Молодой офицерик, совсем мальчишка, его лицо с улыбкой, кровь, текущая из простреленного лба и медленно заливающая остекленевшие, широко, в немом вопросе раскрытые глаза… Я хотел и не мог понять… Я часто убивал, и это не оставляло во мне никакого осадка, разве что неприятный сон на следующую ночь. А тут… Я мечтал, чтобы эта ночь поскорее закончилась. Но не знал, закончится ли она или будет преследовать меня вечно??? В моем раздираемом противоречиями мозгу крутился один большой кошмар. Город, поглощенный камнем. Кадет, падающий с широко раскинутыми руками.
Почему-то два видения сливались в один большой кошмар…
Почему? За что?
Тогда у меня не было ответа на этот вопрос.
Да и сейчас я не смогу ответить на него…
Внезапно до нас донесся негромкий свист. Один из командиров отделений подавал сигнал…
Мы вздрогнули, напряжение стало невыносимым. И тут в тишине ночи мы услышали чьи-то шаги. Через мгновение раздался треск веток под чьими-то ногами. Кто бы это ни был, но он шел ничуть не таясь. Он пробирался сквозь заросли, производя невероятный шум. Мы с Готом обернулись на звук и вскинули автоматы. Это был рефлекс, выработавшийся за годы войны. На время кошмар был забыт. Мозг заполнил единственный вопрос кто там спускается с гор? Зачем?
Гейнит не стал оборачиваться. Он наблюдал за долиной. Спускавшийся с гор прошел всего в шести футах от нашего укрытия. Футах в десяти от нас, на склоне откоса, находилась свободная от кустов полянка. Мы ждали, пока непрошенный гость выйдет на нее. Наконец кусты у края поляны зашатались, и из них пошатываясь вышел… НУЛЕВИК!!!
Гот вздохнул, со свистом выпустив воздух сквозь плотно сжатые зубы. Гейнит с виду остался невозмутим. Я сначала чуть не рассмеялся, затем на смену облегчению пришло удивление… НУЛЕВИК!!! Как он сюда попал? Я снял автомат с предохранителя — и тут опять засомневался — НУЛЕВИК??? — и я вновь поставил автомат на предохранитель.
В следующие секунды все смешалось в моей голове: откуда, как, ЗАЧЕМ??? — мысли теснились, наползая одна на другую…
Нулевик неуверенными, пошатывающимися шагами пересекал полянку. Сделав два — три шага, он остановился. Затем сделал еще два — три шага… Он чуть не полетел под откос, затем отступил, следуя рефлексу самосохранения. Отошел на пару шагов назад и опустился на колени…
Низко опустив голову, нулевик стоял на четвереньках, словно пытаясь зарыться ладонями в землю.
Гейнит отложил автомат и потряс головой, словно пытаясь прогнать наваждение. Затем, выругавшись, он пожелал, чтобы его черти прибрали в ад, если он поймет, откуда тут взялся ВОТ ЭТОТ. Но в любом случае нам необходимо немедленно от него избавиться. Если его заметят, то начнут внимательно прочесывать местность и раскроют нашу засаду.
Я чисто механически поднял автомат и прицелился… Но Гейнит знаком остановил меня, добавив, что все надо будет сделать без шума. Затем он отдал приказ Готу отвести нулевика в сторону и прикончить, не поднимая шума.
Гот отказался. Гейнит метнул на него яростный взгляд, и я даже сквозь очки ночного видения увидел, как лицо командира краснеет…
Гот еже до этого не ладил с командиром. Гот был прекрасным солдатом, смелым, как лев, ловким, быстрым, но при всем при этом невероятно упрямым. Он слишком любил действовать по-своему. Он думал и обсуждал приказы… во всех его действиях сквозила необъяснимая сентиментальность, из-за этого он не мог быть по-настоящему надежным членом нашей группы.
С самого начала, с первого дня, мы так и не смогли найти с ним общий язык. Если бы Квесторам позарез не требовались солдаты, его бы никогда не послали в коммандос. Нет, я ничего не могу сказать, в бою он был подлинным дьяволом, одним из лучших во всей армии, за это Гейнит ему многое прощал. Но Гот был… слишком деликатным… точнее не подберу слов… Он не смог превратиться в бездумную машину, способную убивать не раздумывая, направо и налево, а это было несовместимо с партизанской войной… Еще до этой стычки я часто думал, как долго он пробудет с нами.
Хотя с другой стороны, его поведение было вполне объяснимо… Он был наследственным полно-разумным. Немногие из полно-разумных связали свои судьбы с Квесторами. Когда-то он был кадетом и у него была прямая дорога в инструкторы и дальше… Имея почти свободный доступ во все архивы, он занялся, как мне кажется, от скуки, изучением истории Объединения, а это привело к тому, что он вскоре стал с отвращением относиться ко всему, связанному с Объединением. Тут-то он и встретился с агентом Квесторов и поступил на службу к ним в архив. По прошествии двух лет он поступил в наш отряд коммандос. Но в отличие от большинства фронтовиков, сражавшихся на стороне восставших, Гот был движим не яростью, а, скорее… идеализмом… Поэтому мы никогда полностью не доверяли ему.
Что же касается Гейнита, то он вообще всегда ненавидел наследственных полно-разумных. И я его понимаю.
Он был членом шестерки, погибшей во время несчастною случая, произошедшего из-за халатности инженеров Объединения. Гейниту повезло, он уцелел. Объединение лицемерно принесло ему соболезнование и объявило, что с его помощью создаст новый клон. Взамен погибшей шестерки. А он, как старший, возглавит его. Инженеры поздравили его, считая, что делают королевский подарок… А он не мог представить, как сможет работать с копиями погибших братьев и сестер… Вежливо поблагодарив администрацию, Гейнит вышел и… шел до тех пор, пока случайно не наткнулся на один из отрядов Квесторов.
Я понял, что Гейнит клокочет от ярости и вот-вот взорвется. Гот тоже почувствовал и передернул плечами, однако промолчал. Нулевик в принципе был безвреден, а Гот не хотел убивать просто так. За последние дни и так было пролито слишком много крови… В глазах Гота я видел зарево Дакоты, но я не испытывал к нему симпатии, ведь он нарушил святую святых — не подчинился приказу! Я вспомнил Мэйсона, человека, на чье место пришел Гот, человека, умиравшего на моих руках. Я привязался к Мэйсону и полюбил его, так с какой же стати я должен испытывать симпатию к человеку, пришедшему на его место.
Мэйсон работал историком в одном из архивов Объединения. С самого зарождения Квесторов связал с ними судьбу. Долгие годы он успешно работал, а потом Объединение раскрыло его… Ему повезло, и он бежал, но его семья… В общем, Объединение выместило свою злобу на ней.
Квесторы предложили ему возглавить один из отделов штаба, но он отказался и попросился на передовую, ему говорили, что для человека его возраста — пойти на передовую равносильно самоубийству… Но он упорно добивался и попал в один из отрядов коммандоса. Несмотря на возраст, он отличался отличным телосложением и старался ни в чем не отставать от своих более молодых товарищей.
Сентиментальность и доброту он скрывал под маской неотесанного грубияна. Но по ночам, когда все спали, я слышал, как он плакал, уткнувшись в подушку. Более человечных людей я не встречал ни до, ни после…
В этот момент я так разозлился, что был готов собственноручно пристрелить Гота. Мне показалось, чтр он пачкает память Мэйсона.
Гейнит взорвался… сплюнув, он разразился потоками брани, затем, захлебнувшись собственным ругательством, замолчал и только сверлил Гота ненавидящим взглядом. Плотно сжатые губы побелели. Он бросил взгляд на меня… Ругаясь, он забылся и обозвал Гота воскресшим. Вообще-то на Мире это было довольно распространенное прозвище. Но его избегали употреблять в моем присутствии… Услышав его, я возненавидел весь Мир…
Гейнит, вдруг успокоившись, пообещал Готу разобраться позже и приказал мне увести нулевика в какое-нибудь ущелье и прирезать.
Я механически, все еще размышляя о своем, вылез из окопа и направился к поляне. Злость переполняла меня, и я вымещал ее на ни в чем не повинных кустах, которые немилосердно стегал руками, одетыми в теплые рукавицы. Через несколько шагов злость пропала, сменившись отупением. Я наконец-то узнал, что же думают обо мне мои сослуживцы. Раньше я никогда не задумывался об этом. Теперь же Я ЗНАЛ и вместе со всем, через что я прошел за эти два бесконечно долгих дня… я этого не вынесу.
Подобно дикому зверю я выбежал на поляну…
Нулевик услышал мои шаги и поднялся, шатаясь из стороны в сторону. Его руки бесцельно болтались… Он повернулся ко мне, и тогда я смог как следует рассмотреть его. Он был выше меня, но очень тощий и едва ли весил больше ста фунтов. Голова абсолютно лысая, точнее, безволосая. Волосы нулевикам были абсолютно не нужны. Кисти рук очень толстые, с неразвитыми пальцами. Зато большие пальцы ног отличались своей длиной и подвижностью, они позволяли этому существу свободно перемещаться по секциям Мозга. Ступни его ног, мягкие, покрытые нежной кожей, превратились в кровавое месиво… Hoc бесформенный кусок розоватого мяса вокруг единственной ноздри. Почти полное отсутствие ушей, так, маленькие загогулинки. Зато глаза — огромные, с черными зрачками, похожие на глаза ночных пауков. Они прекрасно видели в вечном сумраке помещений Мозга.
Их сделали такими, чтобы сохранить хоть какой-то контакт между нулевиком и окружающим миром — боясь, что в противном случае его разум перестанет работать. На висках, у запястий, на шее виднелись небольшие язвочки — точки подключения электродов. Нулевик, как ни странно, был одет во что-то, напоминающее пижаму из теплоизоляционного материала, но от пижамы остались одни лохмотья.
Признаки пола у нулевика отсутствовали. Под грудной клеткой был странный провал — органов пищеварения у него также не было. Но они ему и не требовались. Все тело этого СОЗДАНИЯ покрывали шрамы и кровоподтеки. Местами пузырились ожоги. Местами, в основном на руках, виднелись следы обморожений — результаты его встреч с ночными растениями.
Мне стало жутко. Это был неподдающийся описанию первобытный ужас, пришедший из самого темного уголка подсознания.
Это пришло из Дакоты, в этом можно было не сомневаться. Он пережил свой Мозг и каким-то неведомым путем прошел сквозь огненный ад и добрался до этой долины. Вряд ли он преследовал какую-то цель; скорее всего, он случайно натолкнулся на брешь в корпусе Мозга и пошел по прямой. Какой-то древний, так и не вытравленный Объединением, инстинкт, помог ему одолеть все преграды. Последнее подтверждалось его поведением у края откоса. Раньше инстинкт помогал ему. Но теперь он оказался бессилен. То, что это существо добралось сюда, было воистину чудом. А муки, что он вынес в пути… Меня передернуло, и я почувствовал, как волосы у меня на голове становятся дыбом.
Нулевик пошел мне навстречу.
От неожиданности я вскрикнул и отскочил в сторону.
Нулевик замер. Его голова шаталась из стороны в сторону.
Он вращал глазами, но, по-моему, я должен был им восприниматься, как просто более темное серое пятно.
Я постарался успокоиться. Это существо было абсолютно безвредным… Но я…
Я стал медленно подходить к нему. Он шевельнулся, но остался на месте. Внизу, в долине, в лучах звезд поблескивал гравитопаром. Я осторожно поднял руку. Нулевик продолжал неподвижно стоять, Стоя с ним рядом, я видел, как его грудная клетка поднимается и опадает в такт неровному дыханию. Он дрожал. Я удивился, что он не обладает запахом. Вообще, мне рассказывали, что они жутко воняют. Сказка, одна из многих, ходивших в то время…
Я с интересом рассматривал это создание, но опыт подсказывал: надо уходить, здесь, на склоне, мы у всех на виду… Подойдя еще ближе, я протянул руку и заколебался… Я не мог дотронуться до него. Перебарывая отвращение, я нашел на его руке участок с неповрежденной кожей и крепко сжал руку. Нулевик вздрогнул, но вырываться не стал. Секунду я ждал, но он оставался спокоен. Довольный тем, что он не сопротивляется, я повел его к склону.
Он послушно шел передо мной, пока мы не добрались до зарослей. Там он остановился и издал звук, больше всего похожий на кошачье мяуканье. Его обжег куст… На коже, в тех местах, которых коснулись листья, появились уродливые рубцы. Пожав плечами, я вновь подтолкнул его вперед. В ответ он снова мяукнул и дернулся. Я остановился. Нулевик внимательно смотрел на меня своими огромными глазами, скуля от боли или… в общем, не знаю, какие ощущения он испытывал. Проклиная себя за потерю времени и все такое прочее… я полез вперед, ломая кусты и делая проход. Ветки хлестали по термокомбинезону, не причиняя вреда, впрочем, иногда какая-то из них выскакивала и стегала нулевика, тогда тот вздрагивал и мяукал. Весь наш путь я думал: а на кой черт я нянчусь с ним? Зачем мучиться, оберегая кого-то (скорее, что-то, невольно поправил я себя) от боли, если через мгновение это придется убить. Что это дает? Прогнав эти мысли, я сосредоточился на прокладывании дорог. Нулевик очень ослаб и не сопротивлялся, но, ведя его, я очень устал. Он спотыкался каждые несколько шагов, и тогда приходилось его поднимать. Я вспотел, рубашка прилипла к спине, но я шел и шел — ходьба прогоняла вздорные мысли.
Мы спускались, пока не очутились футов на тридцать ниже окопа. Место казалось подходящим. Высокие кусты должны были полностью скрыть труп от наблюдателей с воздуха.
Я остановился. Нулевик ткнул, меня в спину и замер, опираясь мне на плечо. Над самым ухом раздавалось его хриплое дыхание. Меня передернуло от отвращения. Мурашки пробежали по рукам, и все тело покрылось гусиной кожей. На ум приходили какие-то смутные ассоциации, но я гнал их прочь под угрозой все нарастающей паники.
Я НЕ ХОТЕЛ ЕГО УБИВАТЬ!!!
Я стряхнул с плеча руку нулевика. Он соскользнул на пару футов вниз по склону, чуть не упал, но в последний момент удержал равновесие.
Я смотрел на него и не мог перевести дыхание, я задыхался. Воспоминания лавиной теснились в моем мозгу, покидая мрачные подвалы подсознания.
Вновь вспоминался Мэйсон, на четвереньках ползущий по гребню к ожидающей нас подводной лодке, а за ним огонь и свет прожектора. Скалы Кап Итика, орудия хлещут небо, стараясь добраться до нас. Мэйсон слишком медленно ползет по склону, балансируя, как на лезвии бритвы, на ее остром гребне. Пучок из распылителя настиг его, пучок, выпущенный с вершины горы. Мэйсон, уже мертвый, с дыркой в спине, падает ко мне на руки, роняя меня на колени. Он лежит у меня на руках и кажется страшно тяжелым. Мейсон, оторванный от меня набежавшей волной. Мэйсои, исчезающий в волнах, и Гейнит, стоящий по шейку в воде и орущий, чтобы я поспешил к лодке… Вот что заставил меня вспомнить нулевик.
Мэйсон, лежащий у меня на руках.
Почему нулевик ассоциируется у меня с Мэйсоном???
Я разозлился на себя за то, что сравниваю Мэйсона с ЭТИМ. Мэйсона, заменившего мне отца. Я злился, стараясь заглушить стыд… Я больше не мог этого выносить. Я чуть не плакал… И в бессильной злобе бросился на нулевика… Схватил его за плечо, и его безобразная голова закачалась на тонкой шее, и ни звука! Я бросил его на колени и выхватил штык…
В свете звезд сверкнула сталь. Я схватил это беззащитное творение за горло, собираясь задрать ему подбородок… Он был теплым, я почувствовал, как под пальцами бьется пульс…
И сразу же гнев исчез, остались лишь тошнота да горечь вины…
Мне стало холодно…
Нулевик смотрел на меня огромными глазами…
Мне кажется, что когда-то я знал, что такое счастье. Это теперь почти не бывает сирот… А во времена моей юности… нет… Да, большинство клонировалось в лабораториях. Но случались и исключения, люди всегда оставались людьми…
Я родился в семье неклонированного инструктора, и все могло сложиться иначе, если бы отец не взял в банке крупный кредит… Ему не повезло, и он был объявлен банкротом.
Объединение выжгло у него верхние зоны мозга и взяло часть кожи, из которой создало несколько клонов. Затем отец и клоны были направлены в одну из безразумных Сред. Чтобы таким способом компенсировать потерянные человеко-часы. Но этим дело не ограничилось…
Мою мать тоже клонировали, правда, выжигать ей мозг не стали и она смогла вернуться к работе… Но ей предоставили работу самой низкой категории… Она не могла меня содержать, и я попал под опеку государства. Объединение направило меня в одну из Промышленных Сред. Представь, что ты живешь в постоянном, однообразном шуме типа шшшшшшшшшшшшш… Если сможешь представить, то поймешь, каково мне там приходилось… Нет, с нами обращались довольно сносно, кормили, держали в тепле, а за это заставляли работать на конвейере, на монтаже какого-то миниатюрного оборудования, вечером нас усыпляли электрогипнозом, а утром мы просыпались, и пальцы сами по себе начинали выполнять монотонные, ритмичные движения. Как им это удавалось, я не знаю. За годы, проведенные там, я сделал несколько миллионов таких движений. Пища состояла из концентратов и витаминов. Через равные интервалы нас заставляли делать что-то типа зарядки. Когда мы подросли, раз в неделю у нас стали брать кровь. Инструкторов мы почти не видели. Больше всего надоедало постоянное шшшшшшшшшш… И постоянная работа на конвейере: взял деталь, вставил… взял деталь, вставил… Разговаривать нас не учили, но мы создали какой-то свой, понятный только нам язык из полутысячи слов. Инструкторы иногда заходили и проверяли исправность аппаратуры, следившей за нами. На нас они не обращали внимания.
Мы не знали, кто мы. Откуда нас привели. Где мы находимся. Это нас не касалось, и никто не рассказывал нам об этом. Честно говоря, мы больше походили на животных или… на НУЛЕВИКОВ… Единственной нашей реальностью было бесконечное, шшшшшшшшш… Наше психическое развитие никого не интересовало. Из Промышленных Сред выхода не было. В жестоком обществе Объединения для нас не было места… Объединение, с его точки зрения, выполняло свой долг, по-своему заботясь о нас. И используя нас…
Работы, которые мы выполняли, думаю, с большей точностью и гораздо лучше выполнил бы простой робот, но куда в таком случае дели бы нас?
Нас держали там, чтобы мы жили. По их расчетам, мы должны были вырасти, постареть и умереть в этом нескончаемом шшшшш…
Моим первым ярким воспоминанием стало нападение отряда Квесторов на нашу Среду; одна из стен конвейерного цеха раскалилась докрасна и рухнула… Мэйсон с автоматом наперевес ворвался во главе небольшого отряда… и подошел ко мне. Это я вспомнил позже. А тогда это было нарушение привычного уклада.
В одно мгновение наш мир был разрушен, и нас поволокли в другой. Квесторы забрали всех наших, погрузили в гравитопаром и отвезли в свои подземные лаборатории, пытаясь вернуть нас в общество людей. Они потратили на нас массу времени, подключили свои лучшие Мозги, но тщетно. Большинство из моих собратьев по Среде погибло, не выдержав бремени перемен. Мне повезло, я выжил и даже сохранил рассудок. Как потом выяснилось, мне дважды повезло, я был Воскресшим. И значит. Объединение могло вместо того, чтобы отправить меня в Среду, превратить меня в клон низшей категории или НУЛЕВИКА!!! И использовать в качестве блока памяти в ограниченном компьютере, или, как их тогда было принято называть, в Мозге!
Огромные глаза смотрели на меня.
Под пальцами бился пульс.
Я подумал, что сейчас меня стошнит.
Ветер пробежал по долине, всколыхнул в памяти бесконечное шшшшшшшшшшш…
Донесся шепот Гейнита, командир велел поторапливаться. Это вернуло меня в реальность. Я крепче сжал рукоятку ножа. Я ободрял себя, доказывая, что нулевики лишены разума. Его мозг используют как ячейку памяти… Он лишен индивидуальности… Ему все равно — жить или умереть… Я убеждал себя, что он страдает от боли, и я творю акт милосердия…
Я вновь поднял нож и прижал его к горлу нулевика. Потом стал, пересиливая отвращение, давить все сильнее и сильнее… Под лезвием появилась вмятина, кожа утончилась, готовая, лопнуть в любой момент.
Нулевик скосил глаза и следил за лезвием.

К горлу подступил комок, дышать стало трудно. Я отвернулся и оглядел долину. Мой мир рассыпался в пыль… Я почувствовал себя вновь отправленным в Промышленную Среду. Но сейчас я БОЯЛСЯ!!!
Неожиданно блеснул прожектор гравитопарома. Дважды мигнул и погас.
Я залег, чисто машинально увлекая за собой нулевика и заставив его тоже улечься на земле.
Рен подавал сигнал в ответ на сигнал звездолета… Я представил, как он сейчас включил прожектор и с блаженной улыбкой прожигает очередную дыру в обивке.
Приподнявшись на локте, я поднял нож и на секунду замешкался, ища на шее нулевика точку, после удара в которую смерть приходит мгновенно… Если мне надо это (его) убить, то надо спешить. И тут же возникла мысль: Дакота — Мэйсон кадет — нулевик!!! Понятно, «это» и «он» еще мешались в моем сознании… Затем вдруг я — твердо решил: «ОН». Нож упал на землю. Я не мог его убить! Он был ЧЕЛОВЕКОМ!!! Каждый из нас им был!!!
Не знаю, стал я в тот момент лучше или хуже… Я и сейчас этого не знаю… Но в одном я твердо уверен — за эти секунды я изменился и стал ДРУГИМ.
Я посмотрел вверх, на звездолет, зависший в вышине. Спокойный и неподвижный — казавшийся маленькой металлической баночкой. Но он прилетел, чтобы погубить наше дело и удержать бесчеловечную власть, превращавшую людей в НУЛЕВИКОВ или СОЛДАТ, не знаю, что хуже.
Когда я его увидел, от него отделялся орбитальный бот корабль для выведения грузов на орбиту.
Этот корабль был набит зародышами миллионов безразумных клонов. Здесь их должны вырастить и, подключив к Большому Мозгу, использовать в качестве живых роботов-солдат. Жестоко… зато эффективно!!! Еще на борту орбота находились бесчисленные металлические кубики и прямоугольники. Они лежали под невероятным давлением. При уменьшении давления молекулярная память восстанавливала их первоначальные формы, превращая кубики в грозный арсенал самых совершенных орудий убийства и разрушения… Требовался лишь источник питания…
В общем, орбот вез огромную армию с полным снаряжением, и все это тайно, под покровом темноты, должно было быть перегружено в гравитопаром и доставлено в Урхейм, где вся эта армия должна была быть приведена в боеготовность. Это был последний козырь Объединения. Только это могло предотвратить падение его жестокой власти. Акцию финансировали крупнейшие фирмы сообщества, которым была выгодна власть Объединения на Мире. Корабль был отправлен задолго до Дакоты, тогда Администрация надеялась одержать легкую победу над повстанцами… Теперь же вся надежда Объединения была на этот груз. Без него власть Администрации не могла продержаться и двух месяцев. Объединение опасалось,’что повстанцы смогут захватить груз… поэтому и решили посадить корабль в тихом, укромном уголке, а потом с помощью парома доставить в Урхейм.
В долинах Доминикан, по сведениям Объединения, повстанцев не было…
Четыре человека погибли, пытаясь добыть план организации. Еще двое погибли, пытаясь узнать время и место встречи… И несмотря на все предосторожности Администрации, информация вовремя попала к Квесторам.
Орбот спускался. Я, как зачарованный, смотрел на его все увеличивающуюся махину. Сбоку зашевелился нулевик. Я отпустил его и сел. Орбот медленно по спирали опускался все ниже.
Я представил, чем сейчас занимается Гейнит. И мысленно представил его, пригнувшегося в окопе, с пальцами на пульте управления лазером. И Гота, заглядывающего через плечо, от напряжения закусившего губу. Он всегда ее закусывал перед боем…
Я чувствовал, что должен стоять рядом с ними. Но не мог пошевелиться. Страх и напряжение ушли… я был пуст и не мог ничего делать, ощущая себя сторонним наблюдателем, словно это меня не касалось.
Орбот увеличился до размеров горы…
Он опускался в точности на то место, которое мы взяли под прицел. На секунду он завис, потом продолжил спуск…
Первым его встретил лазер Гейнита, вслед за ним остальные… три луча уперлись в борта орбота.
Сначала я подумал, что ничего не выйдет, но вот борта покраснели… красный цвет сменился белым…
Нулевик стал подыматься, я тоже встал, прикрывая ладонью глаза…
Орбот взорвался…
Нет, главный реактор уцелел, он не мог взорваться… Взлетели на воздух вспомогательные энергоустановки. Но ядерный взрыв — всегда ядерный взрыв…
Представь, что тебе на голову падает дом… Боль жуткая, но сознание тебя покидает раньше, и ты не успеваешь ее почувствовать.
О взрыве я догадался чисто инстинктивно и еще успел подумать, что эта ночь не кончится никогда и… прикрыть нулевика своим телом.
Дальше я не помню…
Следующее, что я помню, это нестерпимая боль. Мир, полный кровавой красноты и боли. Чей-то крик достиг моих ушей. Это был мой крик.
Когда я очнулся в следующий раз, боль утихла. Я видел!!! Солнце грело голые скалы. Надо мной стоял нулевик — казалось, его голова упиралась в небо… Я закричал… Все погрузилось в вязкую черноту.
Когда сознание снова вернулось ко мне, шел дождь — один из проливных полуденных ливней, столь обычных на Мире. Невдалеке стоял гравитолет. Надо мной склонился врач и что-то делал с моей ногой. В нескольких метрах от меня лежал нулевик… пуля попала ему прямо в сердце.
В огромных глазах нулевика отражался дождь…
Вот и все… думаю, не надо объяснять, что случилось с моей ногой. Сгорело слишком много нервных окончаний, и врачи не смогли пришить мне ногу. Я не жалуюсь… Я привык к своему жестокому протезу и считаю его не такой уж большой платой за урок…
Я понял, что человек — всегда человек, и что Вселенная безразлична ко всему. За все отвечают только люди… Вселенной же все — до одного места. И мне кажется, это правильно. Вселенная никогда не будет тебе помогать, но она никогда и не подставит тебе подножку. Ты можешь рассчитывать только на себя. Каждый из нас может надеяться, только на себя. И каждый должен заботиться лишь о себе. Только от нас зависит, где мы будем жить — в аду или в раю. И некого винить, если тебе придется не по нраву то, чего ты достиг. Не буду спорить, всегда приятно сваливать вину на других… Но поверь, они тут ни при чем.
Я мог бы примешать к своему рассказу какие-нибудь сверхъестественные силы — сказать, что был спасен потому, что спас нулевика. Что кто-то всеведущий спас меня… Но как же с Готом? Он погиб, а если бы он не отказался выполнить приказ, то я так бы и остался в окопе… Все остальные члены отряда тоже погибли, но могу поклясться — я был не лучше. Нет… это все чепуха… причина не в этом… Все гораздо проще… Когда я наконец понял, что нулевик такой же человек, как и я… я закрыл его от взрыва. Кстати, трое из наших пережили этот взрыв, но когда солнце взошло, оно попросту их поджарило задолго до прилета врачей… Я выжил только благодаря тому, что нулевик закрывал меня от солнца… закрывал своей собственной тенью… Не знаю, сознательно он это делал или это была случайность. В одном уверен — он узнал от меня тепло, которого не знал до этого. Ведь вся его жизнь походила на бесконечный коридор, переполненный болью. Познав тепло, он остался подле меня, хотя мог уйти… Впрочем, его гибель в любом случае была предрешена.
Для того чтобы ответить добром на добро, тебе не нужны ни слова, ни воспоминания… Все можно выразить простым касанием пальцев. Ты должен знать это… если когда-нибудь любил или был любим. Меня спасла доброта — тепло за тепло, добро за добро…
Медики, прилетев, застрелили нулевика, они подумали, что он мне угрожает… Это тоже на тему добрых поступков и наград за них Ашомни, добро и доброжелательность к людям — это то, благодаря чему наша цивилизация до сих пор существует… Это негасимый огонь, которым мы бесконечно делимся с другими, чтобы погасить мрак страха…
Я шел по жизни, совершая ошибки, перепробовал множество профессии, перелетал с планеты на планету… Единственно чего я не испытал… это любви… Здесь, на Косе, я нашел свой последний приют. Скоро вечер. Но ночь — скорее, понятие относительное Поверь — каждая ночь когда-нибудь заканчивается. Всегда. Потому что даже если ты далеко — всегда найдется кто-нибудь, кто увидит рассвет.
Сегодня чудный рассвет, не так ли?
Запомни, парень, всегда где-то есть чудный рассвет. Даже в день смерти…
Ты молод, но, поверь, со временем ты это поймешь.
Перевод с англ. К. Маркеева

Эвелин Лиф
ВСЕ ПРОСТЫНИ БЕЛЫЕ

СОДЕРЖИТЕ МАГИСТРАЛЬ В ЧИСТОТЕ
НЕ СОРИТЬ
ДОРОГА ДОЛЖНА БЫТЬ ЧИСТОЙ И БЕЛОЙ
Машины едва ползли.
Ладони Гарта были липкими от пота. Рубашка прилипла к животу.
Полдень. Еще двести пятьдесят миль. Мне ни за что не успеть.
Гарт подал машину на два фута вперед. Он понял, что втиснулся, по звукам сталкивающихся спереди и сзади бамперов.
Белые машины отражали солнечный свет.
Когда Гарт глядел прямо перед собой, свет слепил глаза. Поэтому он все время смотрел на баранку.
Глаза режет. Пожалуй, надо достать темные очки.
Гарт открыл бардачок, наклонился и заглянул внутрь.
Ничего. Ах, да. На той неделе. Вспомнил. Против них провели закон. Самый последний. Хотел бы я иметь темные очки.
Машины медленно двинулись вперед. Затем, одна за другой, со скрежетом остановились.
Даже половины не сделал.
До чего устал!
Никогда не надо пытаться проехать из конца в конец за один раз. Надо было послушать Риту.
Темные очки. Да.
Я еще помню, когда у нас были серо-голубые и черно-серые дороги. С единственной белой линией посредине. Теперь никаких линий. Все белое.
Он зажмурил глаза и закрыл их ладонями.
Ничего.
Гарт быстро надавил ладонями на глаза.
Красный.
Часть его головы была красного цвета. Кровь стекала из-за уха и капала с подбородка.
Меня вытолкнули прямо к нему. Со всех сторон стояли люди.
Над массой окружавших меня голов возвышался полицейский. Я повернулся, чтобы пройти стороной. Там тоже стояли копы.
Они окружили это место и сужали кольцо.
НИКУДА НЕ УЙДЕШЬ.
Парень с окровавленной головой упал. Я не мог глядеть на него. Но почувствовал его у ног.
Толпа подталкивала меня. Меня выжимали на свободное место, туда, где лежал этот парень.
Я должен был наступить на него либо упасть. Нет.
Меня толкнули в бок, но я остался стоять на месте.
Голоса, скандирующие что-то неразборчивое. Потом:
СЛАВНО БЫТЬ СВИНЬЕЙ: ЗАЛАЗЬ,
НЕ СПРОСЯСЬ, В ЛЮБУЮ ГРЯЗЬ.
СЛАВНО БЫТЬ СВИНЬЕЙ: ЗАЛАЗЬ,
НЕ СПРОСЯСЬ, В ЛЮБУЮ ГРЯЗЬ.
Снова и снова. Я ощутил нарастающую во мне силу. Скандирование раздавалось громче и громче.
СЛАВНО БЫТЬ СВИНЬЕЙ: ЗАЛАЗЬ,
НЕ СПРОСЯСЬ, В ЛЮБУЮ ГРЯЗЬ.
Они ударили по нам водой из шлангов.
Струя попала мне прямо в лицо. Я повернулся, шагнул и упал на парня с окровавленной головой.
Меня ударили ногой в бок. Я услыхал женский визг. Закрыл голову руками. Снова удары ногами. Люди падали, спотыкаясь о меня.
И вдруг все остановилось. Не стало водяных струй. Люди разбегались.
Этот спор с Ритой на прошлой неделе. Это уж слишком. Чего она хочет от меня? Чтобы я в одиночку изменил мир?
Эти демонстрации ни к чему хорошему не привели. ОНИ более организованы, лучше вооружены. Ничего недоделаешь.
Сидеть и ворчать. Она думает, что так можно чего-то добиться.
«Белизна — это просто их откуп за свою вину. Если ты сможешь убедить кого-то в идиотизме Белых Законов, то это уже хорошо».
Вот ее любимые строки. А что могут сделать два или три человека?
Ничего.
И тогда она застелила на ночь кровать розовыми простынями.
Назло им, так она сказала.
Но что она сделала первым делом утром? Сменила их на белые.
Как у всех.
Против одного они не могут издать закон. Против голубизны неба. И заката с его оттенками красного.
Я сумел-таки подняться на ноги и побежал. Пробежав полквартала, я оглянулся через плечо.
Копы хохотали.
Будьте вы прокляты, ублюдки.
Я побежал дальше.
Бег. Вот бы вылезти и побежать между этими парализованными глыбами металлолома с автоматами внутри. Бежать, махать им рукой и орать: «Мои простыни не белые!»
Как бы они все завидовали мне. Все они любят то, чем занимаются в постели. Только никогда не признаются.
Быть чистым и содержать все в чистоте. Для них это ЗАКОН.
Боже, мне бы сейчас темные очки.
Некоторые машины сворачивали с дороги. Время ленча. Транспорта стало немного меньше, и Гарт уверенно делал теперь тридцать миль в час.
Наконец-то. Все равно не доберусь до дому до темноты. Придется останавливаться в мотеле.
Уже почти вечер. Совсем не замечаешь времени. Все эти белые здания буквально гипнотизируют.
Надо найти мотель.
Гарт правил еще минут пятнадцать, отыскивая глазами вывеску мотеля. Темнело.
Грандиозная идея. Рита хочет, чтобы я что-то сделал? Я поеду ночью. Через час я останусь на дороге один. И кроме того, интересно будет поглядеть, как все это будет выглядеть в темноте.
Кругом уже нет той белизны, что раньше. Я почти могу представить фиолетовые и зеленые тени на стенах зданий.
Да. Я думаю, ночью я доберусь до дома.
Полчаса спустя Гарт услыхал сирену.
Так и знал. Никуда от них не денешься.
От съехал на обочину. Полицейская машина остановилась рядом.
Один из копов вылез из нее и подошел к Гарту.
— Эй, мистер, вы хотите убиться, ведя машину ночью? Вы же знаете, что это опасно. В темноте в голову приходят нежелательные мысли.
— Э, да вы смотрите в небо. Разве вы не знаете, что против этого сегодня был принят закон? Небо не бывает белым. Вы обвиняетесь вдвойне. Выходите. Вы арестованы.
Перевод с англ. С. Монахова, А. Молокина

Джеймс Шмиц
МЫ НЕ ХОТИМ ПРОБЛЕМ[79]
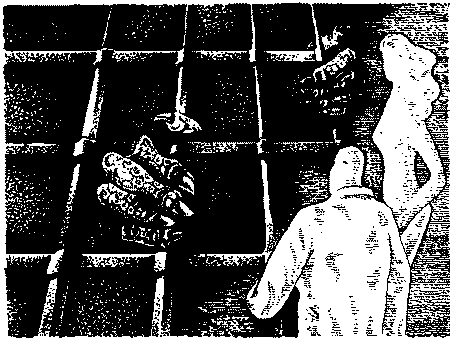
— Ну, это ведь будет не очень длинное интервью, правда? — спросила профессора его жена. Вернувшись после беготни по магазинам, она нашла мужа вперившим неподвижный взгляд в окно гостиной. — Я думала, мы будем ужинать не раньше девяти, — сказала она, поставив пакеты на кушетку. — Но я сейчас пойду готовить.
— Не торопись с ужином, — ответил профессор, не поворачивая головы. — Я не думаю, что мы покончим с этим до восьми.
Профессор заложил руки за спину и стал медленно раскачиваться с пятки на носок, продолжая смотреть на улицу. Это была его любимая поза, и жена никогда не могла понять, то ли это означало глубокое раздумье, то ли просто сны наяву. Теперь она с тревогой понимала, что он полностью погрузился в свои мысли. Она сняла шляпку.
— Я думаю, ты и вправду мог назвать это «интервью», — с неловкостью проговорила она. — Я хочу сказать, ты ведь действительно говорил с этим, верно?
— Да, мы говорили, — кивнул он. — Во всяком случае, некоторые.
— Представить себе беседу с чем-нибудь таким! Она действительно из другого мира, Клайв? — Она нервно засмеялась, глядя ему в затылок испуганными глазами. — Ты, конечно, не нарушал правила безопасности? Ты можешь что-нибудь рассказать об этом…
Профессор пожал плечами и повернулся.
— Все это будет в последних новостях в шесть часов. Через десять минут. Где бы ни был на земле радиоприемник или телевизор, все услышат о том, что мы обнаружили. Возможно, узнают не все, но почти все.
— О-о-о? — удивленно протянула она слабым голосом. Некоторое время она молча смотрела на него, и глаза ее стали еще испуганнее: — Зачем было это делать?
— Н-да, — произнес профессор, — пожалуй, это необходимо сделать. Это лучше всего. Само собой, возможна паника…
Он вновь повернулся к окну и пристально посмотрел на улицу, как будто там было что-то, заслуживающее его внимания. Он казался погруженным в свои мысли. Но потом ей пришло в голову более подходящее: «смиренный».
— Квойт, — спросила она уже совсем испуганно. — Что случилось?
Профессор уставился на нее отсутствующим взором, потом подошел к радиоприемнику, фоновой шум начал ослабевать, когда он неторопливо настраивал приемник. Но диапазон шумов не особенно менялся.
— Думаю, они чистят сеть, — отметил он.
Фраза повторилась в сознании его жены, сначала без всякого смысла.
Но потом смысл дошел до нее, стал расти, разбухать, пока она не почувствовала, что ее голова разрывается. Они очищают эфир. По всему миру в этот вечер очищают эфир. До той минуты, пока в шесть не начнутся последние известия.
— Что касается случившегося, — услышала она голос мужа, то это трудно понять и объяснить. Даже теперь. Это потрясает… — он перебил себя. — Ты помнишь Милта Колдвелла, дорогая?
— Милта Колдвелла? — Она порылась в памяти. — Не помню, призналась она, качая головой.
— Достаточно известный антрополог, — с легким, упреком сообщил ей профессор. — Милт погиб года два назад где-то в центре австралийских пустынь. Только вот нам сказали, что он не погиб. Они забрали его…
— Они? — переспросила его жена. — Ты хочешь сказать, их больше одного?
— Да, их должно быть больше, ведь верно? — рассудительно сказал он. — Во всяком случае, это объясняет, как они выучили английский. Это гораздо логичнее, — добавил он, — когда так говорится. Без семи шесть…
— Что? — переспросила она.
— Без семи шесть, — повторил профессор. — Сядь, родная. Я думаю, что смогу за семь минут в общих чертах рассказать, что случилось.
Пришелец из другого мира сидел в клетке, его большие серые руки слабо сжимали решетку. Эта поза и жест, который профессор отметил минуты через две после того, как вошел в комнату вместе с другими людьми, чем-то напоминал массивную обезьяну. На основании первого описания репортеры окрестили существо «Жабой с Марса» — отвислые формы и свисающая, покрытая наростами шкура подсказывала такую идентификацию, однако круглая ороговевшая голова вполне могла бы принадлежать ящерице.
С зоологической точки зрения это был совершенно новый вид, и профессор мысленно отметил несоответствие его физических деталей. Правда, нечто подобное могло бы эволюционировать на Земле, будь Земля предназначена для дальнейшего развития крупных амфибий в каменноугольный период.
Существо владело человеческой речью, хотя это и казалось им немыслимым.
Оно заговорило, как только они вошли.
— Что вы хотите знать? — спросило оно.
Ороговевшие, зубастые челюсти задвигались, и сразу стал виден широкий желтый язык. Голос у существа был хриплым и каким-то ненастоящим.
Хотя люди знали, что существо умеет говорить, они несколько секунд пребывали в состоянии шока. Потом, после некоторого колебания, стали задавать вопросы.
Наблюдая за ними, профессор держался в глубине комнаты. Какое-то время вопросы и ответы, которые он выслушивал, казалось, не несли никакого смысла. Внезапно он понял, что его сознание было затуманено тяжелым и холодным физическим ужасом из-за присутствия этого гнусного существа. Он сказал себе, что страх в такой ситуации не был совсем уже иррациональным чувством, и осознание этого, казалось, несколько проясняет ситуацию.
Но все же картина оставалась какой-то нереальной, как плохо освещенная сцена, на которой лишь чудовище в блестящей стальной клетке виделось ясно и четко, в то время как люди, без устали бегавшие на заднем плане, были поглощены тьмой.
— Не позволю! — сказал он себе, недовольный, что испытывает страх. — Я здесь для того, чтобы наблюдать и делать выводы. Меня избрали как человека, который может действовать разумно.
Профессор отвернулся от клетки и от того, что в ней находилось, и посмотрел на людей, которым его только что представили. Молодой настороженный майор разведки, участвовавший в расследовании, генерал с сонными глазами, хорошенькая женщина-капитан, занимающаяся стенографированием, — майор представил ее как свою невесту. Ученые по большей части напоминали энергичных деловых руководителей, а два представителя правительства казались маститыми профессорами.
Профессор заулыбался. Люди были реальны. Реальный нечеловеческий мир. Он вновь обратил внимание на чудовище.
— Почему же я должен возражать? — в странном голосе слышался оттенок насмешки. — Вы поймали меня, как дикое животное! Вы даже не сказали, какие средства использовали против меня. Возможно, вы злоупотребили ими, а?
Существо, поворачивая голову, смотрело на них блестящими черными глазами, и его рот, казалось, ухмылялся. Улыбка казалась бессмысленной. Собственно, это была не ухмылка, просто так складывались безгубые челюсти чудовища, когда рот был закрыт. Однако это создавало выражение удовлетворенной злобы, которую профессор чувствовал и в голосе, и в словах. Но голос абсолютно не подходил к этому грубому животному.
Профессора вновь охватил страх, его даже затрясло. Он вдруг понял, что, если это существо посмотрит на него, он закричит.
Мужчина у клетки что-то говорил тихим и ровным голосом. Женщина-капитан углубилась в стенографию, ее рука скользила по страницам, а белокурая головка склонилась на одну сторону. Она была бледной, но сосредоточенной на своей работе. Профессор почувствовал горькую зависть к их мужеству и самообладанию. «Да они же нечувствительны, — говорил он себе, они не знают природы и ее законов. Они не понимают, как я это понимаю. До чего же все это неправильно!».
Существо повернулось, и черные глаза посмотрели прямо на него.
В это мгновение сознание профессора переполнилось безотчетным ужасом. Он не двигался, но понимал, что не падает в обморок только из-за страха показаться смешным перед этими людьми и особенно перед молодой женщиной. Потом он услышал голос офицера разведки, чудовище неторопливо отвело взгляд от профессора, и наваждение кончилось.
— Вы утверждаете, — говорило существо майору, — что можете заставить меня рассуждать о тех проблемах, которые я не считаю нужным освещать. Но вы ошибаетесь. Наши тела не реагируют на ваши наркотики.
— Они будут реагировать на боль, — зло выкрикнул майор высоким голосом.
Потрясенный этими словами, профессор наконец понял, что не только в нем пробудились примитивные, иррациональные страхи. После угрозы майора люди тревожно зашевелились, но не протестовали.
Существо молча смотрело на майора.
— Это тело почувствует боль только тогда, — сказало оно наконец, — когда я сочту это нужным. Некоторые из вас знают об эффективности гипнотической блокады. Мой метод основан не на гипнозе, но он гораздо эффективнее. Поэтому я и говорю, что для меня не существует боли, пока я не захочу ее изведать.
— А можешь ты почувствовать, как будут разрушаться ткани твоего тела? — допытывался майор.
Оставаясь на своем месте, девушка быстро взглянула на майора, но профессор не видел выражения ее лица. Остальные не двигались. Существо, все еще изучавшее майора, лишь пожало плечами.
— А знаешь ли ты, что такое смерть? — возбужденно крикнул майор.
Профессора осенило, он понял, почему никто не вмешивается. Каждый по-своему, они чувствовали то же, что и он: здесь происходило нечто настолько странное и необычное, что никакие знания, никакой опыт не могли подсказать людям, как им надлежит действовать в подобной ситуации. Майор все же пытался как-то справиться с проблемой, но делал это крайне неуклюже. Впрочем, в отсутствие других предложений, присутствующие были не в состоянии остановить его.
Чудовище заговорило медленно и ровно:
— Я никогда не приму смерть от ваших рук. Это предупреждение. Больше я не стану отвечать на ваши угрозы и ваши вопросы. Вместо этого я вам скажу, что сейчас произойдет. Я передам моим товарищам, что вы — как я понял — глупы и ограниченны и не способны причинить вред самому ничтожному из нас. Интересы вашей цивилизации довольно примитивны. Но это новинка, на которую многим захочется взглянуть. Мы приедем сюда, и, если нам понравится, мы тут останемся. И попробуйте только надоедать нам — пожалеете!
— Так это будет?! — трясясь, крикнул майор. — Теперь?!
В руке майора появился пистолет, и профессор вздрогнул от грохота выстрела. Вокруг майора завязался клубок борющихся тел, и другой мужской голос хрипло крикнул:
— Ты! Осел! Чертов истерический дурак!
Женщина-капитан схватила блокнот, потом прижала ладони к щекам. Профессор услышал ее крик:
— Джек! Джек! Остановись!.. Не надо!..
Профессор смотрел на существо, которое повалилось на спину. Его череп был снесен выстрелом, пол клетки был запачкан темно-коричневой жидкостью.
Действия майора бросили профессора в жар и возбудили чувство странного удовлетворения и гордости, как будто он сам убил чудовище.
Профессор был счастлив. Поскольку он стоял в глубине комнаты, он увидел происходящее раньше других.
Один из пентагонцев и два ученых мужа возбужденно бегали вокруг клетки, пялясь на существо. Остальные столпились около стула, на котором удерживали майора. За смущенным лепетом и сердитыми голосами профессор угадал скрытое радостное облегчение, которое он и сам испытывал.
И тут женщина-капитан встала и стала раздеваться. Она делала это быстро и невозмутимо. В этот момент, в ужасе уставившись на нее, профессор думал о том сумасшествии, которое царило в комнате. Он горячо надеялся, что сможет сдержать это безумие, окутывающее его на веки вечные, как защитное покрывало. Это было слишком ужасно! Со странной, отрешенной любознательностью он удивлялся тому, что здесь случилось за несколько секунд, когда и остальные поняли то, что он уже знал.
Растерянное бормотание группы, удерживающей майора, смолкло. Трое перепуганных мужчин у клетки повернулись к наступившей тишине. Девушка выпрямилась и стояла, с улыбкой глядя на них.
Майор стал отчаянно выкрикивать ее имя. Вновь началась борьба вокруг стула, на котором его удерживали. Рвущийся крик заглох, как будто кто-то зажал майору рот.
— Вас предупреждали, — услыхал профессор чистый голос девушки, — что смерти нет. Для нас нет.
Кто-то в отчаянии выкрикнул вопрос. Профессор похолодел от страха, кровь стучала у него в ушах, и он не понял вопроса. Но понял ответ.
— Конечно, это мог быть любой из вас, — кивнула она. — Но мне понравилось это тело.
Раздался еще один выстрел.
Профессор выключил радио. Некоторое время он вглядывался в даль за окном.
— Ну вот, теперь они знают! — произнес он. — Теперь мир знает об этом. А верят они или нет… В любом случае… его голос прервался.
Гостиная погружалась во тьму, и он хотел было включить свет, но передумал. Вечерний сумрак создавал иллюзию безопасности.
Профессор взглянул на невыразительное в темноте лицо жены, казавшееся бледным овалом.
— Конечно, если их не очень много, — пояснил он, — это не так уж и страшно. Правда, мы не знаем, сколько их в действительности. Может быть, миллионы. Но если люди постараются не создавать для них неудобств… Пришельцы не хотят проблем.
На мгновение он умолк. О смерти молодого майора в передаче не упоминалось. Учитывая происходящее, это событие было не таким уж значительным и было официально зарегистрировано как самоубийство. Но на самом деле майору удалось вырвать пистолет у одного из держащих его мужчин, и тогда другой застрелил его, не дожидаясь того, как майор применит оружие.
Как ни крути, но разумные люди должны стараться предотвращать столкновения с пришельцами.
Неожиданно профессор почувствовал, что его лицо перекосилось от гримасы ужаса.
— Но мы не можем быть уверены, — услышал он собственный голос, говорящий в тихую ночь, — что им не понравятся только наши тела.
Перевод с англ. Ю. Беловой

Джон Энтони Уэст
ПОБЕДА СУПРУЖЕСКОЙ ЧЕТЫ

Леди, члены клуба, я удостоен чести быть сегодня здесь, чтобы сообщить вам о ходе конкурса в этом году в вашем обществе к назвать имя победителя — Грегори, мужа Глэдис. Благодарю вас за внимание и проявленный интерес.
Начну со статистики. Вот с какими медицинскими показателями появился у нас Грегори.
Рост — 6 футов 5 дюймов.
Вес — 242 фунта.
Объем грудной клетки — 49 дюймов.
Объем талии — 36 дюймов.
Объем шеи — 18 1/2 дюйма.
Вы в восторге, леди. Поэтому сразу же к обратной стороне медали. Грегори было 28, когда он появился у нас, а весил он, как и во время учебы в колледже, когда он был игроком команды американских футболистов. Он был женат целых три года. Члены клуба! Не спешите с выводами! Выслушайте меня, прежде чем обвинения посыпятся в его адрес. Имейте в виду, на самом деле Грегори — это 242 фунта сырья. Но эта цифра не менялась 8 лет.
К сожалению, леди — члены нашего общества — были также необъективны. «Это вина Глэдис», — вопили они, задыхаясь от гнева.
Мы думали о Бет Шерер, которая довела своего Милотона со 164 до 313 фунтов менее чем за 3 года. Сэлли О’Лири трижды принималась за то, чтобы довести вес своего мужа до 254 фунтов; Джоан Гранц, которая вынянчила своего Марвина до 437 фунтов и завоевала второй приз, несмотря на сердечный недуг мужа.
Наши чувства понятны. Супруг Глэдис — футбольный тренер. Однажды на стадионе я стал свидетелем отвратительнейшей ситуации: Грегори занимался зарядкой.
Я видел, как он в течение пяти минут неоднократно атаковал снаряд, а затем бесстрашно несся впереди своей команды по дорожке стадиона. Даже самые злые враги Глэдис не стали бы утверждать, что это ее вина. Этот блестящий от пота спортсмен будто излучал калории, которые могли бы отложиться как новая плоть.
Малютка была прелестна и далеко не соответствовала описаниям этих мегер-сплетниц. Я сообщил ей о сцене на стадионе. Для малышки это было новостью. Она могла рассказать кое-что и похлеще. Он стриг вручную газоны; круглый год играл в гандбол; пробегал две мили от дома до школы в полной экипировке. Девочка была неутешна.
Мы обсудили то, как он питается, у меня не было слов! Мясо с кровью! Она кормила его им, рыба, яйца, свежие овощи…
— Сумасшествие! — заорал я. — Картофель! Шоколадный торт! Пиво! Сливочное масло!
Но, увы, Грегори ненавидел все это. Он не притронется к этому.
— Он тебя не любит, — промолвил я.
— Но это не так, — простонала Глэдис дрожащим голосом, он любит, но по-своему.
Я предложил ей стратегию, которая была эффективна в случае, если идет упорная борьба и оппозиция еще достаточно сильна.
Как известно, запасы нашей сексуальной энергии превышают запасы наших партнеров. Супруга, искусно скрывая свои мотивы страстью, может довести своего мужа до полного сексуального истощения всего за несколько недель. А супруг, пресыщенный сексом, — объект для изысканного обращения. Вечерами он тихо посиживает. Наедается. Он накапливает свою энергию и прибавляет в весе. Наконец его мужское существо поражено тучностью, а на этом этапе умная супруга становится менее требовательной. Муж к этому времени наслаждается прелестью своей плоти и счастлив, если его оставляют в покое. Вот тут жена сводит свое требование к минимуму, в то время как муж не очень-то обременен заботой о пополнении калорий и готов к участию в соревновании.
Однако для супруга Глэдис эта методика не подошла. Через месяц после начала этого испытания Глэдис стала походить на тень, в то время как Грегори блистал, тренировался с командой, стриг свой газон, его мускулы так и выпирали, самодовольная улыбка не сходила с его лица.
На собрании нашего общества был разработан гениальный план.
Мы решили сделать Глэдис и Грегори социально значимой парой в нашем обществе. Мы составили им календарь общественной жизни, который выглядел значительным: обеды, завтраки, буфеты, пикники… Грегори оказывался за столами, ломившимися от углеводов. Он был под постоянным наблюдением. Он еще не успевал убрать со рта следы сливок, как перед ним возникала тарелка с горой мороженого. Он не успевал выпить и половины кружки пива, как она вновь наполнялась заботливой женой.
В то время, леди, Грегори даже и не помышлял о том, чтобы протестовать, он не был умалишенным или человеком, идеалы которого рухнули. Мы должны отставить в сторону его глупое отношение к физкультуре и воспринимать его таким, как он есть: симпатичный парень и идеальный муж; любезный, молчаливый и совершенно неинтеллигентный. Воинственный гнев дам нашего общества вскоре обернулся искренней озабоченностью. Глэдис просто сияла, когда сообщила о том, что супругу пришлось сделать пару дополнительных дырок на брючном ремне.
Грегори, находившийся под неусыпной заботой, оказался в состоянии физиологической войны. Все журналы будто сговорились и публиковали объявления о калорийных продуктах. На вечеринках супруга в открытую флиртовала с самыми здоровенными мужчинами.
К весне вес Грегори добрался до отметки 290. Он был в замешательстве, но все еще не мог отступиться от своих старых привязанностей.
— Верну свой вес на тренировках весной, — говорил он, набивая рот шоколадным муссом.
На отметке 310 все члены нашего общества дрогнули. Дамы вдруг осознали, что победа близка, они были в шоке.
Между тем Глэдис, замкнувшись в себе, медленно продвигалась вперед, не забывая о своей блестящей стратегии. Пообщавшись с предсказательницей, уверившей ее, что еще одной возможностью одержать победу станут орехи, она купила для начала фунт орехов, который он поглотил за пять минут.
Ну, дамы. Орехи стали последней ступенью. Напичканные калориями орехи. Холод напряженности в обществе перерастал в злобную зависть. Он не мог наесться этих орехов! Дамы сгорали от любопытства в надежде, что все ожидания рухнут; но натянутая кожа и заплывшие жиром глаза говорили о другом: супруг шел к победе. Мы наблюдали за тем, как он становился безобразно жирным. На отметке 325 Грегори начал запихивать в себя конфеты, войдя во вкус сладкого.
До развязки было еще далеко. Петер — муж Женни Шульц — достиг в то время отметки 423, но потрясающий Грегори завладел умами всех.
Вскоре Глэдис вопреки всеобщим ожиданиям изолировала Грегори. На это были причины. Она утомилась и принесла свою стратегию в жертву юношеской горячности. Но ее самообладание просто злило дам нашего общества.
Впервые за всю историю наши дамы объединились, чтобы предотвратить неминуемую победу Грегори. Несомненно, эмоции, руководившие этой акцией, отнюдь не похвальны, но, леди, я прошу оставаться на месте. Неужто вам захочется отказаться от борьбы даже ценой подготовки собственного мужа к соревнованию, исход которого очевиден?
Сколько времени понадобится ей для подготовки Грегори? Вот что беспокоило ее. Для среднестатистического мужа, как мы знаем, нужно от трех до пяти лет. Конечно, Грегори — это особый случай. Четыре года означали бы ослабление борьбы. Срок в три года кажется наиболее подходящим, но и два года вполне возможный срок, да и Глэдис проявляла незаурядную волю и нетерпение. Мы были уверены; что Глэдис добьется своего за два года. Поэтому для других было проще придержать своих мужей до следующего года. Если Грегори будет претендовать на победу один, то эта победа будет бессмысленной.
Наше решение было однозначным. Дамы согласились представить своих супругов в следующем году, пусть даже они не достигнут вершины. Чувствовалось, что если перспектива трех лет потерпит крах из-за какой-то оговорки, придирки, сотен причин, то изоляция мужа на четыре — пять лет невозможна для всех заинтересованных дам, да и к тому же за вершиной следует резкое падение веса. Женщинам, чьи мужья были изолированы на год, разрешено было разорвать контракт.
Напряжение росло. Глэдис прикрывала свою уверенность в победе интересом к делам общества, в то время как другие дамы скрывали свой интерес и ненависть под масками дружелюбия при здоровом состязании.
Глэдис начала передавать продукты: четверть бочонка пива, бушели с картошкой, мешки с мукой. Ну да! Она поставит рекорд за два года, но это будет пустая победа.
И тогда она смогла превзойти себя. Все мы помнили Дариуса Элизабет Бент. Она несколькими годами раньше, в надежде установить рекорд, слишком перестаралась. Ее супруг скончался за шесть недель до конкурса: сенсация — вес покойного — 612 фунтов. С соревнования снят по причине смерти.
В пылу соревнований мы забыли о Грегори. Что правда, то правда. Этот конкурс нас ничем не удивил. Все, кроме Глэдис, знали имена участников. Победителя пытались предсказать… но все же, конкурс есть конкурс, и в воздухе витал знакомый дух ярой конкуренции.
День открытия конкурса выдался на удивление ясным и жарким, возбужденная публика устремилась на стадион. В этом году и думать не нужно было о том, кто потрясет публику и кого изолируют на предыдущий год.
Но за пять минут до начала волнение охватило публику. Не видел ли кто Глэдис? Зрительская аудитория зашевелилась. Дружно завертелись головы, глаза отыскивали в толпе Глэдис, но тщетно. Зло охватило всех. Неужто она подготовила Грегори за год? Нет и нет, это невозможно!
Оркестр заиграл, и мимо трибун двинулись двадцать шесть нарядно раскрашенных и задрапированных грузовиков. Сколько же дам согласились представить своих супругов? Двадцать пять или двадцать шесть? Никто не помнил.
Грузовики обогнули поле. Внимание зрителей разрывалось между парадом и входом, через который, как ожидали, появится опоздавшая Глэдис.
Пронзительно зазвучали фанфары, и грузовики остановились. Дамы покинули кабины и встали перед грузовиками. Напряжение момента нам всем знакомо: супруги выстроились в линейку, 24 женщины, одетые по последней моде; при этом зрители пытаются вспомнить тех, которые могли бы быть здесь, но отсутствуют. Этот напряженный момент, который ставит на карту планы, надежды, труд, может быть разрешен очень быстро… Но в долю секунды глаза всех устремляются на одну, лишь на одну. Это Глэдис.
Она стояла перед своим грузовиком в сногсшибательном белом платье, свежа, как маргаритка; не показывая и доли волнения, скрывая тяжесть испытания; на ее лице ни единой морщинки; волосы тщательно убраны. Я не мог не почувствовать, как росла к ней ненависть.
Многие даны мрачно уставились на Глэдис. Зазвучал оркестр, и дамы сняли покрывала с машин. Зрители замерли, увидев мужчин на грузовиках. Но сейчас внимание всех приковано было к грузовику полномером 17; Грегори Глэдис.
С аплодисментами не спешили; дикого восторга тоже не последовало, публика застыла в трепетном молчании. Именно в этот момент каждая из присутствовавших на поле дам уже знала, что ее надежды навсегда рухнули. Даже в самых страшных снах они никогда бы не вспомнили о Грегори.
Он стоял подобно монолиту, вросшему в кузов грузовика. На его лице не было и тени подобия взгляда, свойственного слоноподобным разжиревшим мужьям; складки его чела гневно нависали на глаза; его щеки не распухшие, не раздувающиеся, кусками расположились на здоровенных челюстях. Его шея, толстая, воедино слилась с гигантскими плечами, за которыми должно было следовать неминуемое брюхо. Он был великолепен. Колонна, глыба, гора, мощный и неподвижный. Он медленно и гордо повернулся. Он был крупнее, тяжелее, значительнее всех, кого мы когда-либо видели. Ненависть толпы перешла в отчаяние. Мы могли бы рассказать о Грегори нашим внукам, но созерцали его мы сами. Для нас это последний конкурс. Никто из нас не мог даже представить истинных мучений Глэдис; годы ее социального остракизма. Но как они смогли?
Началось взвешивание, публика поднялась со своих мест. Мужей лебедками поднимали на платформу весов. Вот и результат: 345, 376, 268 (раздался смех), 417, 430 (последовали хлопки — не иначе как родственники), 386, 344. Ни тени интереса. Дрожащие от страха дамы, положившие годы ради этого момента, мечтавшие лишь о честной борьбе, готовы были зареветь. 403, 313. Ожидание, казалось, длится бесконечно. Следующим был Грегори, но им с Глэдис предстояло еще всех удивить. Как только служащие собрались подцепить его платформу канатами, Глэдис замахала. Она прикрепила к кузову крепкую веревочную лестницу, а Грегори осторожно, но все-таки без колебаний, спустился по ней. Он еще мог и двигаться!
Откинувшись назад мощным торсом, он закачался, пытаясь удержать равновесие, накренился к ступеням, ведущим на платформу. Как только он попытался спуститься на шаткую опору, она отделилась. Пользуясь перекладиной как тростью, он перенес свое тело вверх, в то время как толпа замерла в ожидании треска подломившейся опоры. Доски затрещали, но не сломались, Грегори сам взгромоздился на платформу. Ну, леди, что можно было сказать об этой фигуре? Все закончилось. Статистика была не нужна. Стоило только взглянуть на Грегори. Тем не менее — 743 фунта! Степенно и гордо Грегори развернулся, улыбка озарила его лицо. Все замерли, затем поодиночке, группами, а там уж и вся толпа поднялась со своих мест. Даже зависть и ненависть были бессильны в присутствии участника, подобного памятнику Глэдис и нашему обществу, вдохновлявшему весь мир.
А сейчас, милые дамы, мне хотелось бы закончить выступление на ноте, которую заслуживает представление. К сожалению, всего лишь один инцидент поубавил величие победы супруга Глэдис.
Наш клуб, подобно другим, всегда придерживается негласного, но традиционного правила.
Победителю конкурса предоставлено право показать себя, как ему бы хотелось. Супруг Глэдис, от злости, хотя этот аргумент еще является спорным, поскольку считается проявлением некоего простейшего инстинкта, настаивал на том, чтобы его показали обнаженным.
Не имея подобного прецедента, мы, хоть и боялись оскорбить зрителей, пошли на это без особой охоты, породив тем самым значительное замешательство многих и внезапное физическое отвращение всех. Сейчас это предложение обсуждается в нашем обществе, возможно, в будущем победитель конкурса будет лишен данного права. Милые леди, прошу вас в дальнейшем избегать подобных неожиданностей, исключив их заранее. Благодарю за внимание.
Перевод с англ. Н. Макаровой

Джин Вульф
ОСТРОВ ДОКТОРА СМЕРТИ И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ

Приход зимы виден не только на суше, но и на море, хотя здесь нет осыпающихся листьев. Волны, еще вчера имевшие светло-голубой цвет, сегодня в сумерках уже матово-зеленые и холодные. Если ты мальчик, который дома никому не нужен, то часами ходишь по пляжу, чувствуя порывы ветра, поднявшегося этой ночью; песок засыпает твои ботинки, а брызги пены пятнают штанины твоих вельветовых брюк. Ты поворачиваешься к морю спиной и кончиком найденной раньше палочки пишешь на мокром песке: Текмен Бэбкок.
А потом идешь домой, зная, что позади Атлантика уничтожает твое творение.
Твой дом стоит на Острове Колонистов, но на самом деле это вовсе не остров, и потому его нет на картах. Если бы ты разбил камнем раковину моллюска барнакля, то увидел бы внутри силуэт, которому обязан своим названием вид прекрасных гусей: длинный, гибкий сифон моллюска соответствует гусиной шее, а бесформенная кучка тела — его корпусу с небольшими крыльями. Именно так выглядит Остров Колонистов.
Гусиная шея — это узкая полоса земли, по которой проходит дорога. Картографы, как правило, преувеличивают, значительно расширяя ее и совершенно забывая о том, что во время прилива немного не хватает, чтобы она совершенно исчезла под морскими волнами. Остров Колонистов кажется малозначащим элементом береговой линии, не заслуживающим собственного названия, а поскольку находящаяся здесь деревушка, состоящая из восьми или десяти домов, тоже его не имеет, на карте видна лишь обрывающаяся в море паутинка дороги.
У деревни нет названия, но у дома их целых два: на острове и в ближайших к нему окрестностях его зовут Домом с Видом на Море, поскольку в начале столетия он некоторое время служил пансионатом, а мама называла его Домом 31 февраля; именно это название фигурирует на ее почтовой карточке, и им пользуются знакомые из Нью-Йорка и Филадельфии, хотя, возможно, говорят они просто: «Дом миссис Бэбкок». Местами у него пять этажей, местами немного меньше, а окружает его веранда. Когда-то он был покрашен в желтый цвет, но теперь особенно снаружи — краска сошла, и Дом 31 февраля просто серый.
Открывается парадная дверь, и входит Джейсон. Он сунул большие пальцы за пояс джинсов; короткие, курчавые волосы на его подбородке дрожат от ветра.
— Забирайся, поедешь со мной в город. Мать хочет отдохнуть.
Хэп, хоп! — прыгаешь ты в «ягуар», чувствуешь запах мягкой кожаной обшивки и вскоре засыпаешь.
Будят тебя отражающиеся в окнах машины огни города. Джейсон вышел, в машине становится все холоднее. Ты ждешь, как тебе кажется, бесконечно долго, глядя на витрины, на большой револьвер, _ висящий на поясе прохаживающегося полицейского, на пса, который потерялся и теперь боится всех и вся, даже тебя, когда ты стучишь в стекло и пытаешься его позвать.
Потом возвращается Джейсон, неся пакеты, которые укладывает на сиденье.
— Едем домой?
Не глядя на тебя, он кивает, поправляет пакеты, чтобы не перевернулись, застегивает ремень.
— Я хочу выйти из машины.
Он смотрит на тебя.
— Хочу сходить в магазин, Пожалуйста, Джейсон.
Он вздыхает.
— Ну хорошо, но только в тот, напротив. И на минуту.
Магазин большой, как супермаркет, с длинными, ярко освещенными рядами товаров. Джейсон покупает газ для зажигалки, а ты показываешь книгу, которую сиял с вращающейся стойки.
— Джейсон, пожалуйста…
Он отбирает у тебя и ставит обратно, но потом, когда вы уже в машине, вынимает из-под пиджака и вручает тебе.
Это отличная книга, тяжелая и толстая, с окрашенными в желтый цвет краями страниц. На твердом, блестящем переплете нарисован одетый в лохмотья человек, дерущимся с чем-то, похожим на помесь человека с обезьяной, но более страшным и жестоким, чем каждое из этих созданий. Рисунок цветной, и человек-обезьяна покрыт самой настоящей кровью. Мужчина мускулистый и красивый, волосы у него светлее даже, чем у Джейсона, и нет бороды.
— Нравится?
Вы уже за городом, и без света фонарей слишком темно, чтобы видеть рисунок. Ты киваешь, а Джейсон смеется.
— Вообще-то это хлам, — говорит он.
Ты пожимаешь плечами, чувствуя пальцами книгу, и думаешь, как будешь читать ее вечером, совершенно один в своей комнате.
— Скажешь маме, что я был добр с тобой?
— Угу. Да, конечно, если хотите.
— Но завтра, а не сегодня. Она, наверное, будет спать. Не буди ее. — По голосу Джейсона ясно, что он разозлится, если ты это сделаешь.
— Хорошо.
— И не входи в ее комнату.
— Хорошо.
«Ягуар» мчится по дороге, а ты видишь поблескивающие в лунном свете буруны и обломки дерева, выброшенные волнами почти на асфальт.
— У тебя очень милая, мягкая мамочка, ты знаешь это? Когда я на ней, то словно лежу на подушке.
Ты соглашаешься кивком головы, вспоминая, как однажды, проснувшись от кошмарного сна, забрался к ней в постель и прижался к ее мягкому телу, но одновременно испытываешь что-то вроде злости, поскольку тебе кажется, что Джейсон смеется над вами обоими.
Дом темен и тих, ты удираешь от Джейсона, мчась через холл и по лестнице на второй этаж, а потом по другой, узкой и крутой, в свою комнату в угловой башенке.
Я услышал эту историю от человека, который, рассказывая ее, нарушал данное прежде слово. Пострадала ли она в его руках — а точнее, в устах, — не знаю. Однако в общем и целом она правдива, и я передаю ее вам в том виде, в котором она до меня дошла. Вот что я услышал.
Капитан Филип Рэнсон уже девять дней дрейфовал в одиночестве на своем спасательном плоту, несомом водами океана, когда наконец заметил остров. Был поздний вечер, когда он показался на горизонте, и всю ночь капитан не сомкнул глаз. В его бодрствовании не было страха или неуверенности; он увидел землю и знал, что об этом думать, а домыслы его опирались на хорошо известные факты. Он знал, что наверняка находится где-то рядом с Новой Гвинеей, и старался освежить в памяти все, что знал о морских течениях в этой части океана, а также подогнать это к замеченным за девять дней закономерностям в движении плота. Когда он наконец доберется до острова — у него даже в мыслях не было употребить слово «если», — наверняка окажется, что тот зарос джунглями, начинающимися в нескольких метрах от берега. Неизвестно, встретит ли он каких-нибудь туземцев, но на всякий случай он вспомнил все, что узнал из малайского наречия и таголого за время работы пилотом, плантатором, охотником и телохранителем.
Утром он увидел на горизонте ту же тень, что и вечером, на этот раз чуть ближе и почти точно там, где ожидал. За прошедшие девять дней не возникло необходимости пользоваться небольшими веслами, входящими в снаряжение плота, но сейчас ситуация изменилась. Он выпил остатки воды и принялся грести размеренными сильными движениями, остановившись, лишь когда резиновое дно плота зашуршало по мягкому чистому песку.
Утро. Ты медленно просыпаешься. Глаза твои горят, лампа у кровати еще светит. Внизу никого нет, поэтому ты сам готовишь себе овсяные хлопья, предварительно включив газ в духовке, так что можно есть и читать у ее открытой дверцы. Съев хлопья, ты выпиваешь с тарелки остатки молока и ставишь на огонь кофейник, зная, что сделаешь этим приятное маме. Спускается Джейсон, но ничего не говорит; выпивает кофе и готовит себе коричный тост. Ты слышишь, как он уезжает, шум машины стихает вдали, а ты идешь в комнату мамы.
Она уже не спит и смотрит в потолок широко открытыми глазами, но ты знаешь, что она еще не готова вставать. Как можно вежливее, чтобы на тебя не накричали, ты спрашиваешь:
— Как ты себя сегодня чувствуешь, мама?
Она поворачивает голову в твою сторону.
— Ужасно. Который час, Тэкки?
Ты смотришь на часы, стоящие на туалетном столике.
— Семнадцать минут девятого.
— Джейсон ушел?
— Только что, мама.
Она снова смотрит в потолок.
— Возвращайся вниз. Я сделаю что-нибудь, как только почувствую себя лучше.
Ты спускаешься на первый этаж, надеваешь полушубок и выходишь на веранду, чтобы посмотреть на море. Чайки сражаются с ледяным ветром, а далеко в море что-то оранжевое прыгает с волны на волну, приближаясь к берегу.
Спасательный плот. Ты мчишься на пляж, скачешь как безумный, размахивая шапкой.
— Суда! Суда!
Человек на плоту без рубашки, но, похоже, не чувствует холода. Он вытягивает руку и представляется:
— Капитан Рэнсом.
Ты принимаешь его ладонь и вдруг становишься словно бы выше и старше, правда, не таким высоким, как он, и тебе еще далеко до его возраста, но ты наверняка выше и старше, чем был прежде.
— Текмен Бэбкок, капитан.
— Очень приятно. Только что ты здорово помог мне.
— Но ведь я просто ждал вас на берегу…
— Я правил на звук твоего голоса, ведь глаза мои были заняты наблюдением за бурунами. А теперь скажи; где я оказался и кто ты такой.
Вы вместе идете к дому, и ты говоришь капитану о себе и маме, и о том, что мама не хочет посылать тебя в местную школу, потому что хочет устроить в частную, ту самую, куда ходил твой отец. Через некоторое время тебе уже не о чем говорить. Ты проводишь Рэнсома в одну из пустых комнат на четвертом этаже, где он может отдохнуть и делать все, что захочет. Потом возвращаешься к себе в комнату и читаешь дальше.
— Вы хотите сказать, что создали этих чудовищ?
— Создал ли я их? — Доктор Смерть нагнулся вперед, и губы его исказила жестокая улыбка. — А создал ли Бог Еву, капитан, когда превратил в нее ребро Адама? Или, может, Адам сотворил эту кость, а Бог ее изменил, чтобы получить желаемое? Скажем, дела обстоят следующим образом, капитан: я Бог, а Природа — мой Адам.
Рэнсом пригляделся к созданию, обхватившему его правую руку руками, которые с той же легкостью могли обхватить ствол дерева.
— Вы хотите сказать, что это животное?
— Не животное, — вставило чудовище, больно выкручивая ему руку. — Человек.
Доктор Смерть улыбнулся еще шире.
— Да, капитан, это человек. А кто такой вы? Мы узнаем это, когда я с вами закончу. Притупить ваш разум гораздо проще, чем поднять на высший уровень разум этих бедных животных. А может, попробовать усилить ваше обоняние? Не говоря уже о лишении способности ходить на двух ногах.
— Не ходить на четырех, не ходить на четырех, — пробормотала державшая его руку бестия. — Так гласит закон.
— Голо, — обратился к горбуну доктор Смерть, — проследи, чтобы капитана Рэнсома хорошенько заперли. А потом приготовь все для операции.
Машина. Не шумный «ягуар» Джейсона, а более тихая и большая. Выставляя голову в узкое окошко башенки под порывы холодного ветра, ты можешь ее увидеть: это машина доктора Блэка; крыша и капот еще сверкают после недавнего вощения.
Внизу доктор Блэк снимает пальто с меховым воротником и еще прежде, чем увидеть его, ты чувствуешь запах сигар, которым пропиталась его одежда. Минутой позже за тебя берутся тетя Мэй и тетя Джулия, чтобы занять тебя чем-нибудь, дабы не крутился вокруг него, своим присутствием напоминая, что, женившись на твоей маме, он получит впридачу и тебя. Они спрашивают:
— Как дела, Тэкки? Что ты делаешь целыми днями?
— Ничего.
— Ничего? И никогда не собираешь раковины на пляже?
— Да нет, вроде.
— А ты красивый мальчик, знаешь? — Тетя Мэй касается твоего носа окрашенным в пурпур кончиком пальца и держит его так некоторое время.
Тетя Мэй — сестра мамы, она старше ее и не так красива. Тетя Джулия — высокая, с вытянутым, несчастным лицом — сестра папы, и, смотря на нее, всегда об этом думаешь, даже зная, что тетка убеждает маму снова выйти замуж только для того, чтобы папе не нужно было больше присылать деньги.
Мама, одетая в новое чистое платье с длинными рукавами, уже внизу. Держа под руку доктора Блэка, она смеется его шуткам, а ты думаешь, как красиво зачесаны ее волосы и что ты скажешь ей об этом, как только вы останетесь одни.
— Ну и как, Барбара, мы уже можем устроить прием? — спрашивает доктор Блэк, а мама отвечает:
— Еще рано! Ты же видишь, как здесь все запущено. Вчера я весь день убирала, а сегодня нет и следа уборки. Но Джулия и Мэй помогут мне.
— После обеда, — смеется доктор Блэк.
Вместе с другими ты садишься в его большую машину, и вы едете в ресторан, стеклянная смотровая стена которого находится прямо над краем скалы, вертикально спускающейся в океан. Доктор Блэк заказывает для тебя тройной бутерброд с индейкой и ветчиной; ты приканчиваешь его, прежде чем взрослые успевают как следует взяться за еду, и хочешь поговорить с мамой, но тетя Мэй посылает тебя на террасу, огражденную сеткой, словно загон для кур, чтобы ты посмотрел на море.
Здесь немного выше, чем когда ты выглядываешь из самого высокого окна в доме. Ты карабкаешься по сетке и перевешиваешься через ограждение, чтобы посмотреть вниз, но какой-то взрослый стаскивает тебя обратно, говорит, чтобы ты этого не делал, и уходит. Ты лезешь снова и видишь под собой то появляющиеся, то вновь исчезающие из-под волн камни. Кто-то осторожно касается твоего локтя, но ты долго не обращаешь на это внимание.
Потом спускаешься с сетки и видишь, что рядом с тобой стоит доктор Смерть.
У него белый шарф, черные перчатки и такие же черные блестящие волосы. Лицо у него не загорелое, как у капитана Рэнсома, а белое и по-своему красивое, как у скульптуры, стоящей в кабинете папы, еще когда вы с мамой жили вместе с ним в городе. «Когда он от нас ушел, мама всегда говорила, что он был очень красив», — мелькает у тебя мысль. Он улыбался тебе, но ты вовсе не чувствуешь себя старше.
— Эх! — Да и что еще можно сказать?
— Добрый вечер, мистер Бэбкок. Боюсь, что испугал вас.
Ты пожимаешь плечами.
— Немного. Я просто не ожидал встретить вас здесь.
Доктор Смерть отворачивается от ветра, чтобы закурить сигарету, которую достает из золотого портсигара. Сигарета длиннее даже, чем «Кинг сайз», с красным мундштуком и нарисованным на бумаге драконом.
— Пока вы разглядывали пейзажи, мне удалось выскользнуть между страницами той великолепной повести, которая у вас в кармане пальто.
— Я не знал, что вы можете это сделать.
— О, могу. Время от времени я буду здесь появляться.
— Капитан Рэнсом уже здесь. Он вас убьет.
Доктор Смерть улыбается и качает головой.
— Сомневаюсь. Видишь ли, Текман, мы с Рэнсомом вроде борцов: в разных нарядах мы постоянно ведем поединок — но лишь в свете прожекторов.
Он бросает сигарету за ограждение, и ты следишь за падающей в море искрой, когда снова оглядываешься, его уже нет, и ты чувствуешь охвативший тебя холод. Возвращаешься в ресторан, с подноса возле кассы берешь мятную конфету и садишься рядом с тетей Мэй, как выяснилось, вовремя, потому что подают печенье с кокосовым кремом и горячий шоколад.
Тетя Мэй отрывается от разговора, чтобы спросить:
— С кем это ты разговаривал, Тэкки?
— Так, один человек, — говоришь ты.
В машине мама садится рядом с доктором Блэком, а сзади, на краю сидения, тетя Джулия и тетя Мэй, так что головы их близко друг к другу, и они могут разговаривать. Снаружи серо и холодно, и ты думаешь, когда же снова окажешься дома и сможешь заняться книжкой.
Рэнсом услышал их шаги и прижался к стене возле железных дверей — единственного входа в камеру.
За прошедшие четыре часа в поисках возможности бегства он изучил каждый дюйм сложенного из огромных валунов помещения, но не нашел ничего, что могло дать хотя бы тень надежды; даже крепкая металлическая дверь закрывалась только снаружи.
Шаги раздавались все ближе. Напрягшись, он сжал кулаки.
Еще ближе. Остановились. Зазвенели ключи, и дверь открылась. Он метнулся в щель, подобно молнии, заметил отвратительное лицо и со всех сил ударил кулаком, повалив обезьяночеловека на колени. Сзади его охватили две волосатые руки, но он вырвался, и второе чудовище рухнуло под его ударами. В конце уходившего вдаль коридора виднелся дневной свет; Рэнсом бросился туда, но тут на него обрушилась темнота.
Придя в себя, он понял, что привязан к стене освещенного помещения, выглядевшего смесью операционной и химической лаборатории. Напротив стоял предмет, который Рэнсом определил как операционный стол, а на нем, прикрытое простыней, лежало человеческое тело.
Прежде чем он успел как следует оценить ситуацию, в которой оказался, в помещение вошел доктор Смерть; вместо элегантного вечернего костюма, в котором Рэнсом видел его недавно, на нем был белый халат. Следом, неся поднос с инструментами, ковылял безобразный Голо.
— О! — Заметив, что узник пришел в себя, доктор Смерть быстро прошел через комнату и резко поднял руку, словно хотел его ударить. Рэнсом даже не моргнул, и доктор вновь опустил руку.
— Дорогой капитан, я вижу, вы снова с нами!
— А я было решил, что нахожусь где-то в другом месте, спокойно ответил Рэнсом. — Вы не скажете, что это было?
— Точно брошенная палка, во всяком случае, так утверждают мои невольники. Человек-павиан довольно ловок в этом. Кстати, не хотите ли спросить, что находится перед вами и что я приготовил лично для вас?
— Я не доставлю вам удовольствия.
— Но не будете отрицать, что вам интересно. — Лицо доктора Смерти скривилось в усмешке. — Не буду терзать вас неизвестностью. Ваша очередь, капитан, еще не наступила. Пока я решил продемонстрировать вам технику и методы моей работы. Так редко случается иметь действительно заинтересованных зрителей… — театральным жестом он стащил простыню с покоящегося на столе тела.
Рэнсом с трудом верил своим глазам. Перед ним лежала прекрасная девушка с белой, как молоко, кожей и волосами, как пробивающиеся сквозь туман лучи солнца.
— Вижу, что вы заинтересовались, — сухо заметил доктор Смерть, — и считаете ее красивой. Поверьте, когда я совершу то, что собираюсь, вы убежите в ужасе, если она просто повернет в вашу сторону то, что даже нельзя будет назвать лицом. С тех пор как я прибыл на остров, эта женщина была моим самым непримиримым врагом, и вот пришло время, чтобы… — он замолчал на середине фразы и, взглянув на Рэнсома взглядом, в котором жестокость соединялась с игривостью, закончил:… Так сказать, приоткрыть вам тайну вашей судьбы.
Тем временем безобразный ассистент доктора Смерти приготовил укол. Рэнсом смотрел, как игла вонзается в почти прозрачное тело и находящаяся в шприце жидкость, даже цветом дающая представление об извращенности медицинской техники, использованной для ее создания, вливается в кровеносную систему девушки. По-прежнему без сознания, она тихо вздохнула, и лицо ее исказила внезапная судорога, словно первый признак протянувшего к ней когти кошмара. Голо грубо перевернул ее на спину и привязал с столу такими же ремнями, какими был связан Рэнсом.
— Что ты читаешь, Тэкки? — спросила тетя Мэй.
— Ничего. — Ты торопливо закрываешь книгу.
— Нельзя читать в машине. Это вредно.
Доктор Блэк оглядывается на них, потом спрашивает маму:
— Ты уже приготовила костюм для мальчика?
— Для Тэкки? — Мама качает головой, и ее прекрасные волосы блестят даже в темноте автомобиля. — Нет, это ни к чему. Он будет спать.
— Но ты должна позволить ему хотя бы взглянуть на гостей, Барбара. Для мальчика это большая радость.
Сразу за тем машина въехала на дорогу, соединяющую Остров Колонистов с континентом, и вскоре ты был уже дома.
Рэнсом не спускал глаз с приближающегося к нему отвратительного существа. Оно было не велико, как остальные, но все же зрелище его клыков могло заморозить кровь в жилах, к тому же чудовище несло большой нож со сверкающим лезвием.
Капитан думал, что оно примется за лежащую без сознания девушку, но нет, существо обогнуло ее и остановилось перед ним, глядя куда угодно, только не в глаза человека.
Потом, так же неожиданно и внезапно, бестия согнулась пополам и коснулась своим ужасным лицом его связанной руки. Скорченное тело потряс глубокий вздох.
Рэнсом напряженно ждал, что будет дальше.
Снова вздох, похожий на рыдание. Существо выпрямилось, глядя ему в лицо, но не в глаза. Из горла его вырвался высокий, удивительно знакомый стон.
— Освободи меня, — приказал Рэнсом.
— Да. Затем я и пришел. Да, господин.
Крупная голова, скорее широкая, чем высокая, закачалась вверх и вниз, острие ножа перерезало связывающие Рэнсома ремни. Освободившись, тот вынул нож из руки не сопротивляющейся твари и рассек ремни, которыми была привязана к столу девушка. Весила она немного, и он на секунду замер, глядя на ее спокойное лицо.
— Идем, господин, — тянуло его за рукав чудовище. — Бруно знает дорогу. Иди за Бруно.
Потайная лестница вела в длинный, узкий коридор, где царила почти полная темнота.
— Здесь никто не ходит, — сказало существо хриплым голосом. — Нас здесь не найдут.
— Почему ты меня освободил? — спросил Рэнсом.
Мгновение было тихо, потом ужасное создание почти стыдливо ответило:
— Ты хорошо пахнешь. А Бруно не любит доктора Смерть.
Догадки Рэнсома подтвердились.
— Ты был собакой, прежде чем тобой занялся доктор Смерть? — мягко спросил он.
— Да. — На этот раз в голосе существа звучала своего рода гордость. — Сенбернаром. Я видел фотографии.
— Доктор Смерть должен был хорошенько подумать, прежде чем проводить свои подлые эксперименты на таком благородном животном, — вслух заметил Рэнсом. — Собаки легко чувствуют характер человека. Впрочем, плохие люди часто не могут дать истинную оценку своим поступкам.
Неожиданно человек-собака остановился с глухим рычаньем, вынудив остановиться и Рэнсома.
— Ты говоришь, господин, что я могу чувствовать. Так вот, скажу тебе, что Бруно не любит ту женщину, которую доктор Смерть называет Талар с Длинными Глазами.
Ты кладешь книгу переплетом вверх на подушку и выскакиваешь из кровати, дергая ногами в диком танце. Здорово! Чудесно!
Но на сегодня хватит читать. Нужно оставить и на потом. Выключи свет и в роскошной темноте осторожно положи книгу под кровать. Ты вернешься к ней завтра; тебе хочется, чтобы «завтра» было уже сейчас. Ты лежишь навзничь с руками, заложенными под голову, и одеялом, натянутым до самой шеи, и едва закрываешь глаза, видишь все это перед собой: остров, раскачивающиеся от порыва ветра деревья и замок доктора Смерти, холодной серостью рисующийся на фоне горячего неба.
В доме совершенно тихо, слышны лишь знакомые звуки ветра и океана. Внизу мама разговаривает, видимо, с тетками. Ты погружаешься в сон.
Ты просыпаешься и прислушиваешься! Уже поздно, очень поздно, ты почти забыл, что может быть так поздно. Слушай!
Тишина такая, что звенит в ушах. И все же… все же… Слушай!
На лестнице.
Ты встаешь с постели и берешь фонарь. Не потому, что очень уж смел, а просто не можешь ждать в темноте.
Крутая, узкая лестница за твоими дверями пуста. Широкая площадка на ней — тоже. Ты быстро освещаешь ее и слышишь, как тетя Джулия громко дышит носом, но в этом звуке нет ничего ужасного, ты его знаешь: просто тетя Джулия спит и громко дышит во сне носом.
Ничто не поднимается по ступеням.
Ты возвращаешься в комнату, выключаешь фонарь и ложишься на постель. Когда уже почти спишь, по полу стучат твердые когти, и ты чувствуешь, как спины твоей касается жесткий язык.
— Не бойся, господин, это я, Бруно.
Ты чувствуешь его, теплого собственным теплом и пахнущего своим запахом. Бруно ложится возле твоей кровати.
Утро. В комнате холодно и нет никого, кроме тебя. Ты идешь в ванную, где есть что-то вроде вентилятора, но с расставленными, излучающими тепло проводами, и там одеваешься.
Внизу мама с каким-то куском материи, завязанным вокруг головы, и тетки сидят за столом, на котором стоят кувшины с молоком, кофе и тарелки с большими ломтями жареной ветчины.
Тетя Джулия говорит:
— Привет, Текки! — а мама улыбается тебе. Ты получаешь тарелку с тостом и куском ветчины.
Целый день три женщины убирают и украшают дом — масками из красной и золотой бумаги, которые тетя Джулия вешает на стены, а также крутящимися, меняющими цвет лампочками — а ты стараешься не мешать и лишь приносишь дрова для большого, почти никогда не используемого камина. Появляется Джейсон; видно, что тетки его не любят, но он только помогает, а потом едет на своей машине в город за какими-то вещами, которые забыл купить. На этот раз он не берет тебя с собой. За окном гудит ветер. Тебе разрешают пойти в свою комнату, где совсем тихо, потому что все внизу.
Рэнсом недоверчиво посмотрел на таинственную девушку.
— Ты мне не веришь, — сказала она. То была просто констатация факта, без следа гнева или злости.
— Признаться, в это довольно трудно поверить. — Он пытался выиграть время. — Город, укрытый в джунглях на маленьком островке, более старый, чем все известные нам цивилизации…
— Когда ты выглядел примерно так, как он, — спокойно ответила Талар, указывая на человека-собаку, — Лемурия была королевой этого океана. А сейчас все погибло за исключением этого города. Разве этого не хватит, чтобы удовлетворить само Время?
Бруно дернул Рэнсома за рукав.
— Не ходи, господин! Иногда туда идут звери, от которых отказывается доктор Смерть. Возвращается мало. Это плохое место.
— Видишь? — на полных губах Талар появилась легкая улыбка. — Даже твой невольник подтверждает мои слова. Этот город действительно существует.
— Как далеко отсюда? — коротко спросил Рэнсом.
— Около полдня дороги через джунгли. — Девушка замолчала, словно боясь сказать больше.
— В чем дело?
— Ты поведешь нас против доктора Смерти? Мы хотим очистить этот остров, который является нашим домом.
— Разумеется. Я ненавижу его не меньше твоих людей. А может, и больше.
— Ты поведешь нас, даже если мы тебе не понравимся?
— Если вы меня убедите. Но ты что-то скрываешь.
— В том виде, как ты меня видишь, я могла бы сойти за одну из вас, правда? — Они пробирались сквозь джунгли в обществе неохотно идущего сзади человека-собаки.
— Да, ты права. Мало найдется таких красивых девушек, как ты.
— Именно потому я верховная жрица своих людей. В моих жилах течет чистая, древняя кровь. Но другие… — ее голос перешел на шепот, — другие выглядят не так. Когда дерево достигает преклонного возраста, некоторые его ветви изгибаются самым причудливым образом. Понимаешь?
— Тэкки? Тэкки, ты здесь?
— Угу. — Ты прячешь книгу под свитер.
— Открой же дверь. Маленькие мальчики не должны закрываться одни в комнате. Хочешь увидеть гостей?
Ты открываешь дверь и видишь тетю Мэй в костюме цыганки с длинными волосами, которые вовсе ей не принадлежат, и в маске, закрывающей только глаза.
Перед домом одна за другой останавливаются машины. В дверях мама в нарядном платье из фосфоресцирующей ткани, свободно распахивающемся на груди, но зато плотно закрывающем руки до самых пальцев. Она говорит со всеми по очереди, и ты видишь в глазах ее тот блеск, который бывает, когда она танцует или разговаривает сама с собой, если уверена, что никто этого не слышит.
Женщина с рыбьей головой в блестящем, серебристом платье — это тетя Джулия. Врач в халате, с наушниками на шее и каким-то блюдцем с дыркой на лбу — это доктор Блэк, а солдат в черном мундире, с пиратской эмблемой на шапке и кнутом у пояса — Джейсон. На большом столе ждут кувшины с пуншем, бутерброды и теплая закуска из фасоли. Цыганка начинает с кем-то говорить, а ты берешь несколько печений, залезаешь под стол и садишься там, глядя на мелькающие мимо ноги.
Играет музыка, и некоторые ноги танцуют. Ты сидишь в своем укрытии очень долго.
У самого стола танцуют вместе мужские и женские ноги, а потом перед тобой появляется смеющееся лицо — капитан Рэнсом.
— Что ты делаешь под столом, Тэкки? Идем, будем веселиться вместе!
Выбираясь из-под стола, ты чувствуешь себя очень маленьким, но когда встаешь, снова кажешься гораздо старше, чем на самом деле. Капитан Рэнсом одет как потерпевший кораблекрушение, в рваную рубаху и оборванные ниже колеи брюки, но все это чистое и даже жесткое от крахмала. На шее у него цепочка из семян и морских раковин, а рукой он обнимает девушку, на которой нет ничего кроме драгоценностей.
— Тэкки, это Талар с Длинными Глазами.
Ты улыбаешься, целуя ей руку. Люди вокруг танцуют или говорят, не обращая на тебя никакого внимания. Втроем мы пробираемся через комнату, стараясь огибать танцующие пары и группки людей с напитками. В комнате, которая, когда нет гостей, служит салоном, двое мужчин и две девушки занимаются любовью перед включенным телевизором. В следующей комнате на полу, опершись спиной о стену, сидит какая-то девушка.
— Привет, — говорит она. — Привет всем.
Она первая замечает тебя, поэтому ты останавливаешься.
— Привет.
— Я сделаю вид, что ты настоящий. Ты не против?
— Нет.
Ты оглядываешься на Рэнсома и Талар, но нигде их не видишь и думаешь, что, наверное, они в салоне, целуются, как и другие.
— Это мой третий выезд. Может, не очень хороший, но и не плохой. Нужно было, однако, позаботиться о наставнике, знаешь, чтобы стоял за твоей спиной. Кто эти люди?
Стоящие в углах мужчины шевелятся, до тебя доносится лязг их доспехов, ты видишь блеск оружия и отворачиваешься.
— Думаю, они пришли из Города, Наверное, чтобы охранять Талар. — И вдруг ты понимаешь, что все это правда.
— Я хочу их видеть.
Прежде чем ты успеваешь ответить, вступает в разговор доктор Смерть.
— Не думаю, чтобы ты действительно хотела.
Ты поворачиваешься. На нем плащ, а под ним вечерний костюм. Мужчина берет тебя за руку.
— Идем, Тэкки, я хочу тебе кое-что показать.
Ты идешь за ним по ступеням, а потом по коридору до комнаты мамы.
Мама лежит в постели, а рядом стоит доктор Блэк, готовя укол. Он заворачивает ее рукав, ты видишь некрасивые красные следы прошлых уколов, и вдруг перед глазами у тебя возникает доктор Смерть, склонившийся над привязанной к операционному столу Талар. Ты бежишь вниз, ища Рэнсома, но его нигде нет, а на приеме уже лишь настоящие люди и укрывшийся в тени ассистент доктора Смерти, Голо, но он ничего не говорит, а только вглядывается в тебя блестящими в лунном свете глазами.
Ближайший дом принадлежит женщине, которую ты не раз видел, когда она обрезала сухие листья у своего аспарагуса или окапывала кусты роз. Ты стучишь в ее дверь, пытаешься все объяснить, и она наконец решает вызвать полицию.
…в небо. Языки пламени уже лизали толстые потолочные балки. Рэнсом приложил руки ко рту и крикнул:
— Сдавайтесь! Если не сдадитесь, погибнете!
Единственным ответом, который он получил, был очередной выстрел. Он не был даже уверен, что его услышали. Лемурийские лучники дали еще один залп по окнам.
Талар всей тяжестью повисла на его руке.
— Вернись, тебя убьют!
Он послушал ее; прошел мимо могучего тела человека-быка, проколотого не менее чем двадцатью стрелами.
Ты загибаешь угол страницы и откладываешь книгу. В приемной холодно и пусто, и хотя проходящие сквозь нее люди порой улыбаются тебе, ты чувствуешь себя одиноким. Наконец с тобой хотят поговорить высокий седоволосый мужчина и женщина в голубом мундире.
Голос у женщины приятный, но так, как приятны голоса учителей.
— Ты, конечно, хочешь спать, Текмен, но может, немного поговоришь с нами?
— Да.
В разговор вступает седоволосый мужчина:
— Ты знаешь, кто дал эти средства твоей матери?
— Нет. Доктор Блэк хотел с ней что-то сделать.
Он машет рукой.
— Не в том дело. Твоя мать приняла очень много лекарств. Кто ей их дал? Джейсон?
— Не знаю.
— Твоя мать выздоровеет, — говорит женщина. — Но для этого нужно время, понимаешь? Тебе придется пожить в большом доме вместе с другими мальчиками.
— Хорошо.
И снова мужчина:
— Амфетамин. Ты знаешь, что это? Слышал когда-нибудь такое слово?
Ты качаешь головой.
Женщина:
— Доктор Блэк хотел помочь твоей матери, Текмен. Я знаю, ты этого не понимаешь, но она приняла слишком много лекарства за раз, а это может быть очень опасно.
Они уходят, а ты берешь в руки книгу и перелистываешь страницы, но не читаешь. Рядом с тобой садится доктор Смерть.
— Что случилось, Тэкки?
От него пахнет гарью, на лбу засохшая струйка крови, но он улыбается и прикуривает одну из своих сигарет.
Ты закрываешь книгу.
— Я не хочу ее читать до конца. Вас убьют.
— А ты этого не хочешь? Очень мило.
— Вас убьют, правда? Вы погибнете в огне, а капитан Рэнсом оставит Талар и уплывет с острова.
Доктор Смерть улыбается.
— Но если ты начнешь читать с начала, мы снова все появимся, даже Голо и человек-бык.
— Правда?
— Правда. — Он встает и ерошит ладонью твои волосы. — С тобой все точно так же, Тэкки. Ты слишком молод, чтобы это понять, но с тобой все точно так же.
Перевод с англ. И. Невструева

Жан Порт
ВЕЛИКОЕ БУДУЩЕЕ

Все математики мира ставят множество вопросов перед будущими поколениями, самые выдающиеся пишут статьи о «будущем математики». Вышеупомянутое будущее опровергает эти предсказания коренным образом, но не об этом речь…
Представьте себе их реакцию, если бы им предложили самим посмотреть, чем же действительно становится их наука в будущем! А между тем именно это меня ожидало при поступлении в университет. Мое призвание было стать математиком, но не 20-го, а 50-го века. Я должен был изучать математику 50-го века на месте.
Еще в начале века Эйнштейн и Ланжевен показали теоретически, каким образом можно перемещаться во времени, по крайней мере, как переместиться в будущее: достаточно довольно быстро перемещаться в пространстве.
Лишь через восемьдесят лет начали понимать, как эта возможность может быть реализована.
Я не буду здесь вдаваться в подробности и давать технические термины, которые можно найти в специальных учебниках. Главное то, что перед нами открылась перспектива создания межпланетного корабля, который после путешествия, длившегося несколько лет, с точки зрения его обитателей, должен вернуться на Землю, где прошло несколько тысячелетий.
Было от чего воспрянуть духом математикам. И я был не один, кто воодушевился этой идеей. Физики, химики, биологи, психологи и многие другие ученые стремились ознакомиться с наукой 50-го века, не говоря уже об астронавтах, которых привлекали исследования как времени, так и пространства.
Существовало только одно серьезное препятствие: такое препятствие должно было бы стоить очень дорого. Налогоплательщики и правительство были в нерешительности. Был только один выход: интернационализировать это предприятие. В конце концов пришли к выводу поставить этот вопрос в ООН, которая решила созвать специальное техническое совещание.
Эта конференция состоялась в Женеве в 1983 году. В то время я уже был доктором наук, моя диссертация как раз касалась межпланетных путешествий. Я стал одним из членов французской делегации. Наша задача заключалась в том, чтобы обеспечить Франции как можно более значительное место в составе экипажа, при этом вложив как можно меньше средств. Нас заверяли, что это не составит трудности.
Однако с самого начала конференции дело обернулось совсем по-другому.
Русские сразу же пошли в наступление, представив свое заявление, в высшей степени вежливости пространное. После появления работ Владимира Владимировича Владимирова, касающихся возможности путешествия в будущее, они не пропустили ничего нового в данной области человеческих знаний, однако считают, что есть более важные вопросы, требующие своего решения. К ним относятся диалектика, направление исторического развития и внутренне противоречия капитализма.
Китайцы выступили с заявлением, еще более учтивым, но также и более расплывчатым: с тех пор, как они ознакомились с работами уважаемого Ли Лю Лю, они в курсе всех последних исследований, но полагают, что было бы неплохо решить сначала более насущные задачи (смотри выше)…
Выступление американского делегата, напротив, было четким и ясным. Согласно его заявлению. Соединенные Штаты готовы организовать экспедицию, сотрудничая с другими странами на равных правах, при условии, что США возьмут на себя обеспечение главного корабля и что Комиссия по выявлению деятельности, направленной против Америки, будет иметь возможность проконтролировать всех членов экипажа с целью устранения малейшей возможности проникновения враждебных элементов; а также, чтобы было позволено проверить всю информацию, содержащуюся на борту межпланетного корабля — как в головах ученых, так и во всех бумагах и приборах, — выявляя степень опасности ее для Земли, если вдруг в будущем она попадет в руки государства с тоталитарным режимом.
Речь британского делегата была проникнута теплотой и юмором, но и очень запутана. Англия, с его слов, может лишь одобрить цели, поставленные международной конференцией, но встает очень деликатный вопрос, некий пункт, который хочет уточнить его коллега, глава индийской делегации.
Последний встал и сказал, что он бесконечно огорчен тем, что участие Индии было запланировано в другой экспедиции, но в то время они еще не знали о решении ООН начать подготовку к экспедиции в будущее. Подготовка шла уже давно, и был уже решен вопрос о составе экипажа. Там должны быть представлены страны в соответствии с их населением (82 % экипажа для Индии, 7 % — Англия, 11 % — для всех остальных). В результате уже не представлялось возможным предложить проект экспедиции, может быть, более масштабный, но которому далеко еще до практической разработки.
Испанцев будущее не интересовало. Итальянцев, напротив, но при условии, чтобы ни одно аморальное действие не оставалось безнаказанным на борту корабля и чтобы экипаж наполовину состоял из священников и монахов, назначенных Ватиканом; они должны одновременно выполнять две задачи: блюсти моральную чистоту всего остального экипажа и проповедовать евангелия там, в будущем.
И наконец немецкая делегация обратила внимание на тот факт, что, исходя из всех выступлений, можно со всей очевидностью отметить, что подобная экспедиция — это дело европейцев, и поэтому предложила доверить всю подготовку Комитету, состоящему из представителей таких организаций, как Западноевропейский союз, НАТО, Европейский платежный союз, Организация европейского экономического сотрудничества, а также еще 174 комитетов, различных институтов, комиссий и т. д.
Нам не оставалось ничего другого, как незаметно ретироваться. В конце концов мы решили организовать свою экспедицию, в которой, при случае, могли бы принять участие и другие нации. Бельгия, Голландия и Дания дали свое согласие, и работа закипела.
Потребовалось пятнадцать лет, чтобы закончить то, на что могло бы уйти всего лишь пять лет: мы ведь были во Франции. Дебаты в палате депутатов нам нисколько не мешали, многочисленные перестановки в правительстве — тем более. Но возникали препятствия другого плана. Например, министерство городского строительства захотело несколько укоротить наш корабль под тем предлогом, что он на добрые десять метров превышал, высоту зданий, разрешенную в том месте, где была стройка. Конечно же, корабль по этой причине не претерпел никаких изменений, однако работы были прерваны на некоторое время: два года прошло, прежде чем Государственный Совет, опираясь на прецеденты времен Наполеона I, постановил, что межпланетный корабль, даже во время сооружения, не должен рассматриваться как высотное здание.
И вот наконец настал долгожданный день. Ученые были погружены на корабль, и мы отправились навстречу звездам и будущему.
Путешествие длилось три года в космическом времени. Результаты наших исследований публиковались в различных журналах. И вот мы в будущем! По нашим расчетам, мы должны были очутиться на Земле трехтысячного года, почти через век. Поскольку мы не думали, что разделение по национальности осталось прежним, то выбор места приземления был для нас целой проблемой. У нас были некоторые опасения. Пессимисты предсказывали, что мы упадем прямо в гущу общества, настолько жестокого и воинственного, что будем немедленно приговорены к смерти.
Между тем у нас была надежда остаться в живых, а ко всему остальному мы были готовы. Без сомнения, нам придется всему учиться вновь: новому языку, новым обычаям. Даже если мы не сможем полностью адаптироваться, по крайней мере, мы могли бы быть незаменимым источником информации для историков 50-го века.
При приземлении мы были тут же окружены вооруженными людьми, полицейскими, должно быть. Мы выжидали — для них мы были всего лишь иностранцами, говорящими на неизвестном языке. Мы им передали учебник по грамматике французского языка и один экземпляр энциклопедического словаря в надежде, что найдется хоть один лингвист, способный понять нас и научить нас языку 50-го века. Все происшедшее позднее превзошло наши ожидания.
Мы смотрели вокруг себя со все возрастающим удивлением. На первый взгляд, наши надежды и предположения оправдались: мы находились в цивилизованном обществе, а не среди варваров, переживших атомную войну. Вскоре ослепление от первых впечатлений начало проходить, и один из нас вдруг воскликнул:
— Посмотрите на полицейских!
— Зачем?
— Их оружие. Обратите внимание.
У них были пистолеты и автоматы, которые использовались в обыкновенном боевике.
— Действительно, — заметил я, — а где же оружие с эффектом молнии, растирающее в порошок?
— …пистолеты с иглами?
— …портативные пульверизаторы? Луч смерти?
Куда девались летательные аппараты, использующие антигравитационный механизм? Механические дороги? Города на различных уровнях? Роботы?
Автомобили все еще ездили на четырех колесах и распространяли до боли знакомый запах бензина. Вертолеты 50-го века выглядели бы странно в 20-м веке, но работали все по тому же принципу. То же самое можно было сказать о реактивных самолетах. Вот стиль полностью поменялся, как в архитектуре, так и в одежде. Стиль, люди… а техника? Можно было видеть повсюду кирпич и бетон, шерсть и нейлон…
Уже подходил к концу третий день наших изумлений, когда полицейские привели нам человека, отличавшегося своими манерами и выправкой, без оружия и улыбающегося. Я случайно находился поблизости и охотно принял участие в разговоре.
И никогда, знаете, никогда я не забуду ни одного слова.
Наш новый знакомый сделал неопределенный жест двумя руками и воскликнул:
— Привет, ребята! Пусть мир бесконечных пространств опустится на ваши рожи!
Удивление быстро прошло, волна энтузиазма захватила нас. Он опять сделал широкий жест, чтобы восстановить тишину, и продолжал:
— Я, несчастный растяпа, перед вами очень низко склоняюсь. Разрешите представиться: Я Крал, Крали, Кралиян зовусь. По работе лингвист и историк я. В течение двух пятилетий ваш прекрасный язык я изучал. Поэтому вот в настоящее время, привыкнув, бегло на нем говорю, если даже и правильно не всегда.
— Да нет же, что вы. Вы прекрасно говорите…
Он не дал нам закончить и вновь заговорил:
— Ну и счастливчики же вы! Моя специальность — французский язык 20-го века — всегда была. Всех ваших классиков и прочих я вызубрил с помощью кучи неразборчивых рукописей. По этой причине Его Величество Президент приказал мне, недотепе, к вашим услуга быть. Поэтому что вы желаете, я вам задаю вопрос?
— Мы хотели бы узнать о достижениях науки! Как далеко ушла математика? — поинтересовался я.
Тут начался настоящий базар; все кричали разом: «Биология! Химия! Психология!». Крал потребовал тишины и произнес:
— Математики нет, астрономии нет, физики и химии нет, биологии и психологии тоже пришел конец…
— К-а-а-к???
— На протяжении тридцати веков ученых, за исключением историков и археологов, не существует. Все в великое будущее отправились, чтобы с великой наукой великого будущего знакомство совершить. Вы, ребята, большие ученые, вернулись первыми. И наша единственная надежда — вы есть.
— Вы… нас знаете?
— Как историк я знаю ваши имена, мы знаем… ваши диссертации, у нас они есть… их понять мы не можем. Вы их объяснять, мы надеемся…
— ?..
— Что касается других ученых. Делать нечего, их нет. Но вы, ребята, великие ученые, великую науку великого будущего вы сделали. Или, в противном случае, великому будущему крышка!
Перевод с франц. Н. Скворцовой

Реджинальд Бретнор, Крис Нэвил
БЛАГОДАРНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ
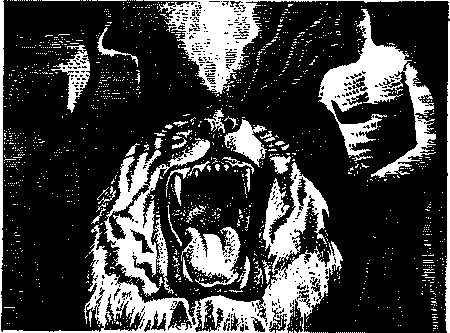
В то утро 5 декабря мистер Эберхард Хэрристон появился в лаборатории корпорации «Ласковые зверушки», как всегда, точно в 8.45. Он снял пальто, вымыл руки и облачился в халат, маску и перчатки. А затем, как это было ухе в течение семи лет, присоединился к двум другим хирургам из его команды.
Как всегда, мистер Олсон сидел возле операционного стола, напевая песенку о милых зверушках своим баритоном, напоминавшим звук, издаваемый бетономешалкой:
Какие милые зверушки, какие милые зверушки!
Прильни к этим зверушкам!
Они будут так любить
Мамочку и папочку и тебя, это все наверняка!
Подергай их за усики, ущипни за шкурку.
Эти милашки так малы и пушисты!
Так пушисты и малы!
Любовь и благодарность заложены в них!
Как всегда, мистер Керфойд стоял наискосок от него, роясь в стерилизаторе. Стоило мистеру Хэррисону войти, как Керфойд мельком глянул на него и тут же моргнул, будто стервятник, которому в глаз попал песок. Мистер Олсон распевал дальше:
Милые тигрята, такие большие и величественные,
Милая пантера, вечно поводящая носом,
Леопард, лев — спешите купить любого из них точно в срок!
Милые зверушки, милые зверушки,
Прильнувшие к…
У мистера Хэррисона вошло в привычку вежливо игнорировать песенку, он отворачивал лицо, удлиненное, напоминавшее прямоугольник, занимаясь какими-то мелочами у экрана энцефалографа, выполняя распоряжения, или отправлялся в маленький кабинет, служащий подсобкой. Но утром пятого декабря он был занят совсем другим. Вместо обычного приветствия он шагнул вперед и сердито проворчал в адрес мистера Олсона:
— Заткнись!
Мистер Олсон откинул голову назад, успев, задыхаясь, лишь прохрипеть:
— Милые, — и замолчал.
Мистер Керфойд выронил из рук пинцет и вымолвил:
— Ну, ну, мистер Хэррисон, — как бы успокаивая его.
— Ты тоже заткнись, — прорычал Хэррисон, поворачиваясь к нему лицом.
— Какая дурь — тратить время на этих чертовых кошек, кошки, кошки — у нас больше ничего нет — одни львы, тигры, пантеры, ягуары, пумы, оцелоты — а дальше, хотелось бы знать, зубчатый тигр? — Он вновь налетел на мистера Олсона: — Какой ужас, я даже во сне чувствую их запах.
— Ну уж не знаю, как вам это удается, — нервно запротестовал Олсон. — У нас дома живет лев. Мы взяли его для детей. Он такой чистый и аккуратный. От него ни капельки не пахнет. У него свой собственный старенький ящик. — Как бы ища поддержки, он посмотрел на своего коллегу Керфойда: — Не правда ли?
— Ну конечно, — прогавкал Керфойд. — Все знают, что наши ласковые зверушки в полном порядке. Кроме того, их всех дезодорируют перед отправкой. Это забота фирмы, и фирма с этим хорошо справляется, по-моему.
Мистер Олсон фыркнул:
— Мне кажется, мистер Хэррисон, что, даже если вам не по душе мое пение, вам следовало бы вести себя пристойно, дабы не обидеть меня. Может, у мистера Керфойда, как и у меня, нет выдающихся заслуг в хирургии, мы и не заявляем, что можем оперировать людей, как это делаете вы, но мы же и не выходим за профессиональные рамки.
Мистер Хэррисон незамедлительно глянул на часы, висевшие на стене. Все прошло так, как он планировал, вот Олсон и разозлен. Хэррисон позволил себе изобразить растерянность.
— Что, что вы имели в виду за профессиональные рамки? — спросил он, вместо того чтобы подвести черту.
Мистер Олсон завелся. Он поднялся с места в угрожающей позе.
— Вам известно, Хэррисон, черт побери, что я имел в виду. Если не станете следить за собой, я сообщу о вас в ассоциацию — похоже, вы будете лишены своей степени. Понятно?
Хэррисон понял, что именно так и будет, как вдруг загорелась сигнальная лампочка, извещавшая о том, что должен появиться их первый пациент.
Они автоматически натянули на лицо маски. Мистер Олсон занял место у задних лап и хвоста. Мистер Керфойд — у передних лап и головы. Мистер Хэррисон, ухмыляясь под маской, щелкнул выключателемуи экран энцефалографа засветился.
В эту секунду дверь операционной отворилась, на каталке, храпя под большой дозой наркоза, лежал молодой лев; на его лбу небольшой участок был аккуратно выбрит. Мистер Олсон и мистер Керфойд включили лампы. Мистер Хэррисон нажал на кнопку, и ножки стола опустились. Мистер Олсон сделал разрезы, которые позволили отодвинуть несколько квадратных инчей скальпа. Зажужжала пила в руках Керфойда, а затем он извлек пинцетом кусочек черепа. Затем мистер Хэррисон стал устанавливать датчики, — сверяя их местоположение с изображением на экране. Ему удалось проделать все это с помощью чуткого электронного скальпеля, вдоль зоны, разделяющей лобные доли, место расположения датчиков было зарегистрировано на экране, и
Та-да-дам, та-да-дам,
Тада, тада-та-да-дам —
весело пропел мистер Олсон. Мистер Хэррисон застыл.
Та-да-та-да-та-да-дам,
Там, там-там-там-там-там.
Его рука остановилась в районе львиного носа, он нахмурился и, сдерживая себя, произнес:
— Прошу же вас!
— Что уж, я и себе под нос не могу спеть? — запротестовал Олсон. — Я просто напевал, ни слова не промолвил.
Мистер Хэррисон отправился в лабораторию. Он выполнил первую и вторую ступени операции, взял датчик Шрудера, который мистер Керфойд вынул из стерильного пластикового контейнера, зарегистрировал номер и установил прибор. В это же время в операционную вошли доктор Дэпплбай и доктор Шрудер, обходившие по утрам клинику. Хирург выполнил третью, четвертую и пятую ступени операции и был готов устанавливать блок Дэпплбая. Мистер Олсон еще дважды принимался напевать мотивчик, один раз даже просвистел его.
Как принято, доктор Шрудер и доктор Дэпплбай обошли вокруг стола и остановились за спиной Хэррисона. Доктор Шрудер потрепал льва по морде своей длинной волосатой рукой.
— Еще чуть-чуть, — оживленно произнес он, — и ты станешь чудным маленьким котенком. Ты будешь резвиться, как барашек. Все это — датчик Шрудера, джентльмены. Животные становятся бесконечно благодарны — благодарны, господа. Не стоит забывать о датчике Дэпплбая, не правда ли? Умница доктор Дэпплбай, ведь наши маленькие друзья теперь должны стать благодарными и не обижать людей.
У доктора Дэпплбая покраснели уши, и он промямлил, что ничего особенного он, собственно, не сделал. Мистер Керфойд согласно закивал, что именно так и есть. Доктор Шрудер, как обычно, отметил, что они хорошо работают и он питает к ним теплые чувства, что он вовсе не сожалеет о том, что ему пришлось бросить вместе с доктором Дэпплбаем доходную ветеринарную практику на западе штата Миссисипи и основать корпорацию «Ласковые зверушки
— Мне понятны ваши чувства, — сентиментально заключил мистер Олсон, — наши успехи еще больше вдохновляют нас. Всякий раз, видя по телевидению рекламу нашей компании, я испытываю чувство благодарности к вам за предоставленную мне возможность работать здесь. — Он посмотрел на мистера Хэррисона: — И наши рекламщики, у них все так ловко получается. Они действительно работают на вас. Вы слышали новую песенку вчера вечером?
Доктор Шрудер ответил, что, возможно, и нет, а Хэррисон прямо-таки задрожал от возмущения.
Мистер Олсон, откинув голову назад, запел:
Милые зверушки чисты и аккуратны,
Что-нибудь не так с малышом, он мокрый?
Обменяй его на милого зверя!
Милые зверушки, милые зверушки,
Уютно устроились…
— Заткнись, — взревел мистер Хэррисон. Он рванулся в сторону мистера Олсона. Он рычал, словно зверь, которого не успели прооперировать, схватил Олсона за горло. Они рухнули у маленькой стеклянной двери кабинета, уронив и шкаф с инструментами. Датчики Шрудера и Дэпплбая полетели в раковину и все разбились.
Понадобилось не менее двух минут, чтобы разнять их, поставить Хэррисона на ноги и восстановить некое подобие равновесия. Первым пришел в себя Шрудер.
— Ну? — спросил он. — Вы набросились на мистера Олсона. Вы погубили наши ценные блоки. Вы привели в негодность нашу систему записи! Боюсь, вы нам больше не нужны.
— Коровий механик! — рявкнул мистер Хэррисон.
Мистер Шрудер мельком глянул на обидчика:
— Никто не спорит, что ваша квалификация позволяет вам оперировать даже людей, — пояснил он. — Но это не изменит моего решения. Ведь новая методика психиатрии позволяет нам обойтись без ваших услуг. Таких, как вы, в хирургии море, мистер Хэррисон, вы очень эмоциональны и несдержанны, так ведь? Вам, видно, самому требуется датчик Шрудера. Итак, доктор Дэпплбай, вам придется заканчивать с этим львом, а на место Хэррисона я пришлю другого. Пусть он покинет нас!
Мистер Хэррисон, громко стуча каблуками, вышел из операционной и швырнул инструменты в угол.
— Фиг тебе, паяльщик обезьяньих мозгов! — заорал он. — Я свободен!
Через пятнадцать минут он покинул здание института, в его кармане лежал расчет. Его профессиональное реноме пошатнулось; его карьера рухнула — но это был и новый импульс для него. Что это он там орал насчет изобретения Шрудера, которое ему не мешало бы установить? Он хихикнул. Эта штука была у него, в маленькой пластиковой коробке, без всякой записи, как он и планировал с самого начала.
— Милые зверушки, милые зверушки, прижмитесь поближе к нам, — радостно пропел мистер Хэррисон, удаляясь прочь.
Кошек Хэррисон ненавидел даже сильнее, чем песенки из рекламных клипов, и чем ближе они к нему были, тем больше он их ненавидел. Теперь, когда вопрос профессиональной гордости уже не имел для него никакого значения, он вряд ли мог возражать против того, чтобы жена смотрела свою любимую программу «Ласковые зверушки» по вечерам, он зачастую сам смотрел ее вместе с ней, по крайней мере, пока в нем не просыпались воспоминания о каких-то проблемах и планах, которые жена частенько подвергала сомнению.
Через три недели, сразу после Рождества, эти планы наконец осуществились. Закончилась очередная программа, мистер Хэррисон выключил телевизор. Качая головой, он заметил:
— Знаешь, не люблю кошек — но эта просто прелесть. Шикарный эпизод, когда дверь вот-вот откроется, а актер не знает, кто же должен появиться.
— Что касается сюжета, — скривила свои пухлые губки миссис Хэррисон, — то он на этом и закончился. Мы так и не узнали, кто же пришел, красавица или тигр. Конечно, это старая история, где-то начало двадцатого века. Тогда тигры были злющими и пожирали людей. Поскольку тигр не был безобидным милым зверенышем, никто и не мог появиться в двери. В любом случае, мне кажется, что этот сюжет следовало построить в таком ключе. Думаю, что зверей вообще нужно было оставить такими, какими их создала природа в джунглях. Тогда и тебя бы оценили по достоинству. Должна сказать, что никто в нашей семье не ронял профессионального достоинства. Поэтому они в один голос и заявляли, что мне следовало выйти за Эльмера Магинниса, он сделал карьеру как психиатр.
Мистер Хэррисон вздохнул.
— Слушай, птичка, — нервно начал он, — я уже объяснял тебе, стараясь до посинения. Я без работы лишь на время. Мир должен мне кое-что — семь лет я занимался киберхирургией на этой чертовой кошачьей фабрике, делая их! — Он фыркнул. — А датчик Шрудера — это не что иное, как электронные кошачьи мозги. Эти дешевые ветеринары для пуделей не знают об этом, а я — то знаю. Поэтому и работаю на Джонсона, Вильямсона, Селзника и Джоунза. Скоро они подыщут мне подходящее место. Тогда уж мы заживем.
— Ну, тебе лучше знать, — парировала жена, — но я не могу представить себе, как механические мозги могут внушать чувство, даже если ты там что-то сделал. Сегодня утром я встретила эту пошлую Эппингершу. Она все твердит, что ей тридцать три, но выглядит она на все сорок. Вот она заявила мне: «Слышала, миссис Хэррисон, что ваш муж ушел в механики, занимается механическими мозгами?» Как тебе это нравится? А я… — Не успела она закончить, как зазвонил телефон. Мистер Хэррисон, ворча, отправился к телефону. Она слышала, как он отрывисто проговорил:
— Хэррисон слушает. — Затем голос его зазвучал мягче. Да, у нас все хорошо, мистер Селзник. Счастливого Рождества и вам. Да, сэр, да, действительно… Кто? Да, сэр, прямо сейчас… Благодарю вас, мистер Селзник. До свидания.
Он вернулся.
— Угадай, кто это был, — закричал он. — Это мистер Селзник, вот это кто. Детка, кончились наши несчастья. Наконец-то!
— О чем ты? — спросила миссис Хэррисон.
— Какой шанс! Нам не придется ждать. Скажи, какая удача, ведь он выбрал именно меня, а не кого-нибудь другого! Спорим, ты не угадаешь, где это?
— Эберхард, — прервала его жена, — кончай болтовню и переходи к делу.
— Ха, — важно заявил Хэррисон. — Так и быть, скажу тебе. Это Мосс-Иглберг.
Мосс-Иглберг, крупнейший магазин на Западе. Сорок пять этажей. Они продают костюмы, новые автомобили, летательные аппараты, королевские драгоценности, эрминов и все-все, лучший скотч, приготовленный французскими кулинарами, бассейны — они все продают.
— Да, и цены у них самые высокие, — добавила миссис Хэррисон. — Мне больше нравится Манки Ворд.
— У них все автоматизировано — весь порядок, расчет, выдача покупок, всем этим управляет единый мозг. Единый что-то вроде льва или тигра. Сейчас это устройство поломалось — а я именно тот, кто должен устроить его. — Мистер Хэррисон пустился в пляс. — Понимаешь, моя сладкая. Послезавтра этот могучий мозг Мосс-Иглберга возблагодарит меня. Стоит нам набрать номер, как мы сможем заказать бесплатно что только душа пожелает.
— Слушать тебя хорошо, но не понимаю, как эти холодильники и эти вещи…
— Чухня! — не дал ей закончить Хэррисон, нахлобучивая шляпу. — Мне даже не нужен блок Дэпплбая.
Мистер Хэррисон почти всю ночь копался в «мозгах» Мосс-Иглберга; Вильямсон, Селзник, Джоупз заплатили ему за это. Он работал в огромном магазине, где не было ни души, никто не мешал ему кое-что подметить для себя. Запись приказов, воспроизведение, надзор за дебетом, сбор сведений общего характера — все эти операции можно было обойти, именуя их подобно агрессии (по отношению к людям), агрессивности (по отношению к животным), голоду (для животных за исключением кентавров), голоду (для разумных). Как просто на самом деле. Цепи не нужно уж очень переделывать. В шесть утра мистер Хэррисон выбрался по лестнице в комнату контроля. На всякий случай заперев дверь, закрыл микрофон и открыл принтер, отпечатал фамилию, имя, адрес, выписав себе кредитную карточку, А-карточку, и включил устройство. Он повторил имя и адрес в микрофон с тем, чтобы мозг устройства запечатлел его голос и мог идентифицировать его по телефону. Спустившись вниз, он установил новую цепь. Затем квалифицированно установил датчик Шрудера как раз в том месте, где он мог принести наибольшую пользу, где пересекались пятьдесят шесть проводков, и закрепил соответствующие переключатели.
— Вот и встроили Любовь и Благодарность! — ликуя пропел Хэррисон, продолжая свою работу.
К восьми, когда двое сотрудников закрепляли наушники на устройстве, он уже закончил свою работу и уселся писать счет.
Они вышли к нему: розовощекий толстяк и худой парень.
— Хай, — сказал длинный. — Я — Уинклер, а это Шварц. Закончил, что ли?
Мистер Хэррисон скользнул по ним безразличным взглядом.
— Я мистер Хэррисон, — информировал он их. — Я починил устройство, а через пару минут я закончу отчет, если никто не будет мне мешать.
— Конечно, конечно, — прервал его Шварц. Он осмотрел комнату, потирая руки. Он потрогал панели, осторожно дотронулся рукой до основного выключателя. — О, парниша. Уверен, что наша старушка Бесси вновь вернется в строй.
— Одиннадцать часов работы — по 12.20 за час, — сказал Хэррисон, — всего 134 доллара 20 центов.
— Отработано до цента, — важно заявил Уинклер, — вы настоящий кудесник, мистер Хэррисон. Сказать по правде, мы со Шварцем порядком расстроились, когда эта штука вышла из строя. Мы уж решили, что ей пришел конец. Мы чувствовали себя убийцами.
Мистер Хэррисон разорвал счет и два листа копировки.
— Какая чушь, — начал он. — Если вы называете эту штуку по имени, то это вовсе не говорит о ее сходстве с человеком. Это электронное устройство проще мозга любого животного, оставьте ваши эмоции.
— Вы не знаете Бесси, — покачал головой Шварц — У нее десять миллионов частей, и она мыслит в тысячи раз быстрее человека. Она живет, наша Бесси.
Мистер Хэррисон собрал свои инструменты, печатные платы, транзисторы. Он собрал свои графитные карандаши, два карманных метра, закрыл кейс.
— Вы глубоко ошибаетесь, — безразлично заметил он. — Я не собираюсь попусту спорить с вами. Машины не думают. Они не живут. И умирать не могут. Вот и все тут.
— Как вы только можете такое говорить, — запротестовал Уинклер. — Послушайте. Когда Шварц отключил Бесси от сети в Рождество, она вроде как умерла, хоть и не разрушилась. Вы потратили почти двенадцать часов, чтобы оживить ее, не так ли? Ведь это вроде искусственного дыхания или, может, даже массажа сердца.
— Просто некоторые части вышли из строя одна за другой. Вот и все.
— Да ну! — воскликнул Шварц — Неужели я вам не говорил? Это была шоковая терапия. Бесси думает, как все. Я ведь работаю с ней с самого начала. Уж кому, как не мне, знать это.
— Да, уж кому, как не вам, знать, что отключать ее от сети нельзя, — резко оборвал его Хэррисон.
Уинклер и Шварц переглянулись.
— Ей нужно было отдохнуть, — осторожно пояснил Шварц. Она до смерти уработалась, отправляя рождественские открытки постоянным покупателям. Кроме того, приближалось Рождество.
— Когда закончите работать, наберите код «Режим отдыха»; только так, никогда не отключайте, — сквозь зубы процедил Хэррисон.
— Коль скоро у нас принято отправлять карточки по всякому случаю, она должна благодарить нас, что ей приходится это делать лишь раз в году. Не так ли?
Голова мистера Хэррисона была полностью занята мыслями о датчике Шрудера и об огромном ассортименте товаров Мосс-Иглберг, да еще тем, как бы побыстрее добраться домой.
И тем не менее, он вдруг отрывисто заговорил:
— Что-что ей следовало делать?
— Быть благодарной, — услужливо заявил мистер Уинклер. Она иногда проявляет это чувство. Вы это можете заметить.
— Черт побери, машины не могут выражать благодарность! — заорал Хэррисон, размахивая руками.
— А Бесси может, — утвердительно заявил Шварц. — Вот и к вам она будет испытывать благодарность, ведь вы спасли ей жизнь. Она полюбит вас за это. — Он включил устройство. Подождите, и вы убедитесь сами.
Ленты конвейера огромного магазина пришли в движение. Бесси следила за тем, как механические рычаги сортируют пакеты, грузят их на соответствующие транспортеры, а в нужных местах выгружают их. В комнате, где происходит отправка товаров, печатаются адреса, металлические рычаги раскрашивают трафареты на упаковках, затем по лентам транспортеров эти коробки попадают в ожидающие их грузовики, которые двигаются тоже автоматически.
Наблюдая за вторым рождением Бесси, Уинклер и Шварц были растроганы до слез. Они даже не заметили того, что мистер Хэррисон поспешил удалиться.
Мистер Хэррисон проскочил на красный свет, миновав два светофора подряд, пока полностью не убедился в том, что ни Шварц, ни Уинклер не подозревали, что он установил датчик Шрудера и что их разговор о благодарности был просто совпадением. Что за тупицы эти парни, к чему отождествлять машину с человеком? Это походит, на антропоморфию, не иначе. Безмозглые дурни! Сама идея того, что машина может быть благодарной, абсурдна. Как это забавно!
Все еще усмехаясь в душе, мистер Хэррисон наконец добрался домой. Жена приготовила завтрак, разложив все по тарелкам, а за кофе они охотно полистали последний каталог Мосс-Иглберга толщиной инча четыре. Там были представлены товары для любого случая и за любую цену, из любой точки земного шара. Там даже были подносы и корпуса ламп, изготовленные из лунного камня, стоили они сумасшедшие деньги. Миссис Хэррисон сказала:
— Номер 62-А-547-01: нитка жемчуга, утроенный стандарт, Ориентал. 99 550. Ну, вот это, пожалуй, подойдет.
— Не трудись читать цену, ха-ха, — рассмеялся Хэррисон.
— Мы можем себе позволить это.
— Номер 62-С-202-49: кольцо с изумрудом в 32 карата. Она поднесла к лицу свою руку, согнула палец, как бы примеряя кольцо и вздохнула. — Знаешь, я закажу и то, и другое попозже, когда мы убедимся, что все в порядке.
— Птенчик мой, я уже убедился.
— А я нет, — сказала миссис Хэррисон. — Вначале купим несколько видов товаров, таких, которые будем в состоянии оплатить, если что-то не сработает и они пришлют нам счет. В любом случае к концу месяца, через 4–5 дней, все станет ясно.
Через несколько минут мистер Хэррисон набрал номер отдела цен Мосс-Иглберга. Он назвал свой адрес и фамилию. Жена слушала его разговор, согласно кивая головой. Диспетчер ответил:
— Вы зарегистрированы. Можете делать заказ.
Очень осторожно Хэррисон перечислил номера товаров из каталога: большой телевизионный приемник, халат, отороченный мехом шиншиллы, флакон Шанели ь 5, набор столового серебра на восемь персон, обед на двоих со всевозможными деликатесами от Ротиссери, ящик шампанского, коробку дорогих сигар.
Они не заставили себя долго ждать. Ровно в 11.15 позвонили у входа, появились многочисленные коробки и пакеты. Мистер Хэррисон аккуратно открыл каждую и проверил содержимое. Только вот телевизоров было два.
— Может, я ошибся в заказе, — заметил он. — Хотя ничего страшного. Все идет так, как я тебе говорил. Буду делать вид, что работаю, чтоб никому и в голову не пришло, но отныне Мосс-Иглберг будет содержать нас. Это нужно отметить!
Они отмечали это событие все выходные, наслаждаясь шампанским и листая каталоги, да еще смотря телевизионные передачи. Они продолжили празднество и в Новый год. А затем, когда счет так и не прислали, миссис Хэррисон все реже стала говорить о том, что могли произойти неприятности, а все чаще и чаще думала о благополучии, которое сулила им Бесси.
10 января, устав от ожидания, она позвонила в контору Мосс-Иглберга, гце ей поведали, что мистер Хэррисон ничего не приобретал. Когда он вернулся вечером домой, она уже подготовила целый список новых приобретений.
— Я хочу, чтобы утром ты уже все заказал, дорогой Эберхард. Рождество уже пролетело, пора обзаводиться товарами для дома: рояль, спальня в стиле Луи или что-то вроде этого, маленький чудный электроорган, новые шторы для всех комнат, морозильную камеру, антикварную прялку, мраморный туалетный столик и всевсе.
— Зачем набирать так много, — осторожно предупредил ее Хэррисон, — по крайней мере, не все сразу. Они не смогут привезти все сразу. Да и здесь нам придется поднимать все на грузовом лифте. Я не хочу никаких подозрений.
— Не волнуйся, — парировала миссис Хэррисон. — Я все обдумала. Мы не собираемся делать заказы чаще, чем раз в неделю, даже продукты. Если полиция узнает, одному богу известно, что с нами будет! Они могут даже применить к тебе эти тесты из психиатрии. Что тогда станет с нами?
Мистер Хэррисон рассмеялся.
— Тогда из меня сделают Зомби. Смастерят этакую ласковую зверушку. Но, правда, они все равно не узнают, потому что Бесси им ничего не скажет. Она слишком меня любит, ха-ха-ха! Датчик установлен!
На следующий день около полудня вновь прибыли заказанные товары. Более мелкие остались в холле, как вдруг раздался звонок. Мистер Хэррисон, напевавший себе под нос легко запоминающуюся песенку торговой фирмы, поспешил к телефону.
— Мистер Хэррисон? — управляющий говорил несколько растерянно. — У нас тут внизу куча ваших заказов. Вы бы спустились вниз?
— Зачем, Квант. Поднимайте все наверх.
— Все?
— Конечно, все, — отрывисто произнес мистер Хэррисон. — А почему бы нет?
— Ладно, как пожелаете, ведь это ваше дело, где разместить три рояля.
— Что-что? Сколько роялей?
— Три, мистер Хэррисон. Видно, в магазине ошиблись.
Мистер Хэррисон прикрыл трубку рукой.
— Они прислали три рояля, — сказал он, обращаясь к жене.
— Ну, два нужно отправить назад.
— Но мы не можем сделать это, моя птичка. Возникнут вопросы. Боже, даже продать их мы не можем. Нам нужно куда-то растолкать их, вот и все. Возможно, что это я допустил ошибку в заказе, — сказал он, присвистнув. Он вернулся к телефону. — Ошибки тут нет никакой, мистер Квант, — заявил он подчеркнуто громко. — Я спросил жену. Она… она обожает музыку.
Хэррисоны разместили три рояля в гостиной, теперь восемьдесят процентов площади было занято ими. Телевизоры перекочевали на рояли, а на оставшемся свободном рояле разместилась прялка; электроорган пришлось втиснуть в спальню, потеснив новый гарнитур и мраморный туалетный столик. Когда мистер Хэррисон встретил в холле Кванта, тот пошутил вскользь, что на его жену тоже находит нечто подобное, когца она хочет повеселиться; ей это прописывает доктор.
Отныне Хэррисон решил увеличить вдвое каждый следующий заказ.
Что касается миссис Хэррисон, то она философски относилась к этому забиванию квартиры товарами. Она была постоянно занята разглядыванием либо витрин Мосс-Иглберга, либо проспектов этого магазина, с восторгом любуясь товарами и сожалея, что не может поделиться впечатлениями с этой дурнушкой Эппингер о Бесси.
Двадцать четвертого января Хэррисоны сделали новый заказ, и вновь миссис Хэррисон отказывалась от драгоценностей и обновок в гардеробе.
— Ну закажи, — сдалась она на уговоры мужа. — Но только всего одну норковую шубу и кое-что из серебряных украшений, да немного духов, поэтому даже если ты вновь ошибешься, этого никто не заметит. Но когда я получу действительно ценные приобретения, я бы хотела сама сделать заказ. Мне кажется, ты набираешь не тот номер.
Заказ прибыл.
— Ну вот! — закричала жена. — Ведь я просила одну норковую шубу, а ты заказал четыре.
— Проклятье! — взревел мистер Хэррисон. — Могу поклясться, заказ сделан правильно. Счастье, что у них было 4 шубы в наличии.
Затем, не противясь жене, он набрал Мосс-Иглберг и закодировал голос жены с тем, чтобы она могла сама делать заказы. Он лишь попросил ее не заказывать ничего пару недель. Миссис Хэррисон уверила его, что не смеет ослушаться, добавив, что она уж не закажет половину необходимого, пусть ей будет нужно вдвое больше; ей удалось сдерживать обещание целых пять дней. Двадцать девятого января, тем не менее, она наткнулась на заметку в газете, в которой говорилось, что в Мосс-Иглберге предстоит распродажа драгоценностей с сапфирами по сниженным на 30 процентов ценам. Хоть она и знала, что расходов у нее не будет никаких, она все же не смогла устоять. Она могла сделать заказ вместе с очередным запасом продуктов, ей хотелось приобрести камешек в восемнадцать карат, номер этого заказа она обвела. Наконец очень медленно и осторожно она сделала заказ.
Ждать пришлось недолго. Миссис Хэррисон торопливо рылась в коробках. Маленького футляра она не обнаружила. Пытаясь взять себя в руки, она отметила все коробки с провизией по номерам. Почти все было перенесено в кухню, осталась лишь одна коробка. Но она была не такая уж маленькая: фута на четыре высотой и очень тяжелая. Сердце ее затрепетало, она разорвала упаковку, обнаружив внутри большой деревянный ящичек, на котором сбоку было название фирмы, производящей китч. Отверткой она открыла крышку. Это было сочетание солнечных часов и птичьей поилки под бронзу, у края которой расположился ангелочек, стрелы указывали на стороны горизонта; внизу был выгравирован девиз; Honi Soit Qni Mal Y Pense. Миссис Хэррисон от неожиданности села. Она ревела целых две минуты, пытаясь вспомнить, где же она ошиблась. Затем, с трудом взяв себя в руки, она спрятала «произведение» в туалете и умолчала о нем.
Через четыре дня она повторила заказ с сапфиром. На этот раз она получила несколько пар шерстяного белья 50-го размера. Подавляя истерику, она спрятала его туда, где была поилка, и снова промолчала.
Пятого февраля зазвонил телефон. Она ответила, женский голос четко и громко пропел слова известной песенки:
С днем рождения тебя,
Дорогой Эберхард,
С днем рождения!
А через час от Мосс-Иглберг прибыла посылка с засахаренными фруктами. К ней прилагалась открытка: «Стань моим возлюбленным!»
Поскольку до дня рождения Хэррисона было далеко, зато приближался День Святого Валентина, покровителя влюбленных, она сделала вывод, что это — шутка мужа, о чем она ему и заявила, стоило ему только вернуться.
— Мне кажется, — заключила она, — тебе бы следовало быть выше этого, особенно после того, как ты поучал меня не делать заказы так часто. Эти засахаренные фрукты мы не сможем съесть и за несколько недель!
После того, как шоковое состояние Хэррисона миновало, он решил, довольно логично, что Уинклер и Шварц пытались доказать ему, что Бесси испытывала благодарность. Но уж об этом ему вряд ли хотелось дискутировать со своей женой, а посему он просто заявил ей, что никаких заказов он не делал и что для него это была такая же загадка.
— Чушь, — заорала миссис Хэррисон, вновь вспомнив птичью поилку и комплекты нижнего белья. — Отказываюсь верить. Это вовсе не смешно. Я уверена, что Эллер Магиннис никогда бы не поступил так глупо, так по-детски. Посмей поступить так еще хоть раз.
Она не переставала злиться, отправившись спать, а события следующего дня не изменили дела. Зазвонил телефон. Женский голос передал очередные поздравления, а внизу Хэррисона ждала пара больших кактусов в горшках. Протест мистера Хэррисона остался без внимания. А его жена прибавила звука в телевизоре, где шла программа о ласковых зверушках, всем своим поведением игнорируя мужа. Он уже начал думать о том, не доставил ли он каких неприятностей Уинклеру и Шварцу.
На следующее утро его раздумьям пришел конец. Поскольку была суббота, он сам отвечал на телефонные звонки. Последовало веселое приветствие. Через час он уже смог прочесть на сопроводительной карточке, что же было в коробке, — дюжина помочей. Рядом с перечнем было изображение женщины в униформе, а надпись под рисунком гласила: «С любовью к моей тетушке по службе».
Хэррисон решил, что в понедельник ему уже пора принять к Уинклеру и Шварцу крутые меры. Миссис Хэррисон тоже обдумывала решение. Раз Эберхард позволяет дурачить себя, это ничего хорошего ей не сулит. В понедельник…
В понедельник перед ленчем миссис Хэррисон заказала целый набор драгоценностей из каталога. Она также сделала заказ на несколько туалетов, которые могла себе позволить лишь самая любимая жена магараджи, да и то в исключительном случае. Повесив трубку, она начала размышлять о том, что раньше она не ошибалась, может быть, лишь однажды, так что если сейчас она ошиблась хоть с одним номером, то это бы ничего не значило уж по крайней мере номера украшений из жемчуга она указала верно.
А в это время мистер Хэррисон выскользнул из конторы Джонсона, Уильямсона, Селзника и Джоунса и тайком направился к телефону-автомату. Он был разозлен и уже приготовил фразы, чтобы выплеснуть ненависть на Уинклера и Шварца, он набрал номер Моес-Иглберга и попросил соединить его с отделом контроля Бесси. Как только его соединили, он заорал в трубку:
— Уинклер, Уинклер, слышите меня?
— Кто вам нужен? — крикнули в ответ.
— Мне нужен Уинклер.
— Его нет.
— О’кей. Тогда Шварц.
— Тоже нет.
— Они что, обедают? — спросил Хэррисон. — Когда вернутся?
— Никогда! — кричали на него в трубку. — Их перевели отсюда. Они уже в Далласе! Черт побери! Прекратите орать!
Мистер Хэррисон заговорил тише. У него возникло чувство, будто что-то сжимает его холодными тисками.
— Давно?
— Три недели назад, — рявкнули в ответ.
Хэррисон тяжело вздохнул. Положив трубку на рычаг, он вышел из будки. Вошел в бар и заказал двойной виски. Затем вернулся в контору и продолжал работать, будто ничего не случилось. Подарки ко Дню Святого Валентина не выходили из головы. Может, его жена решила подшутить над ним, но он отверг эту мысль. Он вспомнил, что говорили ему Уинклер и Шварц о Бесси и окончательно решил, что они ненормальные. Затем он вспомнил о том, что датчик Шрудера должен был адаптироваться месяца два. Случалось иногда, хоть и редко, что адаптация происходила быстрее. Возвратившись домой, он все пытался убедить себя, что нечто подобное произошло с Бесси, что ему и его жене следовало тихо обождать несколько недель, а там видно будет.
— Хэлло, хэдло, — начал было он, открыв дверь. — Птичка моя, вот и я.
Он остановился как вкопанный. Холл был завален коробками, картонками, свертками. Некоторые лишь надорваны, а большинство — вообще не тронуты. Там были маленькие, большие и просто огромные пакеты.
— Душа моя! — в страхе закричал мистер Хэррисон. — Где ты? Эй, птичка!
В ответ он услышал громкое рыдание жены. Он обнаружил ее, распростертую на кровати из комплекта спальни Луи-какого-то или что-то вроде этого. Он сел на краешек постели и попытался обнять ее.
— Моя любовь! Что случилось? В чем дело?
Миссис Хэррисон прямо затряслась. Она отшвырнула его руки, нос ее распух от слез, макияж размазался по лицу.
— Ах, что случилось? — завыла она. — Что произошло? Посмотри, что ты натворил!
Она успела лишь поднять руку, указывая на коробки, как рыдания вновь начали душить ее. Там был темный цилиндрический предмет, наполовину завернутый в бумагу. Он вынул его. Высотой не более двух футов, изготовлен из кожи, полый, в поперечнике более десяти инчей.
— Я только заказала кое-что из драгоценностей и из одежды — вот посмотри, что нам прислали. Восемнадцать штук!
Мистер Хэррисон посмотрел на бирку. Новинка из Конго. Исключительно оригинальна. На обратной стороне — Подставка для зонтов в виде ног гиппопотама. Гарантия качества!
Он опустил ее на пол. Его руки дрожали, он сунул их в карманы.
— Ноги гиппопо, — громко выдавил он, — для зонтов. Это ошибка. Просто вышла ошибка.
Миссис Хэррисон, рыдая, бросилась на постель.
— Ха-ха-ха! Машины всегда ошибаются.
— Все уладится. Конечно же! Не беспокойся.
Он неуклюже погладил ее и вышел, пытаясь быстро разобраться в происшедшем. Кроме восемнадцати ног гиппопотама он обнаружил тюк болотного мха, револьверную головку токарного станка, пару ловушек для раков, сборники гимнов адвентистов, пять или шесть пучков салата, грабли для сена, манок и чучело утки, модельку японского автомобиля и клетку с семейством бельгийских кроликов.
Тогда, ошалев от изумления, он бросился в спальню. Миссис Хэррисон приподнялась на кровати. Глаза ее были сухи, и настроена она была воинственно.
— Что-то не так, — пробормотал Хэррисон.
Она не ответила.
— М-может, надо было установить блок Дэпплбая, — продолжал он. — Птичка моя, может…
— Хватит с меня быть птичкой, ты настоящее животное! Миссис Хэррисон в гневе вскочила на ноги. — Я скажу, что случилось! Эти механические мозги, или как ты их называешь Бесси, — она любит тебя! Да, да — любит и ревнует меня к тебе! Вот в чем причина. Когда ты заказал рояль, она послала тебе еще два. То же самое было и с шубами, которые заказал ты. Но если заказывала я, смотри, что она посылала, — кролики и поилки для птиц, да еще гиппопотамовы ноги! — Она затопала ногами. — Немедленно убирай этот утиль из моего дома, слышишь? Отправь все своей Бесси. О, если бы ты видел лицо соседа, когда это все привезли! Будто мы все это украли! О, о, дорогой Эберхард, что станет с на-а-ми?
Она разрыдалась у него на груди. Они обнялись и расплакались оба.
— Ужасная машина, — простонал мистер Хэррисои.
— Она любит тебя, и ты ее тоже любишь. Она злится на меня, посылая этот хлам, а тебе все эти подарки! Тебе просто нужно выбирать из нас двоих. Если хочешь, чтобы я осталась, отправь все это назад!
Мистер Хэррисон попытался отбросить мысль о том, какое выражение было на лице соседа поутру, а также о том, что полиция могла пронюхать о его афере с Бесси. Тем не менее он постарался взять себя в руки. Он не забывал, что Бесси была всего лишь машиной. Он объяснил жене, что это вовсе и не любовь, и даже не благодарность зверушек, это просто результат особенностей электрических цепей, наличие конденсаторов и всего остального. Он также пояснил, что не хотел бы, чтобы обслуживающий персонал запаниковал, что было бы очень рискованно отправлять все назад. Конечно, он мог выбросить салат в мусорный ящик, а кроликов ночью отпустить в парк. Но ему еще предстояло работать в этом магазине год или два, все лишнее потихоньку распродать и выбросить. Если бы они поступили именно так, да еще не приглашали никого к себе, не водили ни с кем дружбы, то, возможно, они были бы в безопасности. Мистер Квант вряд ли заявит в полицию, если бы он сделал это, то она давно была бы здесь. А завтра Эберхард сам пойдет в Мосс-Иглберг и извлечет блок Шрудера, и сотрет все записи, тогда им нечего будет волноваться — ведь Бесси всего лишь машина.
Пока Хэррисон растолковывал все это жене, ему пришлось вскользь напомнить ей, что он все так же любит свою птичку; что делал он все ради нее, а не из-за своей неприязни к кошкам, постоянно напоминая ей, что в конце концов у нее четыре серых норковых шубы.
Наконец мир был восстановлен. Они поцеловались и занялись делом. Несколько часов подряд они разбирали свертки, пряча заказы. Манок с утками отправился под рояль вместе с кроликами. Модель японского автомобиля припарковался в ванне. Утомленные, они легли в постель, в доме осталась лишь единственная тропа, годная для передвижения, свободной оставалась лишь малая частичка ковра.
— О, надеюсь, у нас все уладится, — вздыхая, промолвил Хэррисон, погасив свет. — Я все еще в ужасе. Мне не верится, что Бесси — всего лишь механический мозг. Мне… мне кажется, она живая!
Эту ночь мистер Хэррисон провел в тревоге. Сначала ему приснилось, что он работал с Бесси, устанавливая блоки Шрудера и Дэпплбая. Блоки Дэпплбая лопались, словно шары, и всякий раз при взрыве Бесси мурлыкала, а он все копался в проводах, а находил виски или клочья меха. А потом вошли Шварце Уинклером и пустились в пляс, а над ними были раскрыты зонтики. Был тут и мистер Олсон, напевавший песенки о ласковых зверушках своим железобетонным голосом. И наконец мех и виски заполонили все вокруг, словно высокая трава, а мистер Квант отворил огромную дверь, из которой вышли трое в подтяжках, а Олсон среди них напевал:
Ласковые зверушки, ласковые зверушки,
Прижмитесь к ним!
Они сладки, словно сахар, и огромны, как автобусы,
Ласковые гиппопотамусы!
Хэррисон проснулся в холодном поту и поспешил принять две таблетки снотворного. Через пятнадцать минут сон перенес его в полицейский участок на допрос; его лицо освещал яркий свет, имевший какое-то отношение к воздействию на психику. Доктора Шрудер и Дэпплбай в форме полицейских держали его вниз головой, в то время как Олсон зачитывал список товаров, посланных ему Бесси, а Керфойд стирал слова в его дипломе, пока диплом не превратился в чистый лист. Затем загудел пароход, и все пошло кругом, и он понял, что уже на улице, вернее, сразу на четырех, и что-то изменилось. Он глянул на себя со стороны и увидел, что вместо кожи у него серый норковый мех. На его шее — воротник и поводок, за который его вел Шрудер. И он был так благодарен Шрудеру за отличную кормежку, что тянул к нему лапы и мурлыкал. А затем Шрудера сменил маленький японский автомобиль, который толкал его в комнату контроля Бесси, походящую на набитый зубами рот, а за каждым зубом стоял полисмен, и все они мурлыкали, мурлыкали, мур…

Он чувствовал себя отвратительно, когда очнулся. Он торопливо выпил кофе, кое-как побрился и отправился прямиком к Джонсону, Уильямсону, Селзнику и Джоунзу. Джонсон с любопытством глянул на него, заметив что-то о проклятых отклонениях.
— Мистер Джонсон, — спросил он как бы вскользь, — вам не приходилось слышать о преднамеренных записях в банке памяти этих устройств в крупных магазинах? Я имею в виду ситуацию, когда контроль за действиями машины отсутствует?
— Такого быть не может, — уверил его мистер Джонсон. — Невозможно. Это по силам лишь разумным существам.
Мистер Хэррисон вздохнул. Он подождал до обеда, а затем поспешил в Мосс-Иглберг. В тот день дежурил лишь один механик — здоровый, мордастый парень с ярким румянцем.
— Я от Джонсона, Уильямсона, Селзника и Джоунза, — представился Хэррисон. — Эта машина не ломалась? Как у нее дела?
— О, вы, наверное, мистер Хэррисон! — оскалился парень, протягивая к нему руку для приветствия. — Я Филмор. Слышал, слышал о вас. Уинклер рассказывал мне, как вы реанимировали Бесси. Ну, у нее все о’кей — мурлыкает дальше!
Мистер Хэррисон закусил губу.
— Вот и хорошо. Может, мне проверить ее? Я сделаю это бесплатно. Это входит в профилактическое обслуживание.
— Было бы чудесно, мистер Хэррисон. Бесси оценит это.
Мистер Хэррисон досчитал про себя до десяти и попытался изобразить улыбку на лице.
— Да, между прочим, — сказал он, открывая набор инструментов… — Похоже, я забыл транзисторы. Они остались у меня в машине, на сиденье. Она — в третьем ряду на стоянке. Не могли бы вы…
— Принести их сюда? Да с удовольствием, мистер Хэррисон.
Как только механик удалился, Эберхард плотно закрыл дверь, быстро поднялся по лестнице и вырвал с корнем блок Шрудера и все провода, подключил микрофон и запросил карточку мистера и миссис Хэррисон. Как только на экране показались счета, он отключил запись и все стер. Машина защелкала и зашумела. Трижды вспыхнула маленькая красная лампочка.
— Ну, парень, вот и все! — с восторгом воскликнул Эберхард. Радость и облегчение охватили его, и он даже запел:
От кошек одни микробы,
От собак несет псиной.
Не нужны они мне — мамуля, заведи мне ласковую зверушку!
На этой финальной ноте он отключил принтер, вернул выключатели в исходное положение и выдернул микрофон. Когда механик возвратился с транзисторами, он уже упаковывал инструменты.
Насвистывая, Хэррисон отправился прочь. Он зашел в автомат, чтобы сообщить жене, что все проблемы разрешены. Он работал полдня, как пчела.
Он возвратился домой как обычно, нажал кнопку звонка. Никто не ответил. Он постучал. Когда ему показалось, что в квартире кто-то двигается, он позвал:
— Птичка моя, ты дома? — И так несколько раз.
Наконец он достал ключ и попытался открыть дверь. Кто-то большой и тяжелый заблокировал дверь изнутри.
Эберхард нахмурил брови. Это начинало пугать его. После минутного замешательства он спустился этажом ниже и попросил пожилую леди разрешить ему пройти по пожарной лестнице к себе в квартиру, пообещав сообщить ей, что случилось в его квартире, если там действительно что-то случилось.
К счастью, окно кухни не было закрыто. Он забрался внутрь. Сразу стало ясно, что случилось нечто ужасное. По одну сторону кухни громоздились одинаковые коробки. Они окружили холодильник, поднимаясь до потолка. Это еще не все. На столе была оставлена записка.
Он читал ее медленно, словно страшный приговор.
«Дорогой Эберхард.
Я была тебе хорошей женой, самой лучшей, если бы не твои неудачи на службе в отличие от Эльмера Магинниса. Если бы тут была замешана женщина, то думаю, что я бы простила, но это слишком. Я уехала к маме. Я взяла только свои вещи, в том числе и мои шубы из норки. Ты не почувствуешь одиночества, потому что Бесси — все для тебя. Не веришь — взгляни в гостиную.
Твоя жена — Миньонетта
(Птичка)»
Ничего не соображая, мистер Хэррисон вышел в холл. Он был завален огромными предметами, через которые ему пришлось перелезать. В гостиной он остановился, пытаясь преодолеть охвативший его страх. Он взялся за ручку, повернул ее, открыл дверь. Вот он и внутри. Они расположились повсюду, как он и предполагал, преодолевая ящики в кухне. Они сидели на роялях и под ними, на стульях и тумбочках. Они были счастливы, маленькие, средних размеров и крупные, полосатые, в крапинку и пятнистые.
Милые зверушки увидели Эберхарда и поднялись все одновременно. Все они начали мурлыкать. Они устремились, чтобы потереться о его ноги. В их глазах была любовь.
Перевод с англ. Н. Макаровой

Дороти Хейнз
ПРЕДСКАЗЫВАЮЩАЯ СМЕРТЬ

В мире осталось только три цвета: пурпур мягких ночных облаков, желтизна полосок на западном небе и зелень реки, темная зелень. Как будто все русло было заполнено битыми бутылками. Вода спокойно поворачивала на излучину, неподвижная черная жидкость. И в том месте, где река становилась шире, набегающий ветер взбивал ее гладь небольшими волнами.
Девочка еле передвигала ноги, спотыкаясь о гальку, которой был усыпан берег. Она думала о ферме, оставшейся позади, как раз за последним пригорком поросшей вереском местности. Ей приходилось преодолевать расстояние в три мили до работы утром и три — поздно ночью, когда она возвращалась с фермы в Нокхэлоу. Хозяева всегда задерживали ее там допоздна, заставляли чистить и таскать что-то и опять чистить. Так что, когда она добиралась до дому, почти всегда было темно. Зимой, когда снег лежал толстым ковром и по нему было трудно идти, она навещала родных только один раз в две недели.
Лежа в постели в Нокхэлоу, слушая, как завывает ветер, и ощущая всем своим телом сквозняки, дующие из всех щелей и углов, она тряслась от холода и вспоминала свою теплую постель, сестру, с которой она делила одеяло и подушку, и огонь, оставленный на ночь, отбрасывающий красные сполохи на шершавые стены.
Летом, когда Джинни билась во сне, а за стенкой кашлял Иэн, стараясь приглушить кашель одеялом, ей хотелось побыть одной, чтобы свободно дышать. Она жила в постоянном противоречии, в каких-то мечтах и грезах о другом, но не осуществляла их, потому что не знала, чего хотела. В конце рабочего дня ее единственной мыслью было поскорее вернуться домой, посидеть спокойно, ничего не делая.
Вереск постепенно приобрел серый оттенок, деревья за рекой стояли, как вырезанные из черной бумаги, приклеенной к небу, а летучие мыши трепетали в ночном воздухе. В сумерках все звуки обретали удивительную новую жизнь. Они длились долго, бесконечно долго и достигали ушей так же явственно, как звон колокольчика в пустой комнате. Девочка остановилась, прислушиваясь к ночным шорохам. Птица вспорхнула со стоящего неподалеку дерева, ее надрывный крик улетел вслед за ней; что-то как будто метнулось в кустах с грохотом падающего камня, потом все стихло. Откуда-то издалека, со стороны, обращенной к воде, донесся странный звук, напоминающий плеск воды при полоскании белья в реке. Он был слышен, несмотря на шум течения. Клокотание и булькание воды в реке не могло заглушить его. На некоторое время он прекращался, чтобы возобновиться вновь. Должно быть, это мать стирает что-то для Иэна. Когда он много кашлял и отхаркивал кровь в банку, стоявшую у изголовья, белье его становилось мокрым от пота, и мать ходила на берег, так как в доме не было воды. Она полоскала белье и оставляла его на улице для просушки.
Плеск становился все слышнее, потом прекратился, когда Мэри подбежала поближе, чтобы посмотреть, кто бы это мог быть.
— Мама! — позвала она. — Тебе помочь?
Женщина не ответила. Она низко склонилась над водой, проворно работая руками, — мутное белое пятно в серых сумерках. Ее белый халат доходил до щиколоток, и одежда, которую она стирала, покрывала прибрежную воду белыми облаками. Впечатление было такое, будто она внезапно поднялась с постели — и полусонная поспешила сюда, ступая, в состоянии отрешенности, по чертополоху и камням. Она оттирала какие-то пятна и полоскала, при этом брызгала и плескала водой, потом распрямлялась, поднимая струящееся полотно вытянутыми руками, отжимая его, встряхивая и вновь погружая в воду.
Неожиданно, встревоженная, она оглянулась через плечо, и Мэри увидела, что это вовсе не мать. Это была женщина невысокого роста, с морщинистым неприветливым лицом и маленькими ужасающего вида ногами, вцепившимися в землю, босыми и перепончатыми, как у утки.
Девочка попятилась назад, слишком напуганная, чтобы сказать что-нибудь. Еще шаг назад, и она побежала, спотыкаясь о камни, оглядываясь, не преследует ли ее это безобразное существо. Ноги у нее стали мокрыми, покрытыми каплями брызг, будто прачка замахнулась своим бельем, чтобы с размаху шлепнуть ее. Она не видела ничего, только белую тень, стоящую совершенно неподвижно и уставившуюся на нее.
На кухне мать подогревала молоко на огне. Тихая и спокойная, с волосами, струящимися по спине, она поставила чашку и блюдце на стол и приложила палец к губам.
— Джинни спит, — сказала она. — Не разбуди ее.
— Мама, мама…
— Потише, хорошо? Что такое? Что-то случилось в Нокхэлоу?
— Нет, нет, мама. Там женщина стирает — она мне не понравилась. Ты бы только видела, как она пристально на меня смотрела, и это ее ужасное лицо…
— Мэри! Она говорила что-нибудь? Она говорила…
— Нет, но она подошла бы ко мне, если бы я не убежала.
— А ты говорила, спрашивала ее о чем-нибудь?
— Я только сказала: «Мама!» Я думала, что это ты стираешь белье для Иэна. Потом она повернулась…
— Что она стирала, Мэри? Скажи ради Бога! Ты видела?
— Что-то белое — я не знаю, что именно. Мне оно не понравилось. Мама, а что произошло? Я сделала что-то неправильно?
— Бог нам поможет, дитя мое. Ты разбудишь брата. Ему не надо знать об этом. Мэри, это была Бин-Них, Предсказывающая Смерть. Она стирает саваны для умирающих. Да благословит Бог твои легкие ноги. Она не догнала тебя, Мэри, иначе она искалечила бы тебя на всю жизнь. Был такой Донал Фергус. Так вот, она настигла его и стукнула по бедру мокрым саваном. С тех пор он не может ходить.
— Чей же это саван…
— Кто-то вскоре должен умереть. О, пресвятая дева Мария, ведь сегодня после завтрака ему стало хуже. Три чашки крови… и он так ослабел после последнего кровотечения…
— Иэн?
— Да. Она бы тебе сказала, если бы ты подкралась потихоньку и схватила ее за руку. Она должна была бы ответить, лишь бы ты успела первой ухватиться за нее — но рисковать не стоило. Это для Иэна она стирает саван.
— Но какое она имеет право! Почему она приходит к людям, чтобы сообщить им о смерти? Какое право имеет она — готовить для него саван, когда он ему еще не нужен…
— Тихо, детка, успокойся. Она дает нам время подготовиться. Она ведь тоже по-своему несчастна — стирает такие вещи всю ночь напролет. И всегда в одиночестве. Даже Бог иногда должен испытывать жалость к подобным созданиям.
Утром она не пошла на работу. Она до смерти напугалась Вин-Них и боялась выйти из дома. Пусть негодует повар на кухне в Нокхэлоу, пусть горничная сама справляется с тем, что полагается прислуге. Она останется здесь, пока не уйдет смерть и тело ее брата не вынесут за порог дома.
— Что случилось с Мэри? — спросил Иэн. Он лежал, откинувшись на подушки. Он был бледен, но черты его лица были необыкновенно красивы, что редко бывает у мужчин..
— Она неважно чувствовала себя ночью, — ответила ему мать. — Пусть побудет дома денек-другой.
— Бедная мама! — Губы его скривились, он пытался сдерживать кашель. — В доме все время кто-нибудь болеет. Ну, не беспокойся. Мне сегодня получше. Совсем скоро я снова смогу ходить на реку рыбачить.
Женщина отвернулась, и он увидел ее слезы. Он всегда был уверен, что поправится, постоянно говорил о реке, где серебристый лосось выпрыгивает на солнце из воды и она расходится большими кругами, когда рыба с брызгами падает обратно.
Жаркое полуденное солнце согрело воздух и землю. Иэна вынесли на улицу и посадили в дверях, а Мэри села возле него, молчаливая. Он удивлялся, почему она ни о чем с ним не поговорит. Она почувствовала, что не может оставить его ни на минуту, что должна провести с ним как можно больше времени, и только боялась, как бы неосторожное слово не сорвалось с ее губ.
Река извивалась вдалеке голубой лентой, сверкающей в лучах солнца, и неровная торфянистая местность, поросшая вереском, то опускалась, то поднималась желтыми и коричневыми выступами. Яркое солнце нещадно палило землю.
Их мать была занята по дому, а Джинни ей помогала. И только девочка и ее брат отдыхали. Они сидели, разморенные жарой, молча наблюдая, как вибрирует раскаленный воздух. Он устал от этого марева, она — от напряжения и страха за него.
Вспоминая о смерти отца, она попыталась представить, что будет для нее означать потеря Иэна. В доме будет мрачно и уныло. А потом, когда все будет позади, на некоторое время наступит апатия. Надо будет покупать черную одежду, платья, гроб, а еще похороны: отвезти гроб на лошадях к кладбищу стоило больших денег. А потом соберутся соседи, ближние и дальние, будут есть и пить.
После похорон в доме станет немного просторнее. Никто не будет будить кашлем по ночам, не будет этих банок с кровянистыми выделениями.
Она думала обо всем этом, сидя рядом с ним, и не могла этому поверить, потому что подобное происходит только в мрачных снах и разных историях. Тем не менее она никогда не подвергала сомнению то, что говорила мать. Вполне возможно, что она действительно видела эту прачку с перепончатыми ногами (она не сомневалась в этом), вполне возможно, что предсказание сбудется. Ей даже не приходило в голову, что та женщина могла стирать саван еще для кого-нибудь, кроме Иэна. Это не могла быть Джинна, которая здорова и вполне могла выполнять работу, посильную женщине; это также не могла быть и мать, которую можно было увидеть лежащей в постели, только когда на свет появлялись дети; не могло быть речи о ней самой, ведь такое не случается вот так просто. Нет, конечно, смерть ожидала Иэна. И хотя было очень жестоко говорить ему об этом, но не хотелось брать на душу смертный грех: позволить ему умереть, не подготовившись к этому.
Но прошло два дня, а Иэн не умирал. По утрам небо было голубым, слегка подернутым дымкой. Солнце постепенно поднималось все выше, и вот уже наползала невыносимая жара и отдавалась тяжестью в голове. Высохший вереск шуршал под ногами, цветы поблекли и стали сухими, камни накалились под жгучими лучами. Казалось, только чертополох буйствует, выбрасывая вверх крепкие, зелено-серебристые колосья.
Миновала вторая ночь, а на третий день Иэну стало совсем хорошо — лучше, чем многие месяцы до этого. Возможно, он и в самом деле однажды умрет от своей болезни, но когда? Случится ли это через год, или месяц, или неделю? Так как умереть должны все, Бин-Них предсказывает только ту смерть, которая должна прийти вскорости. Возможно, это был вовсе не его саван. Тогда чей?
Работа на маленькой ферме осталась недоделанной. Да и кто же будет о ней думать, когда в дом стучится смерть? Джинни не знала, чем обеспокоены старшие, но и она не работала, видя, что они ничего не делают. Правда, они вымыли и вычистили все в доме, готовясь к похоронам, но сделали это довольно быстро, и теперь работы по дому не хватало на три пары рук. Иэн ничего не замечал. Углубившись в книгу, утонув в море событий, он забыл обо всем, ни на что не обращал внимание. Время тянулось, как черепаха, казалось, жизнь застыла в ожидании смерти, которая должна была освободить их от этого томительного ожидания.
На третью ночь ничто не побеспокоило их. Ничего не произошло. Может быть, уже и не случится? Иэн был довольно бодрым, кашель его не был столь мучительным, только в горле была сухость. Мэри начала думать о своей работе в Нокхэлоу. Конечно, ей не очень хотелось скрести каменный пол или бегать туда-сюда, не имея ни минуты отдыха, но тяжелая нудная работа сейчас для нее была лучше, чем жизнь в безделье и напряженном ожидании. Там, в Нокхэлоу, они часто смеялись на кухне, под лестницей. Она заговорила с матерью о работе.
— Мама, может быть, мне лучше вернуться в Нокхэлоу? Вдруг они не захотят принять меня обратно, если я надолго останусь с вами?
— Пойти на работу, когда твой брат вот-вот умрет? Какой стыд, Мэри! По крайней мере, ты можешь…
— Но, мама, он ведь не умирает. Разве он не чувствует себя лучше? Что ты на это скажешь?
— О, боже милостивый, я не знаю, что тебе ответить. Если бы ты не поклялась, что видела эту прачку…
— Мама, разве смерть обязательно должна прийти к кому-то из нас? Ты уверена, что это будет именно так?
— Да, конечно. К кому же еще? Или поблизости от нас есть какой-то другой дом? Есть ли у нас по соседству еще хоть одна семья? И именно один из нас увидел Предсказывающую Смерть. Разве маловероятно, что, скорее всего, следующим от нас уйдет Иэн, у него ведь такая же болезнь, как и у отца? Не хочешь же ты сказать, что она возьмет кого-то из нас здоровых?
— Нет, тогда уж лучше Иэн. Но, возможно, нам придется долго ждать. Лучше бы она пришла сразу, мама. Я не могу больше так мучиться в ожидании.
Женщина прошла к двери и посмотрела на реку. От сильной жары вода в русле спала. Мать взглянула на дочь, и глаза ее наполнились ужасом от того, что она ей сказала.
— Мэри, у нас остается только одна возможность узнать правду. Придется тебе спросить ее об этом.
— Спросить ее? О, нет! Я не пойду к ней — у нее такой устрашающий вид, мама!
— И все-таки придется это сделать. Если ты не разузнаешь все, может быть очень поздно. Что, если она возьмет кого-то из нас, а Иэн останется? Она может застать нас врасплох, и у нас не останется времени подготовиться. Если это все-таки будет Иэн, мы скажем ему — не думаю, что он испугается встречи со Смертью.
— А если это не Иэн? Предположим, она скажет, что это ты? Как я скажу тебе? А если я? Что я буду делать?
— Чему быть — того не миновать. Лучше сразу все узнать. Послушай, я научу тебя, как это сделать. Тебе придется последить за собой. Надо подкрасться к ней тихо, очень тихо. Так, чтобы она тебя не слышала и не видела, а потом ухватиться покрепче, чтобы она не вырвалась.
— А ты можешь это сделать вместо меня? Если бы ты знала, как пристально она на меня уставилась. Я боюсь встретить ее взгляд еще раз.
— Лучше пойти тебе, ты ее видела последней. Если ты покрепче ее ухватишь, она не причинит тебе никакого вреда. Это как крапива.
— А ты со мной можешь пойти?
— Кто-то должен присмотреть за Иэном. Иди, Мэри, будь умницей. Когда стемнеет, тогда она и приходит…
В мире осталось только три цвета: пурпур мягких ночных облаков, сероватость вереска и чернота реки, извивающейся длинной линией. Она долго ждала дома, сидя у окна, пока уснут и Джинни и Иэн. Теперь на улице было темно, в небе исчезли последние отсветы вечерней зари, и контуры деревьев за рекой на фоне темного ночного неба напоминали полуразрушенные пирамидальные крыши стоящих вдали сказочных замков.
Задолго до того, как она дошла до реки, она услышала плеск. Прачка полоскала саван.
Ни одна птица не вспорхнула с дерева, ни одна летучая мышь не взмахнула, трепеща, крыльями, ни один степной зверек не прошуршал в кустарнике. Плеск воды был слышен все явственнее. Страх сжимал ей горло, лицо похолодело, и все-таки она не могла повернуть назад. Она стояла и, уставившись, смотрела на реку, стараясь увидеть глазами то, что не один раз представляла в уме.
Странная, необычная прачка была на прежнем месте. Все в том же белом одеянии, она была, скорее, существом жалким, нежели устрашающим. Склоненная над белым саваном, громко шлепающим по воде и камням, она напоминала усталую, печальную женщину, стирающую свое белье в темноте. Было что-то трогательное в том, как она поднимала полотно и вода стекала вниз прозрачными шумными струйками. Проводила ли она здесь каждую ночь или перебиралась на болото или озеро, где ее ожидала жуткая работа?
Мэри была готова заплакать от сострадания, но страх, который она одновременно испытывала, и желание узнать всю правду заставили ее быть крайне осторожной. Она разулась и босиком стала тихонько пробираться к берегу. Предсказывающая Смерть продолжала свое занятие, слыша только шум течения и плеск воды. Девочка часто и тяжело дышала, крепко сжав губы, чтобы затаить порывистое дыхание. Стук сердца отдавался в груди, как приглушенный звук колокола. Она вытянула вперед руку, чтобы поскорее коснуться края белых одежд, как вдруг камешек выкатился из-под ноги. Она споткнулась, хватая руками воздух. Вин-Них обернулась с искривленным от негодования лицом. Скрученное мокрое полотно мелькнуло в воздухе. Громкий удар, резкая боль, еще удар мокрым бельем по босым ногам — и Мэри оказалась лежащей на камнях. Вокруг никого — только темная река плескалась о берег — и ни единой души рядом.
Когда Предсказывающая Смерть исчезла из виду, ночные звуки вновь обрели свою жизнь. Воздух наполнился трепетанием крыльев птиц и летучих мышей, послышался шелест листвы на легком ветерке, перекликаясь через реку, совы приветствовали друг друга в ночи.
Девочка пришла в себя, почувствовала падающие капли дождя. Она закрыла голову руками, приподняла плечи, съежившись от ночной прохлады, собралась с силами и попробовала подняться на ноги. Это ей не удалось. Казалось, ноги были налиты свинцом. Острая боль прошла, и все, что она чувствовала сейчас, — это тупое оцепенение. Мысль о том, что боль может вернуться, заставила ее сердце сжиматься. Подгоняемая страхом, она напрягла все силы, заставила себя подняться. Ноги ее оставались безжизненными и не давали возможности уйти от реки, как будто место ее отныне было здесь, на берегу. Дождь все усиливался, и капли падали в воду с легким шуршанием. Черная мгла опустилась на землю. Девочка приподнялась на руки и поползла медленно-медленно, но дождь, казалось, прибивал ее к земле, забирая остаток сил и не давая двигаться. В отчаянии она не выдержала и позвала на помощь мать.
Из-за края небольшого холма послышались быстрые шаги. Мать оставила Иэна, бросила все и кинулась, услышав крик дочери.
— Вставай, Мэри, девочка моя! — непрестанно умоляла она. — Постарайся, попробуй, ради Бога!
Но Мэри не могла подняться. Мать взяла ее на руки. Любовь к девочке придавала ей силы, и она крепко прижимала ее к себе, всю дорогу причитая от горя. И только дома, на кухне, закрывшись наглухо и оставив за дверью и заросшую вереском степь, и реку, они подумали, что еще большее горе ожидает их впереди. Но они не знали, за кем Она придет.
Перевод с англ. А. Сыровой

Говард Лавкрафт
СКЛЕП

В связи с событиями, которые привели меня к пребыванию в приюте для душевнобольных, я сознаю, что мое положение, естественно, ставит под сомнение достоверность моего повествования. К сожалению, неоспоримый факт, что большая часть человечества слишком ограничена в своей умственной способности к проницательности и предвидению. Таким людям трудно бывает понять тех немногих психически утонченных индивидуумов, чье ощущение и восприятие отдельных феноменов окружающего мира лежит за пределами общепринятого. Люди более широкого интеллекта знают, что нет четкой границы между реальным, действительным и нереальным, воображением, что все явления воспринимаются каждым из нас по-своему, благодаря тонким индивидуальным физическим и психическим различиям. Именно они и делают все наши ощущения столь непохожими. Тем не менее прозаический материализм большинства изобличает чуть ли не как сумасшествие явления иррациональные, явно не укладывающиеся в прокрустово ложе обыденной логики и смысла.
Меня зовут Джервас Дадли. С раннего детства я рос отрешенным и далеким от жизни человеком, своеобразным мечтателем. Мое материальное благосостояние позволяло мне освободиться от забот о хлебе насущном. По складу своего характера, весьма импульсивного, я не был расположен к наукам или развлечениям в обществе друзей и знакомых. Я предпочитал пребывать в царстве грез и мечтаний, в стороне от событий реального мира.
Мои юные годы прошли в чтении древних и малоизвестных книг и манускриптов, в прогулках по полям и лесам неподалеку от дома, который мне достался по наследству. Не думаю, что то, что я узнал из тех книг или увидел в лесах и полях, было именно тем, что знали или видели другие. Но не следует много говорить об этом, так как подробные рассуждения на данную тему только дадут лишнюю пищу для безжалостного злословия по поводу моего рассудка, которое мне и раньше приходилось слышать в осторожном шепоте окружающих за спиной. Мне вполне достаточно рассказать о событиях, не углубляясь в сам механизм причинно-следственных связей.
Как уже было сказано, я пребывал в царстве грез и фантазий, в стороне от реального материального мира, но я не утверждал, что находился в нем в одиночестве. Абсолютного одиночества в природе не существует. Особенно оно не характерно для человека: ведь из-за недостатка или отсутствия дружеских взаимоотношений с окружающими его неодолимо влечет к общению с другим миром — с тем, что уже более не является или вовсе не является живым.
Рядом с моим домом есть уединенная, поросшая леском ложбина, углубившись в которую в полумраке я проводил почти все свое время в чтении, размышлениях и мечтах. По этим склонам, поросшим мхом, я делал первые шаги в младенчестве, рядом с сучковатыми, причудливо изогнутыми дубами моих мальчишеских фантазий. Хорошо ли я узнал лесных нимф? Часто ли наблюдал их фантастические и самозабвенные хороводы при едва пробивающемся свете ущербной луны? — но не об этом я должен говорить сейчас. Я только расскажу вам об одиночестве склепа, укрывшегося в сумраке чащи, о заброшенном склепе семейства Хайдов, старинной и благородной фамилии, чей последний прямой потомок нашел свое упокоение в его темных глубинах за несколько десятилетий до моего появления на свет.
Фамильный склеп, о котором идет речь, был построен из старого гранита, с течением времени изменившего свой цвет от частых дождей и туманов. Это врытое в склон холма сооружение можно увидеть, только оказавшись у самого входа. Дверь, массивная и непривлекательная гранитная плита, висит на проржавевших железных петлях и странным образом неплотно прикрыта с помощью железных цепей и висячих замков, соответствуя отвратительной моде полувековой давности. Обиталище же нескольких поколений, которое когда-то венчало собой склон, поддерживающий его, — дом не так давно стал жертвой пожара, возникшего здесь от удара молнии. О той, разразившейся посреди ночи грозе, которая разрушила это мрачное строение, старожилы в округе говорили иногда тихими тревожными голосами, намекая на то, что они называли «божьим гневом». Сами эти слова и то, с какой интонацией они произносились, усилили во мне с годами и без того всегда сильное почтение к развалинам, могилам и склепам, приютившимся в густых темных лесах. В том сильном пожаре погиб только один человек.
Когда умер последний из рода Хайдов, он был похоронен в этом тихом тенистом месте. Его бренные останки были перевезены сюда из далекой страны, где семья нашла приют после того, как сгорел особняк. Не осталось никого, кто мог бы положить цветы у гранитного портала. Немногие осмелятся храбро вступить в этот гнетущий полумрак, окружающий склеп. Полумрак, в котором, казалось, бродят призраки.
Никогда не забуду тот день, когда впервые наткнулся на этот спрятавшийся от глаз дом, приютивший смерть. Это было в середине лета, когда алхимия природы превращает пейзаж в один живой и почти однородный зеленый массив; когда чувствуешь упоение от шелестящей вокруг тебя влажной после дождя листвы и не поддающейся тонкому распознаванию запахов земли и растительности. В таком живописном окружении мысли отказываются работать; время и пространство становятся незначащими и нереальными категориями, а эхо забытого доисторического прошлого настойчиво отдается в очарованном сознании.
Весь день я бродил по ложбине, в таинственной роще, думая о том, что не нуждается в обсуждении. И был-то я ребенком десяти лет от роду. Я видел и слышал такие чудеса, от которых далека толпа, и странным образом в некотором смысле чувствовал себя совсем взрослым. Когда, с трудом пробираясь сквозь заросли густого вереска, я неожиданно наткнулся на вход в склеп, я не имел ни малейшего понятия о том, что обнаружил. Глыбы темного гранита, дверь, таинственно приоткрытая, погребальные надписи над входом не вызывали у меня мрачных или неприятных ассоциаций. О могилах и склепах мне было известно, и я много о них думал, но в силу особого свойства характера меня всегда старались оградить от посещений кладбищ. Странный каменный домик на поросшем лесом склоне был для меня не более, чем источником любопытства; и его холодное, сырое пространство внутри, в которое я тщетно пытался проникнуть сквозь соблазнительно приоткрытую дверь, не содержало для меня даже намека на смерть или тление. Но в то мгновение зародилось безрассудное желание, которое и привело меня в ад этого заточения, где я нахожусь сейчас. Побуждаемый голосом, который, должно быть, исходил из страшных глубин леса, я решился войти в этот манящий мрак, несмотря на массивные цепи, загораживающие проход. В угасающем свете дня я с грохотом сотрясал металлические детали на каменной двери, намереваясь открыть ее пошире, и пытался протиснуть свое худощавое тело сквозь уже имеющуюся щель. Но успех не сопутствовал моим усилиям. Испытывая поначалу обычный интерес, я становился просто одержимым, и когда в сгущающихся сумерках вернулся домой, то поклялся богом, что любой ценой однажды взломаю дверь, ведущую в эти темные глубины, которые, казалось, звали меня. Врач с седеющей бородой, который каждый день навещал меня в моей палате, однажды сказал кому-то из посегителей, что это решение и положило начало моему заболеванию, — мономании; но я оставляю окончательное решение за моими читателями, когда они обо всем узнают.
Месяцы, последовавшие за моим открытием, прошли в тщетных попытках взломать сложный замок, висящий на двери, в крайне осторожных расспросах относительно возникновения здесь этого сооружения. Имея от природы восприимчивый ум и слух, я многое узнал; хотя врожденная скрытность заставляла меня никого не посвящать в свои дела и планы. Возможно, стоит упомянуть о том, что я вовсе не был удивлен или напуган, узнав о предназначении склепа. Мои довольно оригинальные размышления о жизни и смерти смутным образом ассоциировали холодную плоть с живым телом, и мне казалось, что та большая, несчастная семья из сгоревшего особняка каким-то образом переселена внутрь каменного пространства, которое я горел желанием исследовать. Случайно услышанные истории о таинственных обрядах и нечестивых пирушек в старинном особняке вызвали у меня новый глубокий интерес к этому месту, возле двери которого я бывало сидел по нескольку часов подряд каждый день. Однажды я бросил свечу в приоткрытую дверь, но не смог увидеть ничего, кроме нескольких серых каменных ступеней, ведущих а подземелье. Запах, исходящий изнутри, был омерзительным, он отталкивал, но одновременно и околдовывал меня. Мне казалось, что я знал его прежде, в далеком-далеком прошлом, скрытом за пределами моей Памяти.
Через год после этого случая, на чердаке своего дома, заваленного книгами, я наткнулся на изъеденный червями перевод книги Плутарха «Жизнеописания». Прочитав главу о Тезее, я находился под сильным впечатлением того места, где рассказывалось об огромном камне, под которым будущий герой-отрок должен найти знамение судьбы, едва он станет достаточно взрослым, чтобы сдвинуть тот громадный камень. Эта легенда рассеяла мое острейшее нетерпение попасть в склеп, так как я наконец-то понял, что время мое еще не наступило. Позже, сказал я себе, когда я стану взрослым и наберусь сил и ума, то без труда смогу открыть эту увитую массивными цепями дверь; а до тех пор мне лучше подчиниться тому, что называется предначертанием Судьбы.
Вследствие этого мои бдения у пронизывающего сырого входа стали менее настойчивыми и регулярными, и я проводил много времени в других, не менее необычных занятиях. Иногда по ночам я тихонько поднимался с постели и украдкой выбирался из дома, чтобы побродить по кладбищам и другим местам захоронения, от посещения которых меня так старательно удерживали родители. Я не могу сказать вам, чем я там занимался, так как сейчас и сам уже не уверен в происходящем. Но зато я помню, как на следующий день после подобных ночных вылазок я, бывало часто, удивлял своих домочадцев тем, что мог говорить на темы, почти забытые для многих поколений. Именно после одной из таких ночей я шокировал свою семью познаниями о захоронении богатого и знаменитого сквайра Брюстера, создателя истории этих мест, который был погребен в 1711 году и чей надгробный камень синевато-серого цвета с высеченным на нем изображением двух скрещенных берцовых костей и черепом медленно превращался в прах. В своем детском воображении я тут же представил себе не толькь то, как владелец похоронного бюро Гудман Симпсон украл у покойного башмаки с серебряными пряжками, шелковые длинные носки и атласные короткие штаны в обтяжку, но также и то, как сам сквайр, еще не окончательно умерший, дважды перевернулся в гробу под могильным холмом, на следующий день после погребения.
Мысль забраться в склеп никогда не давала мне покоя, она была усилена неожиданными генеалогическими открытиями, что мое происхождение по материнской линии имело хоть незначительную, но связь с якобы вымершей семьей Хайдов. Последний в роду по линии отца, я был, возможно, последний и в этой старой и таинственной родословной. У меня появились ощущения, что склеп был «моим», и я с огромным нетерпением ждал того момента, когда смогу открыть тяжелую каменную дверь и спуститься по скользким каменным ступеням в темноту подземелья. Теперь у меня появилась привычка стоять у приоткрытой двери в склеп и очень внимательно прислушиваться. Для этого странного ночного занятия я выбирал любимое мое время полуночной тишины. К той поре, когда я стал совершеннолетним, я уже протоптал небольшую прогалину в чаще у входа в склеп. Растительность, окружающая его, — замыкала полукружием образовавшееся пространство, словно ограда. А ветви деревьев нависали сверху, образуя что-то вроде крыши. Эта обитель была моим храмом, а закрытая дверь — алтарем, и здесь я, бывало, лежал, вытянувшись на покрытой мхом земле. Я думал странные думы и жил в мире странных грез.
Ночь, когда я сделал свое первое открытие, была душной. Должно быть, я забылся от усталости, так как отчетливо помню, что в момент пробуждения услышал голоса. Об их окраске, интонациях и произношении я не решаюсь говорить; об их характерных особенностях, о тембрах я не стану говорить; но я могу сказать о колоссальных различиях в словарном составе, выговоре и манере произносить слова. Все многообразие оттенков — от новоанглийско-дантичной риторики пятидесятилетней давности, — казалось, было представлено в этом неясном для слуха разговоре. Хотя на этот удивительный факт я обратил внимание позже. А в тот момент мое внимание было отвлечено от происходящего другим: событием настолько мимолетным, что я не мог бы поклясться, что оно имело место в действительности. Едва ли было моим воображением то, что, когда я проснулся, тут же погас свет внутри осевшего в землю и погруженного во мрак склепа. Не думаю, что я был изумлен или охвачен паникой, но я знал, что очень сильно изменился той ночью. Вернувшись домой, я сразу направился на чердак, к полусгнившему комоду, где нашел ключ, с помощью которого на следующий же день без труда преодолел крепость, столь долго находившуюся в осаде.
На это заброшенное и всеми забытое место лился поток мягкого послеполуденного света, когда я впервые вошел под своды склепа. Я стоял, словно зачарованный, сердце мое прыгало от ликования, которое невозможно описать. Как только я закрыл за собой дверь и спустился по влажным от сырости ступенькам при свете моей единственной свечи, мне все показалось здесь знакомым; и хотя свеча потрескивала, разнося вокруг удушающий запах, я странным образом чувствовал себя в застоявшемся, затхлом воздухе склепа как дома. Оглядевшись, я увидел множество мраморных плит со стоящими на них гробами. Вернее сказать, их останками. Некоторые из них были плотно закрыты и невредимы, другие почти полностью разрушились, превратившись в груду белесоватой пыли. Нетронутыми временем остались только серебряные ручки да таблички с надписями. На одной из них я прочитал имя сэра Джеффри Хайда, который приехал из Сассекса в 1640 году и умер спустя несколько лет. В глаза бросалось углубление, где стоял очень хорошо сохранившийся пустой гроб со сверкающей табличкой, на которой было выгравировано имя, вызвавшее у меня и улыбку, и содрогание одновременно. Какое-то странное чувство заставило меня взобраться на широкую плиту, загасить свечу и окунуться в холодное пространство ожидающего своего хозяина дубового ложа.
В серой предрассветной мгле я, спотыкаясь, вышел из-под сводов склепа и запер за собой цепь на двери. Я уже не был более молодым человеком, хотя всего двадцать одна зима студила мои кости. Рано поднимающиеся жители деревни, которые видели, как я шел домой, с удивлением смотрели на меня. Они изумлялись при виде, как им казалось, следов веселой пирушки на лице человека, который, по их мнению, был воздержан и вел уединенный образ жизни. Перед своими родителями я предстал только после того, как выспался и сон взбодрил меня.
С той поры я появлялся в склепе каждую ночь — видел, слышал и делал то, о чем недолжен вспоминать. Первое, что претерпело изменения, так это речь, всегда восприимчивая к разнообразным влияниям; и вскоре окружающие обратили внимание, что в моей манере выражаться появились архаические обороты. Позднее в моем поведении выявились самоуверенность и безрассудство, пока я невольно не приобрел манеры светского человека, несмотря на свое пожизненное затворничество.
Будучи прежде молчаливым, я стал разговорчивым, употребляя в своей речи легкую иронию Честерфилда или безбожный цинизм Рочестера. Я проявлял особую эрудицию, совершенно отличающуюся от причудливых монашеских учений, над которыми я так сосредоточенно размышлял в юности; экспромтом писал легкие эпиграммы с намеками на Гея, Приора и бойкое остроумие Августина. Однажды утром за завтраком я чуть не накликал на себя беду, явно с пафосом продекламировав похотливый Вакхический поток слов поэта восемнадцатого века, продекламировал с игривостью георгианской эпохи, едва ли уместной на страницах этой книги.
Примерно в это время я почувствовал страх перед огнем и грозой. Прежде спокойный и равнодушный к подобным вещам, теперь я испытывал невыразимый ужас и убегал в самые удаленные уголки дома, когда небеса с грохотом извергали электрические разряды. Моим излюбленным пристанищем стал разрушенный подвал сгоревшего особняка. В своем воображении я начал представлять себе, как он выглядел первоначально. Однажды я случайно напугал деревенского жителя, уверенно приведя его в неглубокий подвал, о существовании которого я, как оказалось, знал, несмотря на тот факт, что он был скрыт от глаз и забыт многими поколениями.
В конце концов наступил момент, приближения которого я ожидал со страхом. Мои родители, встревоженные переменами в поведении и внешним видом своего единственного сына и имея самые добрые намерения, начали прилагать все усилия, чтобы проследить за каждым моим движением. Это грозило разразиться бедой. Я никому не рассказывал о своих посещениях склепа, ревностно охраняя свою тайну с самого детства. А теперь я вынужден был применять тщательную предосторожность, устроив хитроумный лабиринт в поросшей лесом ложбине, чтобы сбить с толку возможного преследователя. Ключ от склепа я повесил на веревочку, которую носил на шее. Знал об этом я один. Я никогда не выносил из стен склепа ничего того, что привлекло мое внимание, пока я там находился.
Однажды утром, когда я выходил из склепа после очередного ночного бдения и закреплял цепь у входа не слишком твердой рукой, я увидел в примыкающей чаще перекошенное от страха лицо наблюдателя. Сомнений не было — час расправы приближается, так как приют мой обнаружен и объект моих ночных прогулок открыт. Человек не заговорил со мной, и я поспешил домой в надежде послушать, что он может сообщить моему измученному заботами отцу. Все ли мои временные пристанища, кроме того, что скрыто за скрепленной цепью дверью, известны окружающим? Представьте себе мое восхищенное изумление, когда я услышал, как следивший за мной осторожным шепотом сообщил моему родителю, будто я провел ночь «возле склепа»; а в это время мои застланные дымкой от бессонницы глаза уставились на щель неплотно прикрытой двери, запертой на висячий замок! Каким же чудом был введен в заблуждение наблюдатель? Теперь я был убежден, что какая-то сверхъестественная сила защищала меня. Набравшись храбрости от этого посланного свыше спасения, я вновь возобновил открытые хождения в склеп. Я был уверен в том, что никто не увидит, как я туда проникаю. Целую неделю я от души наслаждался своим частым пребыванием в веселой компании мертвецов, которое я не должен и не хочу здесь описывать, как вдруг случилось нечто, что привело меня в это ненавистное обиталище грусти и однообразия.
Мне не следовало высовывать носа из дома в ту ночь, так как в воздухе висело предчувствие грозы, нет-нет да и погромыхивал гром в свинцовых тучах, и дьявольское свечение поднималось от зловонного болота на дне ложбины. Зов мертвых тоже был иным. Вместо склепа он прозвучал из обугленных останков подвала на гребне холма, откуда могущественный демон поманил меня своей невидимой рукой, когда я появился из рощи и оказался на безлесой равнине перед развалинами. При неясном свете луны я увидел то, что всегда незримо присутствовало во мне.
Особняк, исчезнувший с лица земли столетие назад, вновь вознесся во всем своем великолепии перед моим восторженным взором. Во всех его окнах ярко горел свет многочисленных люстр. По длинной подъездной аллее к особняку двигались экипажи мелкопоместных дворян, обгоняя толпы гостей в изысканных и напудренных париках, шедших пешком из близлежащих особняков. Я смешался с этой толпой, хотя и понимал, что скорее отношусь к хозяевам, нежели к гостям. Внутри огромного зала звучала музыка, слышался смех, в бокалах с вином играли яркие блики от тысяч свечей. Некоторые лица были мне знакомы, я узнал их; мне следовало бы знать их лучше, если бы смерть не поглотила их и печать разложения не коснулась их останков. Во всей этой бурно веселящейся беззаботной толпе я чувствовал себя всеми покинутым. Богохульство, которому мог позавидовать сам Гей, потоком лилось с моих губ, и в остроумных саркастических выпадах я не принимал во внимание ни законов Бога, ни законов природы.
Неожиданно громовые раскаты раздались со всей силой над неумолчным гомоном этого сборища. Они раскололи крышу и заставили примолкнуть от страха даже самых смелых в этой разгулявшейся компаний. Красные языки пламени и обжигающие потоки раскаленного воздуха поглотили дом. Все участники этого странного шабаша, охваченные паникой от свалившегося на их головы несчастья, которое, казалось, переступало все границы неуправляемой природы, бегством спасались в ночи. Я остался один, прикованный к своему месту унизительным страхом, который прежде никогда не испытывал. Но тут душа моя вновь наполнилась ужасом. Сгоревшее живьем дотла, тело мое развеялось по ветру на все четыре стороны. Ведь я никогда не смогу найти свое места в склепе Хайдов! Разве тот гроб был приготовлен не для меня? Разве я не имею права упокоить свои останки среди потомков сэра Джеффри Хайда? Да! Но я потребую от смерти своего, даже несмотря на то, что душа моя ищет спасения через века, чтобы вновь обрести материальную оболочку и найти свое пристанище на пустой мраморной плите в алькове гробницы, Джервас Хайд должен это сделать, он никогда не разделит печальную судьбу Палинора!
Когда видение горящего дома исчезло, я оказался в руках двух мужчин, один из которых шпионил за мной у склепа. Я кричал и отбивался как сумасшедший. Дождь хлынул с небес потоком, в южной стороне неба были видны вспышки молнии, а раскаты грома раздавались над нашими головами. Мой отец с лицом, изборожденным морщинами печали, стоял рядом, когда я выкрикивал свои требования быть похороненным в склепе Хайдов. Он то и дело повторял тем, кто держал меня, чтобы они обращались со мной как можно мягче. Почерневший круг на полу разрушенного подвала свидетельствовал о сильном ударе электрического разряда, и на этом месте толкалась группа любопытных деревенских жителей с фонарями в руках, в поисках маленькой шкатулки старинной работы, которую высветила молния.
Поняв тщетность своих попыток вырваться, я перестал изворачиваться и стал наблюдать за теми, кто искал драгоценности. Мне было разрешено принять участие в этих поисках. Шкатулка, запор которой был вскрыт ударом молнии, извлекшей ее из земли, содержала много бумаг и ценных предметов. Но взгляд мой был привлечен только одним. Это была фарфоровая миниатюра молодого, человека в аккуратно завитом парике с косичкой. Я сумел разобрать инициалы «Дж. Х.». Его лицо было таким, будто это я смотрелся в зеркало.
На следующий день меня привели в эту комнату с зарешеченными окнами. Но я узнавал обо всем, что меня интересовало, с помощью пожилого, бесхитростного слуги, который питал ко мне симпатию за мою молодость и который, как и я, любил кладбище. То, что я осмелился рассказать о чувствах, испытанных мною в склепе, вызывало у других только жалостливые улыбки. Мой отец, который часто навещал меня, заявляет, что я не мог проникнуть сквозь дверь с цепями, и клянется, что к ржавому замку не прикасались вот уже лет пятьдесят. Он пришел к такому выводу, проверив его. Он даже говорит, будто вся деревня знала о моих прогулках к склепу и наблюдала за мной, когда я спал около него с полуприкрытыми глазами, устремленными на щель, ведущую внутрь. Против этих утверждений у меня нет никаких вещественных доказательств, так как ключ от висячего замка был утерян той ужасной ночью, когда меня схватили. Отец также отвергает все мои необычные познания о прошлом, вынесенные мною из встреч с покойниками, и считает их плодом моих всепоглощающих чтений старинных томов фамильной библиотеки. Если бы не мой старый слуга Хирам, я был бы полностью убежден в своем сумасшествии.
Но Хирам, преданный мне до последнего, верит мне и побудил меня сделать достоянием людей по крайней мере часть моей истории. Неделю назад он открыл замок, снял цепи с двери склепа и спустился с лампой в его темное чрево. На мраморной плите в алькове он нашел старый, но пустой гроб. На его потускневшей от времени табличке было только одно слово: «Джервас». В том гробу и в том склепе и обещали похоронить меня.
Перевод с англ. А. Сыровой
ПРАЗДНЕСТВО
«Efficiut Daemones, ut quae поп sunt, sic lumen quasi sint, conspicienda bominibus exhibeant».
Я находился вдалеке от родного дома, у дальних берегов моря, что окончательно околдовало меня. В сумерках я слышал, как его волны накатываются, разбиваясь о камни, и знал, что морская стихия разлилась как раз над холмом, где гибкие ивовые ветви густо переплетались на фоне проясняющегося неба и первых звезд нарождающейся ночи. И так как предки мои призвали меня в этот старинный город, я продолжил свой путь по мягкому, только что выпавшему снегу вдоль дороги, одиноко взмывающей вверх, туда, где Лльдебаран мерцал огнями среди деревьев. Навстречу древнему городу, который я никогда не видел, но о котором столько мечтал.
Был Yuletide,[81] который люди называют Рождеством, хотя в душе знают, что он древнее, чем Вифлеем и Вавилон, древнее, чем Мамфис и все человечество. Был Yuletide, и наконец-то я пришел в этот старый приморский город, где жили мои предки и отмечали этот праздник еще в те далекие времена, когда он был запрещен. Они наставляли своих сыновей отмечать его раз в столетие, чтобы не стерлись в памяти его главные таинства и обряды. Предки мои были старыми. Они были старыми уже тогда, когда обосновались на этой земле триста лет назад. И были здесь они чужими, эти угрюмые, скрытные люди из южных садов орхидей, и говорили на своем языке, прежде чем выучили язык голубоглазых рыбаков. Теперь судьба разбросала их по свету, и единственное, что объединяло их, так это ритуалы тайн обрядов, никому кроме них неведомых. Я был единственным, кто вернулся той ночью в древний рыбацкий город согласно легенде, которую помнят только бедняки да люди одинокие.
И тут за гребнем холма я увидел Кингспорт, простиравшийся невдалеке в морозных сумерках. Заснеженный Кингспорт со старинными флюгерами и шпилями, цилиндрами каменных труб, причалами и небольшими мостами, ивами и кладбищами; бесконечными лабиринтами крутых, узких, извивающихся улочек и головокружительной высоты центральным холмом, чью вершину венчала церковь, которая оказалась неподвластна разрушительной силе времени; непрерывным лабиринтом домов колониального стиля, то сбившихся в кучу, то разбросанных там и сям, словно оставленные в беспорядке детские кубики. Глубокая старина коснулась своими седыми крылами убеленных зимой фронтонов и двускатных крыш, веерообразные окна над дверями — и небольшие оконца в домах один за другим начинали мерцать в холодных сумерках, стремясь донести свет до Ориона и старых, как мир, звезд. Морские волны с гневным шумом разбивались о причал. Древнее, не раскрывающее своих тайн море, из которого в незапамятные времена ступили на эту землю люди.
Рядом с дорогой, на самом высоком месте, лишенном растительности и продуваемом всеми ветрами, я увидел место захоронения, где черные надгробные камни омерзительно торчали из-под снега, будто обломанные ногти гигантского трупа. Занесенная снегом дорога была совершенно пустынна. Иногда мне казалось, будто я слышу издалека доносящееся поскрипывание, напоминающее скрип виселицы на ветру. В 1692 году за колдовство повесили четырех моих родственников, но я не знал, где именно.
Когда дорога, петляя, стала спускаться по склону в направлении моря, я стал прислушиваться к веселым вечерним деревенским звукам, но не слышал их. Потом я вспомнил о времени года и понял, что у этих старых пуритан могут быть совсем иные рождественские традиции, наполненные тихими молитвами у семейного очага. А поняв все это, перестал вслушиваться или искать случайных прохожих. Я продолжал свой путь мимо тихих освещенных домов и мрачных каменных стен туда, где покачивались на пронизывающем соленом ветру вывески старинных магазинов и таверн, где причудливые дверные кольца тускло поблескивали на фоне немощеных улочек, отражая свет небольших, зашторенных окошек.
Я знакомился с картами этого города и знал, где найти дом предков. Меня заверили, что я буду узнан и тепло встречен, так как деревенские легенды живут долго. Поэтому я поспешил через Бэк-Стрит в Секл-Корт и по свежему снегу, выпавшему на единственный в городе мощеный тротуар, — туда, где Грин-Лейн ведет за Маркет-Хаус. Старые карты не солгали, и я не испытал затруднений, хотя не везде они были точны. Например, когда указывали, что в Аркхэме есть трамвайная линия, — то проводов я так и не увидел. А рельсы в любом случае мог укрыть снег. Я был рад, что иду пешком, так как окутанное белоснежным покрывалом селение выглядело очень живописно с высоты холма. Я горел нетерпением постучать в дом своих предков, седьмой дом слева на Грин-Лейн со старинной островерхой крышей и выступающим вторым этажом, построенный до 1650 года.
Дом был освещен изнутри, когда я приблизился к нему. Поток света, льющийся из ромбовидных окон, позволил мне рассмотреть, что дом почти не изменил своего первоначального вида. Верхняя его часть нависала над узкой, зарастающей травой улочкой, чуть не сталкиваясь с выступающим верхним этажом дома напротив, так что я оказался словно в туннеле с низкими каменными ступеньками крыльца, очищенными от снега. Пешеходных дорожек не было, но во многих домах двери были подняты высоко над землей. К ним вели лестницы из двух пролетов с железными поручнями. Странно все это выглядело, но в Новой Англии для меня все было непривычно. Ведь я никогда не бывал здесь прежде. И хотя вид городка был приятен моему глазу, я получил бы большее удовольствие, если бы увидел следы на снегу, прохожих на улице или хотя бы несколько незашторенных окон.
Когда я постучал в дверь старинным железным кольцом, то немного испугался. Какая-то тревога вселилась в мое сердце. Возможно, из-за того, что мне странно было ощущать свою принадлежность к этому дому. Или холод и унылость вечера внесли в это свою лепту? Или непривычная для меня тишина в этом старом городе с любопытными традициями была тому виной? А когда на мой стук ответили, я совсем перепугался, потому что не слышал никаких шагов перед тем, как со скрипом отворилась дверь. Но страх мой был недолгим, так как у человека, стоящего в дверном проеме в халате и домашних тапочках, было приветливое, вежливое лицо, которое подействовало на меня успокаивающе. И хотя он дал мне понять, что не говорит, он начертал причудливое древнее приветствие острой палочкой на вощеной дощечке, которую держал в руках.
Он пригласил меня войти в низкую, освещенную свечой комнатку с темной массивной мебелью семнадцатого века. Прошлое было живо здесь со всеми его атрибутами: похожий на пещеру очаг, прялка, над которой склонилась старуха в просторном платье и головном уборе. Она сидела спиной ко мне и молча пряла, несмотря на праздничный день. В комнате пахло сыростью, и я удивился, что очаг не был разожжен. Деревянная скамья с высокой спинкой была обращена к окнам, на которых висели занавески. По-моему, на скамейке кто-то сидел, хотя я не был уверен в этом. Мне все здесь нравилось, и опять страх накатывался на меня, как прежде. Страх этот становился все сильнее. И причиной тому служило то, что поначалу, казалось, действовало на меня успокаивающе, так как чем больше я всматривался в приветливое лицо старика, тем больше эта приветливость внушала мне неприятное чувство. Глаза его были неподвижны, а кожа слишком напоминала воск. В конце концов я пришел к мысли, что это вовсе не лицо, а дьявольски хитрая маска. Но дряблые руки продолжали радушно выводить слова на дощечке, прося подождать, пока меня не проводят до места празднества.
Указав на стул около стола со стопкой книг, старик вышел из комнаты. Опустившись на стул, я увидел, что книги были древними. Среди них устаревшая «Чудеса науки» Морристера, ужасная «Saducismus Triumphatus» Джорзсфа Гленвила, изданная в 1681 году, шокирующая «Daemonolatreia» Румигиуса, напечатанная в Лионе в 1595 году, и совсем никуда не годная, нигде не упоминаемая «Necronomicon» сумасшедшего араба Абдула Алхазреда в запрещенном переводе на латинский Олауса Вормиуса — книга, которую мне не довелось видеть ранее, но о которой я слышал страшные вещи, произносимые шепотом. Никто не разговаривал со мной, и я мог слышать поскрипывание вывесок на улице на ветру, жужжание прялки, за которой старуха в головном уборе продолжала свою бесконечную работу. И сама комната, и книги, и люди в ней были отвратительны и вызывали во мне беспричинную тревогу, но так как древняя традиция моих предков призвала меня в это место, я решил — будь что будет. Я попытался читать и вскоре, трепеща от волнения, почувствовал, что увлекся этой проклятой «Necronomicon»; суть ее была настолько ужасной, что не укладывалась в рамки здравого смысла и понимания, она вызвала у меня откровенную неприязнь.
И тут мне показалось, что я услышал, как закрылось одно из окон, к которому была повернута деревянная скамья, будто окно украдкой открывали. Казалось, этот звук следует, за жужжанием, которое уже никак не относилось к старухиной работе. Хотя это длилось совсем недолго, и старуха усердно пряла, и били старинные часы. Потом я потерял ощущение времени и того, что на скамейке кто-то сидел. Я внимательно читал, содрогаясь от прочитанного, когда вернулся старик, обутый и одетый в просторную накидку, и опустился на ту самую скамью, так что я уже не мог его видеть. Ожидание и в самом деле было очень нервозным, и богохульная книга, которую я держал в руках, лишь усиливала это ощущение. Однако, когда пробило одиннадцать, старик поднялся, бесшумно подошел к массивному резному комоду и вынул из ящика два плаща с капюшонами, один из которых надел на себя, а другим укутал старуху, оставившую наконец-то свою прялку. Потом они оба направились к двери: старуха — запинаясь и еле передвигая ноги; а старик, взяв у меня из рук книгу, которую я читал, поманил меня рукой и натянул капюшон на свое лицо.
Мы вышли на безлунные, извилисто переплетенные улочки этого невероятно древнего города. Вышли, когда огни в зашторенных окнах гасли один за другим, и созвездие Пса искоса поглядывало на толпу одетых в капюшоны и плащи фигур. Фигуры эти в ночной тишине возникали из дверных проемов и вливались в причудливую процессию, потянувшуюся вверх по улице мимо поскрипывающих на ветру вывесок, допотопных фронтонов, крытых соломой крыш и ромбовидных оконец. Они бесшумно плыли мимо вытянувшихся неровным рядом разрушающихся домов, открытых дворов и церковных кладбищ, где качающиеся фонари бросили косые таинственные тени.
В этом безмолвии я следовал за своими немыми спутниками, теснимый локтями, казавшимися противоестественно мягкими, сдавливаемый грудными клетками и животами, которые казались необыкновенно мясистыми. Но я не видел ни одного лица, не услышал ни одного слова. Выше, выше, выше ползли внушающие суеверный страх колонны, и я увидел, что все они устремились к одной точке — в центре города, где на высоком холме взгромоздилась огромная белая церковь. Я видел ее с гребня дороги, когда смотрел на Кингспорт в нарождающихся сумерках. Это зрелище заставило меня содрогнуться, ибо казалось, будто Альдебаран балансирует на призрачном острие.
Вокруг церкви открывалось пространство, частично образуемое церковным кладбищем с причудливыми обелисками, частично — наполовину мощенной площадью, продуваемой всеми ветрами. Вокруг нее выстроились в ряд отвратительно ветхие дома с остроконечными крышами, нависающими фронтонами. Пламя свечей танцевало над входом в склепы, открывая печальный вид, но странным образом не отбрасывая никаких теней. За кладбищем, там, где не было домов, с вершины холма можно было наблюдать мерцание звезд над причалом, хотя сам город был не видимым в темноте. Время от времени лампа с ужасающим стуком раскачивалась на ветру на кривой улочке, стараясь охватить своим светом толпу, беззвучно вливающуюся в церковь. Я подождал, пока все это скопище людей не исчезло в темном дверном проеме. Старик тянул меня за рукав, но я решился войти туда последним. Переступая порог и окунаясь в неизведанную тьму, в которой кишел народ, я оглянулся, чтобы еще раз убедиться в существовании мира, оставшегося снаружи, и увидеть, как свечение кладбищенских огней роняет тусклый отблеск на дорожку, ведущую к вершине холма. Бросив этот прощальный взгляд, я несказанно удивился. Так как, хотя ветер и сдул почти весь снег, на дорожке около двери он все-таки сохранился; и при том мимолетном и запоздалом движении моих встревоженных глаз мне почудилось, будто на нем не отпечаталось никаких следов, в том числе и моих.
Внутри церковь едва была освещена теми лампами, которые люди принесли с собой, основная масса их уже растаяла в темноте. Они устремились по проходу между скамьями с высокими спинками к впускной двери в подземную часовню прямо перед кафедрой. Дверь была открыта, отвратительно зияя пустотой, и вся процессия двинулась сквозь нее. Не говоря ни слова, я последовал вниз по истертым ступеням в этот темный и душный склеп. Конец этого маршрута ночных паломников казался ужасающим, и когда я увидел их, медленно пробирающихся в освященный веками склеп, они вселили в меня еще больший трепет. Потом в полу склепа я заметил отверстие, куда, как в воронку, плавно устремилась толпа, и вскоре мы уже спускались вниз по зловещей лестнице из грубо обтесанного камня; узкая спиральная лестница, влажная и источающая особый запах, уходила вниз, во внутреннюю часть холма, мимо унылых стен из каменных плит, по которым стекала вода, и осыпающегося известкового раствора. Это было безмолвное и ужасающее нисхождение в преисподнюю, и через некоторое время я заметил, что стены и ступени изменили свой вид, будто были высечены из цельного камня. Но что меня главным образом тревожило, так это то, что поступь огромной массы людей была совершенно бесшумной и не рождала никаких звуков. После целой вечности спуска я увидел несколько боковых ходов, похожих на норы и ведущих из неизведанной тьмы в самый центр темного, как ночь, таинства. Вскоре их стало чрезмерно много, будто это было нечестивое подземное кладбище, и острый запах, исходящий оттуда, становился совсем невыносимым. Я чувствовал, что мы, должно быть, прошли через всю гору и находились под землей самого Кингспорта, я меня ужаснула мысль, что этот древний город, изрытый подземными лабиринтами, словно изъеденное червями яблоко, такой старый и грешный.
Потом я увидел мертвенно-бледное мерцание света и услышал тихий плеск никогда не видевших солнца вод. И вновь я содрогнулся, потому что не любил тьму и горько сожалел о том, что мои праотцы призвали меня на этот главный обряд. Когда ступеньки и проход стали шире, я услышал еще один звук тонкий, издевательски завывающий, слабый звук флейты. И неожиданно передо мной возник вид безграничного подземного мира — обширный губчатый берег, освещенный столбом зеленоватого пламени и омываемый широкой маслянистой рекой, которая жутко и неожиданно врывалась на простор, чтобы вливаться в темную бездну вечного океана.
Теряя сознание и тяжело дыша, я смотрел на этот грешный Эреб[82] гигантских поганок, прокаженного огня и вязкой илистой воды и видел закутанные в плащи толпы, образующие полукружие вокруг столба яркого пламени. Это и был святочный обряд, древнее, чем сам человек, и предназначенный судьбой пережить его; главный обряд солнцестояния и обещания весны, несмотря на снежные покровы; обряд огня и вечной зелени, света и музыки. И в мрачной пещере я увидел, как они совершают обряд и поклоняются бледному пламени, и бросают в воду свои беды и несчастья — пригоршни вязкой и тянущейся растительности, которая поражала великолепием своей зелени при ярком и ослепительном солнечном свете. Я видел это и видел, как некто, припав к земле поодаль от огня, отвратительно скулил на флейте; и когда это нечто скулило на флейте, мне казалось, что я слышу гибельное приглушенное дрожание в зловонной тьме, где я ничего не мог рассмотреть. Но что меня больше всего испугало, так это огненный столб; извергаясь неистово из непостижимых глубин, он не отбрасывал теней, как это бывает в обычных случаях, а покрывал азотистые камни отвратительной, ядовитой ярью-медянкой. Ибо во всем этом бурлящем горении не было тепла, а только липкость смерти и разложения.
Старик, который привел меня сюда, теперь приблизился к этому жуткому столбу и совершал строгие ритуальные действа, стоя лицом к полукругу. В определенные моменты сидящие в полукруге почтительно простирались ниц, особенно, когда он поднимал над головой эту гнусную «Necronomicon», которую он прихватил с собой. И я почтительно кланялся вместе с ними, потому что был призван на это празднество по древним и незыблемым установлениям. Потом старик подал сигнал почти невидимому игроку на флейте, и ее приглушенный звук стал чуть громче и в другой тональности, вызывая при этом невообразимое омерзение. Испытав это омерзение, я чуть не упал на покрытую лишайником землю, пораженную страхом не за этот или другой мир, а только за сумасшедшее пространство между звездами.
Откуда-то из гущи толпы, нависшей над омертвелым сиянием холодного пламени адской преисподней, откуда неслышно несла свои жуткие воды маслянистая река, раздался ритмически повторяющийся звук хлопающих крыльев. Это приближались укрощенные и выученные существа-гибриды, которых трудно представить глазу нормального человека и невозможно охватить здравым умом. То были не вороны, не кроты, не канюки, не муравьи и не летучие мыши-вампиры. То были и не человеческие существа, но нечто, что я не могу и не должен вспоминать. Этот мягкий хлопающий звук частично издавали их лапчатые ноги, частично — перепончатые крылья. Когда они подлетели к участникам этой фантастической церемонии, накрытые капюшонами молящиеся схватили их, взобрались верхом и улетели один за другим вдоль просторов этой тускло освещенной реки в преисподнюю, за горизонт.
Старуха-прядильщица исчезла вместе со всеми, а старик остался только потому, что я отказался, когда он дал мне понять, как надо ухватиться за летающее существо, чтобы оно не сопротивлялось. Когда я с трудом поднялся на ноги, то увидел, что флейтист, которого я так и не рассмотрел, исчез из поля зрения, но двое существ-гибридов терпеливо стояли рядом. Видя мою нерешительность, старик достал свою вощаную дощечку с остроконечной палочкой и написал, что он был истинным представителем воли моих праотцов, которые создали этот святочный обряд, и что мое возвращение сюда было предопределено и главные таинства еще впереди. Он писал все это старинной вязью, и когда я все еще колебался, он вытащил из просторной одежды кольцо с печатью и часы, принадлежавшие моей семье, чтобы подтвердить сказанное и доказать, что он тот, за кого себя выдает. Но это было жуткое доказательство, потому что я знал из старых бумаг, что те часы были захоронены вместе с моим прапрапрапрапрадедущкой в 1698 году.
Тогда старик стянул с себя капюшон, желая подчеркнуть сходство во внешности, но я только содрогнулся от ужаса, потому что был уверен, что лицо его являлось не более, чем дьявольской маской. Хлопающие крыльями существа нетерпеливо скреблись о лишайник, и я заметил, что старик сам был неспокоен. И когда одно из существ стало вразвалку отходить в сторону, он быстро повернулся, чтобы остановить его; так что резкое движение сместило восковую маску с того; что должно было быть его головой. И затем, из-за кошмарного положения, — путь к каменной лестнице, по которой мы сюда спускались, был прегражден, — я бросился в маслянистую подземную реку, несущую свои воды в морские пещеры и в этот момент покрывшуюся кровавыми пузырями. Я бросился в этот глинистый поток миазмов, скопившихся под землей, прежде чем мои безумные крики навлекли на меня легионы погребенных, которых эти подземные пещеры могли таить в своих глубинах.
В больнице мне сказали, что меня обнаружили на рассвете у причала Кингспорта. Я наполовину замерз и цеплялся за плывущую балку, которую случай послал, чтобы спасти меня. Мне объяснили, что ночью я свернул с дороги не в ту сторону и упал с крутого обрыва в Орандж-Пойнт, — они пришли к такому заключению, судя по следам, оставленным на снегу. Мне нечего было ответить, потому что все это было неправдой. Все было неправдой: эти широкие окна, за которыми простиралось море крыш, среди которых только одна пятая часть были древними, и шум троллейбусов и машин по улице внизу. Они настаивали на том, что это был Кингспорт, и я не мог с ними спорить. Когда я начал бредить, услышав, что больница находится у старого церковного кладбища на центральном холме, меня отправили в Аркхэм, в госпиталь святой Марии, где за мной могли бы лучше ухаживать. Там мне понравилось, так как доктора были людьми с широким кругозором и даже воспользовались своим влиянием, чтобы получить для меня тщательно скрываемую от посторонних глаз копию предосудительной «Necronomicon» Алхазреда из библиотеки Мискатонийского университета. Они сказали что-то «о душевном расстройстве» и согласились, что лучше мне избавиться от тревожащих меня навязчивых идей.
Итак, я прочитал ту ужасную главу и содрогнулся вдвойне, потому что она не была для меня новой. Я видел ее прежде, о чем не говорили следы моих ног; и видел в том месте, о котором лучше всего забыть. В бессонные часы со мной не была никого, кто мог бы напомнить мне об этом; но мои сны трепещут ужасом из-за фраз, которые я не решаюсь процитировать. Но один параграф я все-таки осмелюсь дать, переведя его, как сумею, на английский с вульгарной латыни:
«Пещеры в преисподней, — писал безумный араб Абдул Алхазред, — непостижимы для тех глаз, которые видят, так как их чудеса необычны и ужасны. Проклята земля, где мысли мертвых приобретают новую жизнь и причудливым образом воплощаются в плоть. Порочна та мысль, что живет сама по себе. Мудро сказал Ибн Шакабао, что счастлив тот склеп, где нет колдуна, и счастлив ночью тот город, в котором все колдуны превратились в прах. Старая молва гласит, что тот червь — кто гложет; из гниения рождается ужасная жизнь, и существа, питающиеся отбросами земли, становятся чудовищными и насылают на нас бедствия. Огромные отверстия тайно прокапываются там, где должно быть достаточно пористого пространства. И учатся ходить существа, которым надлежит ползать».
Перевод с англ. А. Сыровой
ОН
Я увидел его бессонной ночью, когда бродил в отчаянии по городу, пытаясь спасти свою душу и свою мечту. Мое появление в Нью-Йорке было ошибкой — я приехал сюда в поисках острых ощущений, необыкновенных чудес, удивительного душевного подъема в многолюдных лабиринтах старых улиц, которые выныривали из глубины заброшенных дворов, площадей и из района порта и, бесконечно извиваясь, утыкались в такие же заброшенные дворы, площади и постройки порта; а также в гигантских современных зданиях-башнях, поднимающихся ввысь мрачными вавилонскими громадинами, — вместо этого я испытывал ощущение ужаса и подавленности. Они грозили завладеть мной, парализовать и уничтожить меня.
Разочарование наступило не сразу. Оказавшись в городе впервые, я увидел его при заходе солнца с моста — величественный город, отражающийся в воде, с его невероятно остроконечными крышами и зданиями, напоминающими древние пирамиды, возникающими из лилового тумана подобно изысканным цветам, чтобы предстать во всей красе перед облаками, освещенными пылающим закатным небом, и нарождающимися в ночи первыми звездами. Затем одно за другим стали зажигаться окна над мерцающими морскими волнами, где покачивались плавно и скользили фонари; звуки рожков и сирен сливались в дивной, причудливой гармонии, и сам город, над которым навис звездный небесный свод, был словно мечта, наполненная фантастической музыкой. Места с чудесами Каркассона, Самарканда, Эльдорадо и других великолепных, похожих на сказку городов. Вскоре после этого я бродил по тем старинным улицам, столь дорогим моему воображению, — узким, кривым проулкам, проходам, где ряды домов из красного кирпича, построенных в архитектурных стилях XVIII и начала XIX веков, мерцали светом мансардных окон, посматривающих на проезжающие мимо позолоченные «седаны» и разукрашенные кареты. Ясно осознавая, что я увидел то, о чем так долго мечтал, я в порыве чувств и в самом деле подумал, будто это — истинные сокровища, которые со временем сделают из меня поэта.
Но моим честолюбивым надеждам и счастью не суждено было сбыться. Яркий дневной свет все поставил на свои места. Он обнажил всю, запущенность и убожество. Куда бы я ни посмотрел, всюду был камень — он вздымался гигантскими сооружениями, он простирался под ногами мощеными тротуарами и дорогами. Я оказался словно в каменном мешке. Возможно, только лунный свет мог придать всему этому чуточку очарования и волшебства. Толпы людей, бурлящих на улицах, которые напоминали искусственные каналы, были чужими для меня — коренастые, смуглые незнакомцы с ожесточенными лицами и узкими глазами, проницательные, практичные, не обремененные мечтами, безразличные ко всему окружающему, они никогда не могли значить что-либо для голубоглазого чужестранца, чье сердце осталось в далекой деревеньке с зелеными лужайками.
Итак, вместо того, чтобы писать стихи, о чем я так мечтал, я впал в уныние. Невыразимая тоска овладела мною. И наконец я понял страшную правду, о которой никто никогда не решился обмолвиться, — тайна тайн — то, что этот город из камня и резких звуков не может сохранить в себе черты старого Нью-Йорка, как Лондон — старого Лондона, а Париж — старого Парижа, что фактически он мертв, лишен признаков жизни, а его распростертое тело плохо набальзамировано и наводнено странными существами, которые ничего общего с ним не имеют, как и было в действительности. Сделав это неожиданное открытие, я перестал спать спокойно, хотя кое-что от былой уверенности вернулось ко мне, когда я перестал выходить днем, покидая его стены по ночам, когда темнота вызывала к жизни то малое, что еще осталось от прошлого; нечто неощутимое, подобно призраку. Найдя в этом своеобразное облегчение, я даже написал несколько стихотворений и все еще воздерживался от возвращения домой к своим родителям, чтобы они не почувствовали, что все мои мечты и планы постыдно рухнули.
И вот однажды во время прогулки одной из бессонных ночей я встретил человека. Это произошло в закрытом дворике квартала Гринвич, где я по своему неведению поселился, прослышав о том, что именно здесь живут поэты и художники. Архаичные лужайки и дворики в самом деле приводили меня в восторг, и когда я узнал, что поэты и художники — это горластые притворщики, вся причудливость и неординарность которых не что иное, как мишура, и чья повседневная жизнь является оспариванием и опровержением всей той целомудренной красоты, какой является поэзия и искусство, я остался здесь из любви к этим древним, освященным веками местам. Я представлял себе, как тут все выглядело, когда Гринвич был тихой деревенькой, когда ее еще не успел поглотить город-монстр. В предрассветные часы, когда гуляющие разбредались по домам, я, бывало, бродил один по этим загадочным извилистым улочкам и предавался размышлениям о том, какие же тайны, должно быть, оставило здесь каждое поколение. Это поддерживало мой дух, питало мое воображение поэта, который жил где-то глубоко внутри моего существа.
Он подошел ко мне около двух часов туманным августовским утром, когда я пробирался через отдельные дворики, пройти к которым можно было только минуя неосвещенные коридоры примыкающих зданий, хотя когда-то эти дворики представляли собой сплошную цепочку живописных проулков. Мне довелось услышать об этом, и я понял, что сейчас их не найти уже ни на какой карте. Но сам факт, что они были заброшенными, внушил мне еще большую любовь к ним, поэтому я выискивал их повсюду с удвоенной энергией. Теперь, когда я обнаружил их, рвение мое усилилось, так как что-то в их расположении говорило о том, что осталось совсем немного подобных двориков с темными, тихими уголками, втиснувшимися между высокими глухими стенами и пустыми жилищами сзади или притаившимися за неосвещенными проходами под арками, у которых всегда околачиваются хитрые и необщительные представители богемы, чьи делишки не предназначены для посторонних глаз.
Он заговорил со мной сам, обратив внимание на мое настроение и те взоры, которые я бросал на входные двери с причудливыми дверными молоточками или кольцами. Слабый свет из фрамуг ажурной каменной работы чуть освещал мне лицо. А его оставалось в тени, скрытое под полями широкой шляпы, которая по-своему прекрасно подходила к его старомодному плащу. Сам не знаю почему, но какое-то едва уловимое беспокойство охватило меня еще до того, как он ко мне обратился. Он был худощав, мертвенно-бледен, и голос его оказался глубоким. Он сказал, что не впервые видит меня здесь и пришел к выводу, что мы похожи с ним в своей привязанности к прошлому и к тому, что от него осталось. Не хочется ли мне послушать человека, давно занимающегося историй этих мест и изучившего ее значительно глубже, чем кто-либо другой? Приехавший из далекой страны мог бы многое узнать.
Пока он говорил все это, я мельком увидел его лицо, на которое упал желтый луч света от единственного освещенного окна на чердаке. Это было привлекательное, я бы даже сказал, красивое лицо немолодого человека. Оно сохранило следы благородного происхождения и утонченности, необычной для его возраста и этого места, Однако что-то в нем тревожило почти так же, как и привлекало, — возможно, оно было очень бледным или слишком невыразительным, а может быть, просто не соответствовало окружающей обстановке, чтобы я мог почувствовать себя легко и спокойно. Тем не менее я последовал за ним, так как в те безотрадные дни мое стремление к красоте древности и ее тайнам было всем, что могло поддерживать мой дух. И я посчитал необычайной милостью Судьбы встретиться с человеком близких взглядов, чьи познания в истории прошлых веков были значительно глубже твоих.
В ночи происходило нечто, удерживающее облаченного в плащ мужчину от разговоров, и долгое время мы шли, не проронив ни слова. Время от времени он давал только короткие пояснения относительно имен, дат и событий, указывая дорогу в основном жестами. Мы протискивались в узкие щели, шли на цыпочках по коридорам, перебирались через кирпичные стены, проползали на четвереньках через низкие сводчатые проходы, огромная длина которых и мучительно бесконечные повороты совсем сбили меня с толку, и я не мог определить, где же мы находимся. Все, что мы увидели, было очень старым и приводило меня в восторг, или по крайней мере мне так казалось при рассеянных лучах света. Я никогда не забуду разрушающиеся ионические колонны, пилястры с каннелюрами, железную изгородь со столбами, верхушки которых напоминали изваяния на надгробиях, окна с выступающими наружу перемычками и декоративные веерообразные оконца над дверями, казавшиеся тем более необычными и причудливыми, чем глубже мы забивались в этот неисчерпаемый лабиринт неизвестной нам старины.
Нам не встретилось ни души, и по мере того, как мы продолжали свой путь, освещенных окон становилось все меньше и меньше. Первые попавшиеся уличные фонари были масляными, старинной ромбовидной формы. Позже я увидел фонари со свечами; и наконец, когда мы пересекли жуткий мрачный двор, моему спутнику пришлось вести меня за руку через кошмарную тьму к узкой деревянной калитке в высокой стене, за которой скрывалась маленькая улочка. Мы увидели, что она освещена фонарями, расположенными только у каждого седьмого дома, — это были, вероятно, колониальные жестяные фонари с пробитыми по бокам дырочками. Улочка круто поднималась в гору — круче, чем это может быть в этой части Нью-Йорка, верхний ее конец упирался под прямым углом в увитую плющом стену, за которой начиналось частное владение. Над стеной возвышались верхушки деревьев, раскачивающихся на фоне чуть посветлевшего неба. В стене выделялась небольшая калитка из темного дуба с низкой полукруглой аркой. Мой спутник начал открывать замок массивным ключом. Пригласив меня войти, он отправился в полной темноте по тропинке, посыпанной гравием. В конце концов, мы поднялись по каменным ступенькам к двери дома, которую он открыл и пригласил меня войти.
Мы очутились внутри. Стоило мне переступить порог, как я почувствовал, что нахожусь на грани обморока от ужасного зловония, хлынувшего нам навстречу, которое, должно быть, являлось результатом отвратительного гниения, продолжавшегося веками. Но хозяин, казалось, не замечал этого, а я из вежливости молчал, когда он вел меня по крутой извилистой лестнице через холл в комнату, дверь которой он запер за собой на ключ, насколько я мог слышать. Потом он раздвинул шторы на трех небольших окнах, едва проступающих на фоне светлеющего неба, затем прошел через комнату к камину, высек огонь с помощью кремня и огнива и зажег две свечи в массивном канделябре, состоящем из двенадцати подсвечников. Он сделал жест, как бы приглашая к спокойной и тихой беседе.
При этом слабом освещении я увидел, что мы находимся в просторной, обшитой панелями и со вкусом обставленной библиотеке первой четверти восемнадцатого века с великолепными фронтонами над дверными проемами, восхитительным дорическим карнизом и изумительным резным украшением над камином с орнаментом наверху, напоминающим барельеф на могильном склепе. Над полками, тесно заставленными книгами, на некотором расстоянии друг от друга вдоль стен висели семейные портреты в красивых рамах. Портреты несколько утратили свой прежний блеск, подернулись таинственной дымкой и были удивительно похожи на мужчину, который жестом приглашал меня сесть на стул рядом с изящным столиком в стиле чиппендейл.[83] Прежде чем расположиться за столиком напротив, мой хозяин помедлил как бы в смущении. Затем, не спеша сняв перчатки, шляпу с широкими полями и плащ, он театрально предстал перед моим взором в костюме эпохи одного из английских королей Георгов, начиная с заплетенных в косичку волос и кружевного гофрированного воротника и кончая бриджами, шелковыми получулками и туфлями с пряжками, на которые я прежде не обратил внимания. Затем, медленно опустившись на стул с лирообразной спинкой, он начал внимательно разглядывать меня.
Без шляпы он приобрел вид человека древнего, что до этого едва ли бросалось в глаза, и теперь я думал, не послужил ли этот отпечаток исключительного долголетия источником моего беспокойства. Когда он наконец заговорил, его тихий, загробный, осторожно приглушенный голос нередко дрожал, и иногда я с большим трудом понимал его, с глубоким волнением и изумлением прислушивался к тому, что он говорит, и затаенная тревога нарастала во мне с каждой минутой.
— Перед вами, сэр, — начал мой хозяин, — человек с весьма странными привычками, за необычные одеяния которого нет необходимости извиняться перед вами, с вашим умом и склонностями. Размышляя о лучших временах, я принимал их такими, какие они есть, со всеми их внешними проявлениями, включая манеру одеваться и вести себя; со снисходительностью, которая никого не оскорбляет, если осуществляется без показного рвения. Мне повезло, что сохранился дом моих предков, хотя он и был поглощен двумя городами — сначала Гринвичем, построенным здесь после 1800 года, а затем и Нью-Йорком, слившимся с ним ближе к 1870 году. Существовало много причин для сохранения нашего родового гнезда, и я не был нерадив в выполнении своих обязанностей. Сквайр, унаследовавший его в 1768 году, изучал различные науки и сделал некоторые открытия. Все они связаны с влиянием, присущим именно этому участку земли, и чрезвычайно оберегались. С некоторыми любопытными результатами этих исследований и открытий я намерен познакомить вас под строжайшим секретом. Я полагаю, что достаточно хорошо разбираюсь в людях, чтобы сомневаться в вашем интересе и вашей порядочности.
Он замолчал, а я в ответ смог только кивнуть головой. Я уже говорил, что был встревожен, однако для моей души не было ничего более убийственного, чем Нью-Йорк при дневном свете, и, независимо от того, был ли этот человек безвредным чудаком или обладал какой-то зловещей силой, у меня не было выбора. Мне ничего не оставалось, как следовать за ним и удовлетворить свое ощущение и ожидание чего-то удивительного и неожиданного. Итак, я готов был слушать его.
— Моему предку, — тихо продолжив он, — показалось, что воле человечества присущи замечательные качества. Качества, имеющие превосходство, о котором мало кто подозревает, не только над действиями одного человека или других людей, но над любым проявлением силы и субстанции в Природе и над многими элементами и измерениями, которые считаются более универсальными, чем сама Природа. Могу ли я сказать, что он с пренебрежением относился к святыням, великим, как Пространство и Время, нашел странное применение ритуалам полудиких краснокожих индейцев, чья стоянка когда-то находилась на этом холме? Эти индейцы показали себя, когда разбили здесь свой лагерь и были чертовски надоедливыми с просьбами прийти на участок земли вокруг дома в полнолуние. Годами они украдкой перебирались через стену каждый месяц и тайком совершали там какие-то ритуалы. Затем в 1768 году новый сквайр поймал их за этим и был поражен, когда увидел, что они там делают. Потом он заключил с ними соглашение и разрешил свободный доступ на свой участок в обмен на то, чтобы они раскрыли ему свою тайну. Он узнал, что этот обычай уходит корнями частично к их краснокожим предкам, а частично — к старому голландцу времен Генеральных штатов. Будь он проклят, но мне кажется, что этот сквайр угостил их подозрительным ромом — намеренно или нет, — но через неделю после того, как он узнал тайну, он остался единственным живым человеком, посвященным в нее. Вы, сэр, первый посторонний человек, которому я рассказываю об этом. Если я рискую, если зря на вас полагаюсь, можете донести на меня властям. Просто мне кажется, что вы страстно и глубоко интересуетесь прошлым.
Я содрогнулся, когда этот человек начал оживляться и разговорился. Он продолжал свой рассказ.
— Однако вы должны знать, сэр, что то, что этому сквайру удалось выведать у этих дикарей-полукровок, было лишь малой толикой того, что он узнал позднее. Он не напрасно бывал в Оксфорде и не без оснований вел беседы с умудренными годами алхимиками и астрологами в Париже. В общем, ему дали почувствовать, что весь мир есть ни что иное, как продолжение нашего воображения; это, можно сказать, дым нашего интеллекта. Но не простые и обычные люди, а лишь мудрецы способны втягивать и выпускать клубы этого дыма, как это делает курильщик превосходного виргинского табака. Мы можем создать все, что пожелаем, а то, что нам не нужно, — уничтожить. Я бы не сказал, что все это верно по своей сути, но достаточно верно, чтобы разыгрывать время от времени спектакль. Вам, я полагаю, пришлось бы по душе зрелище тех лет, лучшее, что может вызвать человеческое воображение. Так, пожалуйста, постарайтесь сохранить выдержку и не пугайтесь того, что я намерен вам показать. Идемте к этому окну и будьте спокойны и хладнокровны.
Он взял меня за руку, чтобы подвести к одному из двух окон вдоль длинной стены этой погруженной в зловоние комнаты. При первом же прикосновении его руки без перчатки меня пронизал холод. Его плоть, хотя сухая и твердая, была словно лед. Мне тут же захотелось отстраниться. Но тут я вновь подумал о пустоте и ужасе реальности и смело приготовился к тому, чтобы последовать за ним всюду, куда бы он меня ни повел. Очутившись у окна, он раздвинул желтые шелковые шторы и направил взгляд в темноту наружной стороны дома. В первый момент я не увидел ничего, кроме мириад крошечных танцующих огоньков далеко-далеко впереди. Затем как бы в ответ на незаметное движение его руки в небе заиграла яркая вспышка зарницы, и я увидел море роскошной листвы — незагрязненной листвы, — а не море грязных крыш, как должно было бы показаться любому нормальному воображению. Справа от меня коварно поблескивали воды Гудзона, а впереди, в отдалении, я увидел губительные блики огромного солончакового болота, усеянного боязливыми жуками-светляками. Вспышка погасла, и зловещая улыбка озарила восковое лицо старого колдуна-некроманта.
— Это было еще до меня — до того, как пришло время нового сквайра. Прошу вас, давайте попробуем еще раз.
Я испытывал слабость, я чувствовал еще большую дурноту, чем от ненавистной и нелепой современности этого проклятого города.
— Боже милостивый! — прошептал я. — Вы можете проделывать это с любыми временами!
Когда он кивнул и обнажил потемневшие остатки того, что когда-то было желтыми зубами-клыками, я вцепился в шторы, чтобы не упасть. Но он привел меня в чувство, вновь коснувшись моих пальцев своей жуткой ледяной рукой, и еще раз сделал неуловимое движение.
Снова вспыхнула зарница — но на сей раз над сценой уже не совсем необычной. Это был Гринвич. Гринвич, каким он когда-то был, с домами здесь и там или их рядами, какие мы видим сейчас, однако и с чудесными зелеными лужайками, полянами и клочками поросшей травой земли. Болото все так же поблескивало вдали, но еще дальше я увидел пирамидальные крыши будущего Нью-Йорка: Троицу, собор святого Павла и кирпичную церковь, возвышающуюся над местностью, и нависшую надо всем этим завесу густого дыма, который поднимался из труб. Я дышал с трудом. У меня перехватило дух, но не столько от самого зрелища, сколько от возможностей, которые передо мной открылись; от того, что мое воображение могло вызвать.
— Сможете ли вы — осмелитесь ли — пойти еще дальше? — заговорил я с благоговейным трепетом, и на какую-то долю секунды мне показалось, что он разделяет мое желание. Но зловещая улыбка вновь скользнула по его лицу.
— Еще дальше? То, что видел я, погубит вас и превратит в каменное изваяние. Назад, назад — вперед, вперед, послушайте, а вы не пожалеете об этом?
Сердито проворчав последние слова себе под нос, он повторил свой незаметный жест. И тут же на небе появилась вспышка, еще более ослепительная, чем две первые. В течение трех секунд передо мной промелькнуло это демоническое зрелище. Передо моими глазами предстал такой вид, который будет потом мучить меня в сновидениях. Я увидел ад, кишащий странными летающими предметами. А под ними простирался адский мрачный город с рядами гигантских каменных зданий и пирамид, нечестиво и варварски вознесшихся ввысь к луне, и дьявольские огни, полыхающие в несметном количестве окон. И, взбираясь взглядом по отвратительным воздушным галереям, я увидел желтокожих, косоглазых жителей этого города, облаченных в мерзкие оранжевые и красные одеяния. Они танцевали, словно безумные, под лихорадочно пульсирующие ритмы литавр, грохот диковинных струнных щипковых инструментов, неистовые стенания засурдиненных труб, непрерывное и бесконечное ламенто которых вздымалось и опускалось подобно волнам оскверненного и безобразного океана асфальта.
Я увидел это зрелище и мысленно представил себе ту богохульную какофонию звуков, которая его сопровождает. Это было кульминацией всех тех ужасов, которые породил в моем сознании этот город-труп. Забыв о приказании соблюдать тишину, я пронзительно закричал. Я кричал и кричал, так как нервы мои не выдержали, и стены вокруг меня задрожали.
Затем, когда вспышка зарницы исчезла, я обратил внимание, что мой хозяин тоже дрожит. Взгляд, выражающий неподдельный страх, наполовину заслонил искривленную гримасу гнева, вызванного моим поведением. Он зашатался, вцепился в занавески, как совсем недавно делал я, и дико завращал глазами и головой, как попавшее в загон животное. Видит бог, у него были на то основания, так как, когда эхо моих криков стихло, послышался странный звук. Этот звук приводил в такой ужас, что только ошеломленные чувства помогли мне остаться в здравом уме и сознании. За порогом запертой на ключ двери послышалось поскрипывание лестницы под твердыми крадущимися шагами, будто по ней поднималась целая орда босых или обутых в мокасины ног, и наконец осторожное, решительное подергивание медной щеколды, тускло поблескивающей при слабом свете свечи. Старик крепко схватил за руку и плюнул в меня, в горле его послышались резкие нотки, когда он стоял, покачиваясь и вцепившись в желтые шторы.
— Полнолуние — будь ты проклят — ты… ты, визжащая собака — это ты вызвал их, и они пришли за мной! О, эти ноги в мокасинах — мертвецы — Бог покарает вас, вас, краснокожие дьяволы, но это не я отравил ваш ром. Вы сами напились до смерти, будьте вы прокляты, незачем обвинять сквайра — уходите отсюда! Уберите руки со щеколды! Я пришел сюда не для вас…
В этот момент три неторопливых, но очень уверенных негромких стука сотрясли дверь, и белая пена собралась вокруг рта неистового колдуна. Его испуг, превратившийся в суровое отчаяние, породил новый приступ гнева против меня и, спотыкаясь, он сделал шаг в сторону столика, о край которого опирался. Шторы, все еще зажатые в его правой руке, в то время, как левой он пытался схватить меня, натянулись и в конце концов рухнули на пол вместе с креплениями, открыв в комнату поток сияния полной луны, появление которой предзнаменовали яркие вспышки в небе. В ее зеленоватых лучах поблекло пламя свечей и появились новые видимые следы разрушения в комнате, попахивающей мускусом, с ее изъеденными червями панелями, осевшим полом, полуразрушенным камином, расшатанной мебелью и потрепанными шторами. Следы эти были видны и на старике то ли от яркого света луны, то ли от страха и безумия. Я заметил, как он весь съежился и сделался черным, когда, пошатываясь, приближался ко мне и жаждал разорвать меня своими хищными когтями. Только глаза оставались прежними, они излучали необыкновенный свет, который становился все ярче по мере того, как лицо все больше чернело и сморщивалось.
Стук в дверь повторился, но с большей настойчивостью. На сей раз в нем появился какой-то металлический призвук. От темного существа, обращенного ко мне, осталась только голова с глазами, которая, корчась, пыталась добраться до меня по осевшему полу. Время от времени она испускала слюну и злобное шипение. Теперь быстрые, расщепляющие удары посыпались на непрочные дверные петли, и я увидел поблескивание томагавка, когда он разносил дверь в щепки. Я не двигался, так как был не в состоянии это делать, но, потрясенный, наблюдал, как дверь развалилась на кусочки, чтобы впустить огромный, бесформенный поток черной как смоль субстанции с горящими как звезды злобными глазами. Он вливался густым, толстым слоем подобно потоку черной и жирной нефти, прорвал прогнившую перегородку, перевернул стул на своем пути и в конце концов потек под столом туда, где потемневшая голова с глазами все еще взирала на меня. Вокруг той головы он замкнулся, полностью поглотив ее, и в следующий момент начал убывать, унося с собой свою невидимую ношу, не коснувшись меня, вытекая в тот же черный дверной проем, спускаясь вниз по невидимой лестнице, которая скрипела, как и прежде.
Но тут не выдержал пол, и я, тяжело дыша, свалился вниз, в темную как ночь комнату, давясь паутиной и в полуобморочном состоянии от ужаса. Зеленая луна, освещая комнату сквозь разбитые окна, помогла мне заметить дверь в холл, она была полуоткрыта. Когда я поднялся с засыпанного штукатуркой пола, с трудом выбравшись из-под обломков обвалившегося потолка, мимо меня пронесся жуткий черный поток с бесчисленным количеством горящих в нем злобных глаз. Он искал дверь в подвал и, когда обнаружил ее, то исчез в нем. Теперь я искал дверь нижней комнаты. И тут я услышал треск над головой. Вслед за ним что-то упало, пролетев мимо окна с западной стороны. Должно быть, это был купол дома. Освободившись от паутины и обломков, я бросился через холл к входной двери. Не сумев открыть ее, я схватил стул, разбил окно и, как безумный, выпрыгнул из него на неухоженную лужайку, где лунный свет скользил по траве и дикорастущим растениям. Изгородь была высокой, а все калитки в ней — закрытыми. Я сдвинул груду ящиков, лежавших в углу, и таким образом забрался на самый верх стены.
Находясь в состоянии полного изнеможения, я увидел вокруг себя только странные заборы и старые двускатные крыши. Круто поднимающаяся вверх улица чуть просматривалась, и то малое, что успело броситься в глаза, быстро исчезало в тумане, поднимающемся от реки, несмотря на льющийся с небес поток яркого лунного света… Неожиданно верхушка столба, за которую я держался, начала дрожать, как бы отзываясь на мою смертельную усталость и головокружение, и в тот же момент я стремительно рухнул вниз, в неизвестность, уготованную мне судьбой.
Мужчина, который меня нашел, сказал, что я, должно быть, долго полз, несмотря на сломанные кости, так как кровавый след тянулся далеко, насколько мог видеть его глаз. Начинавшийся вскоре дождь смыл следы моих мучений, и невозможно было ничего установить. В сообщениях было отмечено, что я появился неизвестно откуда у входа на небольшой дворик на Перри-Стрит.
Я никогда не пытался вернуться еще раз в те мрачные лабиринты и никакому здравомыслящему человеку не стал бы этого советовать. Кем или чем было то древнее существо, я не имею ни малейшего представления; но я повторяю, что город мертв и полон всяких непредвиденных ужасов. Исчез ли он, я не знаю, но я вернулся домой, на чистые зеленые лужайки Новой Англии, до которых по вечерам доносится наполненный морскими запахами ветер.
Перевод с англ. А. Сыровой
КОШМАРЫ РЭД-ХУКА
Нас окружают таинства добра и зла. Насколько я понимаю, мы пребываем в неизвестном нам мире. В мире, где в далеком прошлом его обитатели жили во мраке пещеры. Возможно, человек когда-нибудь вернется на путь естественной эволюции, и, по моему убеждению, ученость чернокнижников еще не умерла.
Несколько недель назад на углу улицы в поселке Паскоаг, на Роуд-Айленде, произошел необычный случай. Высокий, крепкого телосложения, пышущий здоровьем мужчина заставил прохожих призадуматься над своим странным поведением. Как оказалось, он шел из Чепачета по дороге, спускающейся с холма. Дойдя до делового центра, он свернул налево, на оживленную главную улицу с кварталами офисов непритязательного вида, слегка напоминающими городские. В том самом месте, без каких-либо видимых причин, с ним и произошел этот удививший всех казус. Уставившись странным образом на самое высокое из стоящих перед ним зданий, он вдруг, как безумный, бросился бежать с истерическими воплями, споткнулся и упал на следующем перекрестке. Ему помогли подняться, услужливые руки с готовностью стряхнули с него пыль. Он был в полном сознании, практически без ушибов, в тот же момент избавился от своего неожиданного нервного припадка. Со смущением на лице он пробормотал какие-то объяснения вроде того, что последнее время сильно переутомился, с опущенным взглядом уныло потащился по дороге в Чепачет и вскоре исчез из вида, так и не оглянувшись. Это был очень необычный случай, приключившийся с таким крупным, дюжим, нормального вида господином. И необычность эта не уменьшилась от того, что один из присутствующих узнал в нем квартиранта известного владельца молочной фермы из предместья Чепачета.
Он был, как впоследствии оказалось, полицейским детективом из Нью-Йорка по имени Томас Ф. Малоун. А здесь он находился в длительном отпуске на лечении после невероятно напряженной работы по расследованию одного происшествия, ставшего весьма драматичным в связи с несчастным случаем. Дело в том, что в городе произошел обвал нескольких старых кирпичных зданий во время полицейской облавы, в которой он принимал участие. Погибло очень много людей, в том числе и его сослуживцев, что не могло не повлиять на его психику. В результате у него появился сильный необъяснимый страх перед любыми зданиями, даже отдаленно напоминающими те, рухнувшие, так что в конце концов психиатры запретили ему на неопределенное время видеть их. Полицейский хирург, у которого в Чепачете жили родственники, предложил ему поехать в эту затейливую деревушку с деревянными домами колониальных времен как в идеальное место для поправки его душевного здоровья. Именно туда страдалец и отправился, обещав, что никогда не отважится появиться на улицах с кирпичными строениями, пока ему не разрешит доктор из Вунсокета, который его пользовал. Эта злосчастная прогулка в Паскоаг за журналами была ошибкой, за которую пациент расплатился страхом, синяками и унижением за свое непослушание.
Вот такие слухи ходили в Чепачете и Паскоаге. В это верили многие психиатры. Поначалу Малоун значительно сильнее доверял докторам, но вскоре положил конец своим рассказам, когда понял, что они сомневаются в истинности услышанного и что его удел — полный скептицизм. С той поры он вообще замолчал и перестал выражать какие-либо протесты, когда специалисты пришли к единому соглашению, что разрушение зданий в районе Бруклина Рэд-Хук и связанная с этим гибель его товарищей, храбрых полицейских, не могла лишить его нервного спокойствия. Они уверяли его, что он слишком много работал, наводя порядок в злачных местах; без сомнения, он переутомился, и неожиданная трагедия оказалась последней каплей. Так нашлось простое объяснение, которому каждый мог поверить, а так как Малоун не был человеком наивным, он понял, что лучше сделать вид, будто подобное объяснение его вполне устраивает. Дать понять людям, лишенным воображения, обо всех ужасах, которые он пережил и которые выше человеческого понимания, — о тех прокаженных домах, кварталах и целых городах, населенных злом, дошедшим до нас из более древних миров, — все равно, что остаться в психиатрической лечебнице, в палате, обитой войлоком, вместо успокоительной деревенской жизни. А Малоун был человеком здравого рассудка, несмотря на свой мистицизм. Он обладал проницательностью кельта на всякие предсказания и острым зрением логика на то, что внешне казалось неубедительным. У него были разносторонние интересы, и в свои сорок два года он оказался далеко от дома. Куда только не забрасывала его жизнь. Для человека, родившегося в небольшом особняке около Феникс-парка в штате Джорджия и закончившего Дублинский университет, он повидал, несомненно, много.
И теперь, когда он вспоминал прошлое, все, что увидел, почувствовал и постиг, Малоун был доволен, что тайная причина того, каким образом он из неустрашимого человека превратился в дряблого невротика, так и останется тайной, а также и то, что старые кирпичные трущобы и моря угрюмых, мрачных лиц стали являться ему в ночных кошмарах, как некое жуткое предостережение. Так случалось уже не впервые, когда его ощущения вынужденно оставались необъясненными — ибо разве не был сам факт его погружения в многоязычную пропасть нью-йоркского «дна» причудой сверх всякого разумного объяснения? Что он мог сказать, глядя на этот раскаленный котел, где варится разнообразное отвратительное отребье, нагнетая злобу и наводя на всех отвратительный страх? Он видел адское зеленое пламя сокровенного чуда в этом вульгарном и неразличимом хаосе явной, бросающейся в глаза алчности и духовного падения и мягко улыбался, когда все знакомые насмехались над его экспериментом в работе полиции. Они были очень остроумными и циничными в своих издевательствах по поводу его удивительного желания раскрыть непостижимый смысл окружающих явлений и заверили его, что Нью-Йорк — это вместилище порока и пошлости. Один из них даже заключил с ним пари на крупную сумму, что он не сможет — несмотря на многие пикантные, к его чести, статьи в «Дублин Ревю» — написать действительно интересный рассказ о жизни низших классов Нью-Йорка. И теперь, оглядываясь назад, он понял, что ирония судьбы подтвердила слова предсказателя. Омерзение, если взглянуть на него мельком, не может само по себе составить предмет рассказа — подобно книге, упомянутой немецким исследователем творчества Эдгара По, es lasst sich nicht lesen — «это невозможно читать».
Для Малоуна в жизни всегда существовало ощущение сокровенной тайны. В молодости он чувствовал скрытую красоту окружающего мира, и это вызывало у него прилив поэтического вдохновения. Он и был поэтом, но бедность, невзгоды и изгнание обратили его взор на более мрачные реалии, и он всегда испытывал трепет, когда обвинялось зло. Его повседневная жизнь превратилась в фантасмагорию жуткой неизвестности она то становилась заманчивой и полной загадочного смысла, как в лучшей манере Бердслея, то обнажала ужасы за самыми простыми предметами и понятиями, напоминая более мрачные и менее тривиальные открытия Гюстава Доре. Он бывало рассматривал как божью милость тот факт, что большинство людей высокого интеллекта откровенно глумятся над самой возможностью существования тайны. Поскольку, приводил он свои доводы, если лучшие умы вступят в самый тесный контакт с дьявольскими силами, идущими от более древних и занимающих более низкое положение культов, перемены, произошедшие в результате подобного сговора, не только могут разрушить мир, но и будут угрожать целостности самой Вселенной.
Все эти размышления были, без сомнения, размышлениями человека с болезненным воображением, но непогрешимая логика и глубокое чувство юмора искусно скрывали это. Малоуну даже нравилось, что его понятия, представления, образ мыслей остаются как бы запрещенными, и этим слегка можно позабавиться. Истерия наступала у него только тогда, когда обязанности полицейского бросали его в ад откровений, открытий, слишком неожиданных и предательских, чтобы их можно было избежать.
Некоторое время его назначали в наряд на дежурство в полицейском участке на Батлер-Стрит в Бруклине. В это время произошла трагедия в Рэд-Хуке, которая привлекла его внимание. Рэд-Хук — это лабиринт убогих, заселенных разноязыким людом улочек около старого порта напротив Гаванэ-Айленд, с грязными шоссе, взбирающимися от пристаней вверх по холму к Клинтон и Кот-Стрит, сворачивающими на Барэ-Холл, с пришедшими в упадок домами по всей их протяженности. Дома в Рэд-Хуке по большей части были кирпичные, возведенные в период с первой четверти до середины девятнадцатого века, с ними соседствовали плохо освещенные переулки и уединенные тихие дворики, по-своему очаровательные. Так и хочется назвать их «диккенсоновскими». Население, проживающее здесь, безнадежно спутанный клубок, загадочное, непостижимое явление. Сирийцы, испанцы, итальянцы и негры находятся в постоянном столкновении друг с другом. А неподалеку расположены скандинавские и американские поселения; Рэд-Хук — это вавилонское столпотворение, разноголосый гомон иотвратительная грязь. Отовсюду доносятся резкие крики, заглушая плеск маслянистых волн, набегающих на заваленный отбросами пирс, и чудовищная огромная литания портового шума. Давным-давно здесь было все иначе — по чистым светлым нижним улицам гуляли ясноглазые моряки, а вдоль холма выстроились в ряд особняки состоятельных горожан, построенные с большим вкусом. Следы былой счастливой жизни можно заметить по опрятным, сохранившимся в хорошем состоянии зданиям, редким изящным церквям, а свидетельства подлинного искусства — по отдельным деталям здесь и там: пролету лестницы с истертыми ступенями, разрушенному дверному проему, источенной червями паре декоративных колонн с пилястрами и чудом уцелевшей зеленой лужайке с покосившимся и проржавевшим железным забором. Дома обычно строились из крупных блоков, и сейчас еще кое-где поднимаются ввысь купола зданий, некогда принадлежащих капитанам и владельцам морских судов. Они напоминали о тех днях, когда их домочадцы любили смотреть на море из окон и с балконов своего дома.
Из этого переплетения материального и духовного разложения богохульные крики на сотнях диалектов возносятся к небесам. Толпы воров, горланящих свои песни, шатались по узким темным улочкам и оживленным главным улицам. Услышав их, невидимые руки украдкой гасили свет и задергивали шторы, и смуглые, отмеченные печатью греха лица исчезали из окон, завидев таких гостей. Полицейские потеряли надежду на то, чтобы навести здесь порядок или как-то улучшить положение, и скорее уже искали возможность возвести барьеры, защищающие внешний мир от этого вредного влияния. Стук патруля обычно встречается мертвым молчанием, и такие нарушители при аресте никогда не бывают разговорчивыми. Явные правонарушения столь разнообразны, сколь и местные наречия, и включают целую гамму проступков и преступлений, начиная с контрабандного провоза рома и нелегального въезда иностранцев до увечий и убийств в самых отвратительных проявлениях. То, что эти видимые преступления не становились чаще, не делает чести этой округе и, скорее, является заслугой тех, кто обладает искусством укрывательства. В Рэд-Хук прибывает больше людей, чем покидает его, — по крайней мере из тех, кто покидает его морским путем. Скорее всего, из Рэд-Хука уезжают те, кто не слишком словоохотлив.
Малоун находил в таком положении дел слабый намек на тайны более ужасные, чем любой из грехов, разоблаченных жителями и оплакиваемых священниками и филантропами. Как человек, соединивший воедино свое воображение и научные знания, он понимал, что современные люди, если они не будут соблюдать нравственные законы, имеют все шансы вновь вызвать в себе самые порочные инстинкты, тем самым опуститься в повседневной жизни до уровня примитивной полуживотной дикости и жестокости. Он часто с содроганием и любопытством антрополога смотрел на богохульствующих молодчиков, возвращающихся домой в темные предрассветные часы заплетающимися ногами и горланящих непристойные песни. Эти группы юнцов встречались постоянно: иногда они толкались на углу улицы, искоса и недобро посматривая на прохожих; иногда стояли у дверей домов с дешевыми музыкальными инструментами в руках и наигрывая мрачные мелодии, а то дремали на ступеньках или рассказывали непристойные анекдоты, собравшись за столиками кафе около Барэ-Холла, порой вели тихие и неспешные разговоры возле такси, выстроившись в ряд возле высоких разрушающихся домов с плотно закрытыми ставнями. Они приводили его в уныние и одновременно в восторг, в чем он не осмеливался признаться своим сослуживцам. Ему казалось, что он видит в них чудовищную связь с тайной целостностью окружающего мира, некую дьявольскую, древнюю связующую силу выше всякого обычного человеческого понимания, которая была значительно важнее этой презренной массы фактов, привычек, мест обитания, вносимых полицейскими в протокол с такой тщательностью и пунктуальностью. Его внутреннее чувство подсказывало ему, что они были наследниками некой отвратительной первобытной традиции, участниками потерявших свою первозданность древних празднеств, обрядов и ритуалов, которые были старее рода человеческого. Их связь и определенность предполагали то, что проявлялось в необычных намеках на порядок, скрывающийся за мерзкой личиной анархии и распущенности. Он не зря читал такие трактаты, как «Культ колдовства в Западной Европе» мисс Марей, и знал, что до недавних пор среди крестьян и скрытных людей сохранились ужасные сборища и вакхические оргии, дошедшие из нечестивых культов, предшествующих арийскому миру и нашедших свое отражение в таких популярных легендах, как «Черные мессы» и «Шабаш ведьм». То; что дьявольские следы древней урало-алтайской магии и культов плодородия сейчас полностью затерялись, он не мог даже предположить и часто размышлял о том, насколько древнее и страшнее самой худшей из всех сказок они в действительности могли быть.
Дело Роберта Свидама заставило Малоуна окунуться в гущу событий в Рэд-Хуке. Свидам вел замкнутый образ жизни. Это был образованный человек, отпрыск старинной, не очень состоятельной голландской семьи, жившей в просторном, но плохо сохранившемся особняке. Этот особняк был построен его дедушкой во Флэтбуше, когда та деревенька состояла всего из нескольких симпатичных коттеджей колониального стиля. В центре ее на холме возвышалась увитая плющом реформистская церковь с колокольней и обнесенным железным забором кладбищем с нидерландскими могильными плитами. В своем уединенном доме, расположенном в стороне от Мартенс-Стрит в окружении вековых деревьев, Свидам много читал и размышлял вот уже шесть десятков лет, за исключением тех десяти лет, когда он путешествовал по Старому Свету, а последние восемь жил отшельником, спрятавшись от посторонних глаз.
Он не мог позволить себе иметь слуг и редко принимал гостей, пребывая в полном одиночестве. Он тщательно избегал заводить дружбу с кем-либо, и встречал своих редких посетителей в одной из трех комнат первого этажа, которую он всегда содержал в порядке, — просторной библиотеке с высоким потолком, все стены которой были уставлены полками с обветшавшими книгами, написанными архаичным и тяжеловесным языком. Только один их вид вызывал отвращение. Но город разрастался и в конце концов поглотил эту деревеньку, ставшую районом Бруклина. Для Свидама это не имело никакого значения, так же как и он сам был абсолютно безразличен городу. Пожилые люди еще помнили его и приветствовали на улице в толпе прохожих. А для тех, кто поселился здесь недавно, он был не более, чем забавным стариком с дородной фигурой, взлохмаченными седыми волосами, коротко остриженной бородой, залоснившейся темной одеждой и тростью с золотым набалдашником. Малоун никогда не встречал его до тех пор, пока служебные обязанности не заставили его заняться этим делом, но слышал о нем как о действительно крупном специалисте по средневековым религиозным суевериям. Однажды он даже намеревался поискать быстро распроданную брошюру Свидама о «Каббале» и легенде о Фаусте, которую его друг как-то привел ему в пример.
Дело Свидама стало «делом», когда его единственные дальние родственники обратились в суд с официальным заявлением относительно состояния его психики. Этот их поступок был неожиданным для всех окружающих, но он был предпринят только после длительных наблюдений и последовавшей затем неприятной ссоры. Он основывался на странных переменах в его речи и привычках, диких и безумных упоминаниях о приближающихся чудесах, а также о необъяснимых преследованиях со стороны жителей пользующегося дурной славой района Бруклина. С годами он становился все дряхлее. Своим жалким видом он напоминал настоящего нищего, рыскающего в поисках добычи. Время от времени оскорбленные его видом друзья встречали его на станциях метро либо слоняющимся без дела, либо сидящим на скамейке возле Бар-Холла и разговаривающим с незнакомцем подозрительной внешности. Когда он начинал говорить, то это было невнятное бормотание о беспредельных силах, которыми он якобы обладает. С видом знающего человека он повторял какие-то таинственные слова или имена: «Сефирот», «Асмодей», «Самаэль». При рассмотрении дела в суде вскрылось, что он использовал свой доход в основном на приобретение книг сомнительного свойства, ввозимых из Лондона и Парижа, и на содержание квартиры в подвальном этаже дома в районе Рэд-Хука. Там он проводил почти каждый вечер, принимая странных посетителей, включая хулиганов и иммигрантов, и, очевидно, проводил своего рода ритуальную службу за зелеными шторами закрытых окон. Детективы, которым поручили следить за ним, сообщали о необычных криках, песнопениях, а также топоте скачущих ног; они были поражены их исступлением и развязностью, несмотря на обычность сверхъестественных обрядов и оргий в этом опустевшем от пьянства районе. Однако, когда дело дошло до огласки, Свидаму удалось сохранить свою свободу. Он откровенно признался в необычности своего поведения и в нелепости оборотов, которые он употреблял в речи и которые он приобрел из-за чрезмерной приверженности научным занятиям и исследованиям. По его словам, он был занят изучением традиций европейской культуры, что требовало самых тесных контактов с представителями различных наций — он должен был познакомиться с их песнями и народными танцами. А утверждение о том, что это тайное общество людей низкого происхождения жило за его счет, на что намекали его родственники, было совершенно беспочвенным. Как это ни печально, но все говорит о том, насколько ограниченным было их представление о нем и его занятиях. Одержав победу с помощью своих невозмутимых объяснений, он был беспрепятственно выпущен на свободу, а в адрес платных детективов Свидамов, Корлеаров и Ван Брунтов было выражено недовольство.
И вот тут-то делом занялись федеральные инспектора и полиция, в которой служил Малоун, Они следили за всеми действиями Свидама с большим интересом и во многих случаях помогали частным детективам. В процессе работы выяснилось, что новые дружки Свидама были самыми отъявленными и злостными хулиганами и преступниками. Они в основном жили на отдельных улицах Рэд-Хука, и по крайней мере треть из них была известными рецидивистами в том, что касается краж, беспорядков и нелегального въезда иммигрантов. В самом деле, было бы не лишним сказать, что круг знакомых старого ученого почти полностью совпадал с самыми худшими из организованных группировок, которые контрабандой провозили на берег неизвестное азиатское отребье, благоразумно выдворенное с острова Эллис. В перенаселенных трущобах Паркер Плэйс — переименованного с тех пор, — где у Свидама была квартира в подвальном этаже дома, выросло очень необычное поселение безымянных узкоглазых людей, которые пользовались арабским алфавитом и которых решительно отказывалась признавать огромная масса сирийцев, живших на Атлантик-Авеню и вокруг. Их всех можно было выслать в связи с отсутствием каких-либо удостоверений личности, но воплотить все это в жизнь было не так-то просто — ведь никому не хочется иметь дело с Рэд-Хуком до тех пор, пока этого не потребует общественность.
Эти переселенцы посещали полуразвалившуюся каменную церковь, по средам ходили в танцевальный зал, возносивший ввысь свои готические арки возле самой отвратительной части порта. Вообще-то церковь была католической, но священники со всего Бруклина отказывались от нее, и полицейские соглашались с ними, когда слышали, какие крики доносились оттуда по ночам. Малоун, бывало, представлял себе, что до него долетают ужасные надтреснутые низкие звуки органа, скрытого глубоко под землей, когда церковь пуста и заключена во тьму, в то время как остальные наблюдатели содрогались от пронзительных криков и грохота, которые сопровождали службу.
Когда об этом спросили Свидама, он ответил, что, по его мнению, этот обряд сохранился со времен несторианства и пронизан шаманством Тибета. Большинство людей, предположил он, относились к монголоидной группе, язык которой ведет свое происхождение откуда-то из Курдистана, — и Малоун не мог не вспомнить, что Курдистан — родина Yezidis, последних из уцелевших персидских почитателей культа дьявола. Как бы то ни было, но вся эта суета вокруг исследований Свидама подтвердила тот факт, что незаконные пришельцы потоком наводнили Рэд-Хук во все увеличивающихся количествах, проникая сюда морским путем в местах, до которых не доходили руки ни у таможенных чиновников, ни у портовой полиции. Они устремились в Паркер-Плейс и быстро рассеивались на холме, радушно принимаемые прибывшими сюда ранее другими обитателями этой округи. Этими приземистыми фигурами с характерными для подобного типа лица раскосыми глазами в нелепом сочетании с кричащей американской одеждой кишели улицы Рэд-Хука. Они пополнили и без того многочисленную армию бездельников и бродячих гангстеров Барэ-Холла. Наконец иммиграционные службы посчитали необходимым установить их численность, род занятий и источник появления в здешних местах, чтобы сообщить эти данные в иммиграционный Центр. Это-то задание и было поручено выполнить Малоуну по соглашению между федеральной и городской полицией и найти, по возможности, способ устроить на них облаву, окружить и сдать полиции. И когда он взялся за дело, то почувствовал, что находится на грани невыразимого ужаса, и потрепанная, нечесаная фигура Роберта Свидама представилась ему воплощением Сатаны.
В своей работе полиция пользуется разнообразными изобретательными методами. Посредством ненавязчивых, не бросающихся в глаза прогулок, тщательно продуманных якобы случайных разговоров, вовремя предложенного крепкого напитка во фляжке, вынутой из заднего кармана брюк, рассудительных диалогов с перепуганными арестованными Малоун узнал много интересных фактов об этом переселении, перспективы которого становились угрожающими. Вновь прибывшие действительно были курдами, но диалект, на котором они разговаривали, был неизвестен филологам. Те из них, кто сумел найти себе работу, были в основном рабочими в доке, хотя часто служили в греческих ресторанах и продавцами газет в киосках на углах улиц. Однако основная часть их не имела явных средств к существованию. По всей видимости, они были связаны с «дном» общества и нашли там для себя занятия, из которых провоз контрабанды и тайная торговля контрабандными товарами были самыми безобидными. Они прибывали пароходами, очевидно, «дикого» плавания, украдкой выгружались безлунными ночами в гребные шлюпки, которые тайком прокрадывались под известной им пристанью и по скрытому каналу проплывали к тайному подземному водоему под домом. Малоун не мог определить с достаточной точностью ни эту пристань, ни канал, ни дом, так как память его собеседников и осведомителей чрезвычайно их подводила, речь же их была такова, что в ней не под силу было разобраться даже самым талантливым переводчикам. Не мог он получить и истинных сведений о причинах их переселения. Во время разговора они были весьма сдержанны, умалчивали о том, откуда приехали. Их трудно было застать врасплох, чтобы выяснить, какие агентства занимались их переправкой в чужую страну. В действительности они испытывали нечто вроде щемящего страха, когда их обо всем этом спрашивали. Гангстеры из других группировок вели себя примерно так же, и самое большее, что можно было узнать от них, так это то, что некий бог или высокое духовенство посулили им неслыханные богатства, необычное великолепие и власть в чужеземной стороне.
Тщательно охраняемые ночные бдения у Свидама регулярно посещали как вновь прибывшие, так и бывалые гангстеры, и вскоре полиции удалось узнать, что бывший затворник арендовал еще несколько квартир, чтобы приютить тех гостей, которые знали его пароль. Свидам взял внаем полностью три дома, где постоянно находили себе убежище его сомнительные компаньоны. Он очень редко бывал в своем доме во Флэтбуше, навещая его только затем, чтобы поставить на место одни книги и взять другие. Вид у него был ужасающий. Глядя на его лицо, можно было сказать, что это лицо безумца, доведенного до исступления. Малоун пытался дважды побеседовать с ним, но всякий раз Свидам бесцеремонно отвергал все попытки. Он отвечал, что ему ничего не известно ни о каких бы то ни было таинственных заговорах, ни о переселении, что он не имея ни малейшего представления о том, как оказались здесь курды и чего они добиваются. У него во всем этом был один интерес: изучить фольклор иммигрантов, проживающих в этом районе. Он просит оставить его в покое. Незачем полиции беспокоиться об этом. Малоун высказал свое восхищение известной брошюрой Свидама о «Каббале» и других мифах. Старик смягчился, но эта реакция оказалась мимолетной. Ведь он воспринимал эту встречу как вмешательство в его дела и без колебания дал резкий отпор непрошеному гостю. Малоун нехотя ретировался. Пришлось искать другие источники информации.
Какой заговор раскрыл бы Малоун, продолжи он работу над этим делом, мы никогда не узнаем. Так уж случилось, что нелепый конфликт между городскими и федеральными властями приостановил расследование на несколько месяцев, во время чего детективу пришлось выполнять другие поручения. Но это не означало, что он потерял интерес к этому делу и не поражался тому, что стало происходить с Робертом Свидамом. Как раз в то время, когда волна похищений детей докатилась до Нью-Йорка, с безумным ученым стали происходить метаморфозы столь потрясающие, сколь и нелепые. Однажды его увидели неподалеку от Барэ-Холла с чисто выбритым лицом, аккуратно постриженным и в со вкусом подобранном безукоризненном одеянии. С тех пор с каждым днем в нем происходили явные перемены к лучшему. Он по-прежнему выглядел безупречно, в глазах появился необычный блеск, а в голосе — решительность. Мало-помалу он начал избавляться от тучности, которая так долго портила его фигуру. Он теперь выглядел моложе своих лет. В его походке появилась упругость, а в манере вести себя — жизнерадостность и бодрость. Любопытная перемена произошла с его волосами: они потемнели, но ни в коем случае нельзя было подумать, что они крашеные. Проходили месяцы, он совершенно изменил стиль одежды, который становился все менее и менее консервативным, и в конце концов, поразил всех своих вновь приобретенных друзей тем, что отремонтировал и заново отделал свой особняк во Флэтбуше. Он устроил в нем несколько приемов, собрав в гости всех знакомых, кого только мог вспомнить. Но особое радушие он проявил к своим родственникам, которых полностью простил и которые совсем недавно искали возможность запрятать его в сумасшедший дом. Одни гости пришли из любопытства, другие — испытывая чувство долга, но все они были приятно очарованы любезностью и учтивыми манерами недавнего отшельника. Он заявил, что завершил основную часть намеченной им работы и, унаследовав состояние от почти забытого друга из Европы, намеревается провести оставшиеся годы жизни, приобретая вторую молодость благодаря покою, уходу и диете. Все реже и реже видели его в Рэд-Хуке, и все чаще вращался он в обществе, к которому принадлежал. Полицейские заметили любопытную вещь: гангстеры стали собираться у старой каменной церкви и танцевального зала вместо квартиры в подвальном этаже дома в Паркер Плейс, хотя и эта квартира, и позднее приобретенные дома кишели подозрительными людьми.
Затем произошли два инцидента — не одновременно, а через большой промежуток времени. Оба вызвали необыкновенный интерес, как считал Малоун. Во-первых, в «Eagle» появилось скромное и не бросающееся в глаза объявление о помолвке Роберта Свидама и мисс Корнелии Джеритсен из Бей-сайда, молодой женщины с превосходным положением, дальней родственницы почтенного жениха. Во-вторых, городская полиция организовала облаву в церкви, в которой устраивались танцы, после сообщения о том, что в одном из окон подвального этажа церкви видели лицо похищенного ребенка. Малоун принимал участие в этой облаве, находясь внутри, тщательно осмотрел место. Ничего не было обнаружено — фактически в здании никого не было в это время, но восприимчивый кельт почувствовал смутное беспокойство, глядя на окружающую обстановку. Он увидел вульгарно расписанные панели, которые ему не понравились. Панели изображали лики святых, но с необычно мирскими, сардоническими выражениями. В изображениях были допущены такие вольности, одобрить которые даже мирянину вряд ли позволило бы внешнее приличие. К тому же ему не могла доставить удовольствие надпись по-гречески на стене над кафедрой священника. Это было древнее заклинание, на которое он как-то наткнулся в Дублине, еще в то время, когда учился в колледже, и прочитал его дословный перевод:
О, друг и спутник в ночи, ты, кто наслаждается лаем собак и пролитой кровью, кто бродит среди теней между могилами, кто жаждет крови и заставляет ужасаться смертного, Gorgo, Mormo, тысячеликая луна, смотри благосклонно на наши жертвоприношения!
Заклинание заставило его содрогнуться, и опять вернулась к нему та смутная мысль о сходстве шумов, доносящихся из церкви, и ужасных, надтреснутых низких звуков органа, как ему представлялось. Он вновь содрогнулся, обратив внимание на ржавчину на краю металлической чаши, стоявшей на алтаре. Остановившись, беспокойно огляделся по сторонам, когда ноздрей его коснулся необычный, отвратительный запах. Это зловоние встревожило его, не давая покоя, и он принялся осматривать подвал с особым усердием. Это место было ненавистно ему. Однако не были ли эти богохульно расписанные панели и подписи не чем иным, как невежественной выходкой, совершенной несведущими людьми?
К тому времени, когда должна была состояться свадьба Свидама, похищение детей превратилось в настоящую эпидемию. Известия подобного рода не сходили со страниц газет. В основном жертвами становились дети низших слоев населения. Все возрастающее число исчезновений вызвало чувство неукротимой ярости. Газеты выражали свое недовольство и требовали от полиции более решительных действий. И опять полицейский участок на Батлер-Стрит направил своих людей на Рэд-Хук в поисках улик и для поимки преступников.
Малоун был очень рад, что опять напал на след, и чувствовал гордость за то, что участвует в обыске одного из домов Свидама на Паркер Плейс. Там действительно не было обнаружено ни одного украденного ребенка, несмотря на рассказы о криках и красной ленте, якобы подобранной под окном подвального этажа. Но рисунки и непристойные надписи на облупившихся стенах большинства комнат и примитивная химическая лаборатория на чердаке убедили детектива в том, что он напал на след чего-то потрясающего. Рисунки были ужасными — отвратительные монстры всяческих видов и размеров и пародии на контуры человеческого тела и его частей, которые не поддавались описанию. Надписи были сделаны красным цветом с использованием изречений на самых разных языках: арабском, греческом, латинском, древнееврейском. Малоун не все мог прочитать, но то, что он все-таки сумел разобрать, было достаточно зловещим и каббалистическим. Один часто повторяющийся эпиграф был написан на смеси греческого и древнееврейского языков, наводя на мысль об ужасах сатанинских воскрешений духов времен александрийского упадничества:
«HEL. HELOYM. SOTNEJR. EMMANUEL. SABAOTH. AGLA. TETRAGRAMMATON. AGYROS. OTHEOS. ISCHYROS. ATHANATOS. I EH OVA. VA. ADONAI. SADAY. HOMOVSION. MESSIAS. ESCHEREHEYE».
Круги и пентаграммы неясно вырисовывались на каждой стороне и несомненно говорили о странных поверьях и стремлениях тех, кто так убого, по-нищенски жил здесь. Однако в подвале он наткнулся на удивительную вещь — груду слитков настоящего золота, небрежно прикрытую холстом. На блестящей поверхности слитков были начертаны те же таинственные иероглифы, которые украшали стены. Во время облавы обитатели комнат, жители Востока с раскосыми глазами, оказали весьма пассивное сопротивление. Они толпами выходили из каждой двери. Не обнаружив никаких улик, относящихся к делу о похищении детей, полицейские оставили все как было, но капитан полиции написал Свидаму послание, советуя ему поближе присмотреться к своим жильцам в связи со все увеличивающимся возмущением горожан.
Затем наступил июнь и принес еще одну сенсацию — свадьбу. В самый полдень во Флэтбуше царили радость и веселье. Разукрашенные по случаю автомобили запрудили улицы возле старой голландской церкви. Огромный навес простирался от ее дверей до шоссе. Ни одно местное событие никогда еще не превосходило свадьбу Свидама — Джеритсен по общей роскоши и размаху. Лица сопровождавших жениха и невесту на пристань на Кьюнард были если не из самого фешенебельного общества, то во всяком случае из числа тех, кто достаточно высоко стоял на социальной лестнице. В пять часов новобрачные в последний раз помахали рукой, и огромный лайнер боком отошел от длинной пристани, медленно развернулся штосом по направлению к морю и величественно поплыл навстречу открывающимся водным просторам, сулящим чудеса Старого Света. К ночи небо расчистилось, и загулявшиеся допоздна пассажиры могли любоваться звездами, мерцающими в темном небе над незагрязненным океаном.
Никто не может сказать, что первым привлекло внимание пассажиров: судно «дикого» плавания или громкий крик. Возможно, это случилось одновременно, но что толку вычислять это сейчас? Крик донесся из отдельной каюты Свидама, и матрос, взломавший дверь, возможно, мог бы рассказать нечто потрясающее, если бы сам тотчас же не сошел с ума. Его пронзительный вопль звучал громче, чем вопль первой жертвы. После увиденного он бегал по судну с глуповатой улыбкой на лице до тех пор, пока его не поймали и не надели наручники. Судовой врач, который вошел в каюту после матроса и включил свет, не сошел с ума, но никому не рассказал о том, что предстало его взору. И только позже поведал об этом Малоуну в своей переписке, когда последний находился в Чепачете. Это было убийство — удушение, но нет необходимости говорить, о том, что следы когтей на горле мисс Свидам не могли принадлежать ни руке ее мужа, ни какой-либо другой человеческой руке, или о том, что на белой стене вспыхивала на мгновение и гасла написанная омерзительным красным цветом надпись, которая будучи позднее восстановлена по памяти, кажется, была ни чем иным, как словом «Lilith» на вызывающем ужас халдейском языке. Но не стоит упоминать об этих знаках, так как они быстро исчезли. Что касается Свидама, то тут следует призадуматься. Доктор совершенно определенно заверил Малоуна, что видел ЭТО. Открытый бортовой иллюминатор — как раз перед тем, как доктор включил освещение — на секунду вспыхнул фосфоресцирующим светом, и в какой-то момент показалось, что в ночи по ту сторону иллюминатора эхом отдалось тихое, отвратительное, дьявольское хихикание. Но каких-либо реальных контуров глазу не было видно, В качестве доказательства доктор упоминает о том, что вполне здоров психически.
Затем все внимание переключилось на судно «дикого» плавания. От него отчаливали лодки, и вскоре целая орда смуглых и дерзких головорезов в офицерской форме наводнила временно остановившийся лайнер. Они требовали Свидама — живым или мертвым — так как знали, что он отправился в путешествие на этом судне и по известным причинам должен был умереть. Капитанская палуба превратилась в ад кромешный. В какое-то мгновение между сообщением доктора и событиями в каюте и требованием прибывших людей даже самый мудрый и самый храбрый моряк не мог предположить, как следует поступить. Неожиданно старший из толпы, араб с отвратительным негроидным ртом, протянул грязную, мятую бумагу капитану. Она была подписана Робертом Свидамом. Содержание ее было весьма странным.
«В случае неожиданного или необъяснимого несчастного случая или смерти, происшедшей со мной, пожалуйста, передайте меня или мое тело без каких бы то ни было возражений в руки предъявителя этой бумаги и иже с ним. Для меня и, возможно, для вас все зависит от безусловного согласия. Объяснение узнаете в свое время. Не подводите меня сейчас.
Роберт Свидам»
Капитан и доктор смотрели друг на друга, и последний сказал что-то шепотом. В конце концов они кивнули с беспомощным видом и повели непрошеных гостей в каюту Свидама. Доктор взглядом дал понять капитану, чтобы тот отвернулся, когда отпирал дверь каюты, чтобы впустить туда необычных моряков. Он не мог спокойно вздохнуть до тех пор, пока они шеренгой не вышли из каюты со своей ношей после долгой, по непонятной причине, подготовки. Ноша была завернута в постельное белье, и доктор был рад, что контуры тела не слишком отчетливо выступали. Так или иначе, тело передали за борт и отправили на судно, так и не сняв с него покров. Лайнер продолжил свой путь, а доктор и судовой гробовщик остались в каюте Свидама, чтобы сделать все необходимое и оказать последние услуги. И вновь доктор вынужден был скрывать и даже лгать о том, что здесь произошло. Когда гробовщик спросил его, зачем он стер следы крови миссис Свидам, тог пропустил вопрос мимо ушей. Не стал он указывать и на пустые флаконы на полочке, а также на запах в раковине, что свидетельствовало о торопливом избавлении от содержимого флаконов. Карманы тех людей — если они были люди — были набиты до предела, когда они покидали корабль. Через два часа весь мир по радио узнал-то, что должен был знать об этом невероятном случае.
В тот же июньский вечер, ничего не ведая о том, что произошло на пароходе, Малоун был поглощен делами в Рэд-Хуке. Казалось, необыкновенное возбуждение царило в этом районе. Жители были охвачены каким-то непонятным волнением. И будто предчувствуя нечто необычное, они толпились вокруг церкви, в которой устраивались танцы, и домов в Паркер Плейс. Только что исчезли трое детей — голубоглазые норвежцы — с улиц, расположенных неподалеку от Гауэнус. Ходили слухи о формировании некой группы крепких викингов из той части района. Малоун уже несколько недель побуждал своих коллег попробовать провести тщательный обыск. Наконец, движимые обстоятельствами, более очевидными для их здравого смысла, чем предположения дублинского мечтателя, они согласились нанести последний удар. Беспокойство и предчувствие чего-то зловещего тем вечером стало решающим фактором, и около полуночи рейдерская группа, состоящая из полицейских трех участков, нагрянула на Паркер Плейс и прилегающие улицы. Они колотили в двери, врывались в дома, выгоняли из освещенных свечами комнат и арестовывали невероятные толпища странных пришельцев в узорчатых рясах, митрах и других невиданных одеяниях. Многое было потеряно в этой суматохе, так как предметы торопливо прятались в случайные ниши, из которых исходил запах, внезапно притупленный воскурением острого фимиама. Повсюду была разбрызгана кровь, и Малоун был потрясен, когда увидел жаровню или алтарь, откуда все еще поднимался дым.
Ему хотелось быть в нескольких местах одновременно, и он решил направиться на квартиру Свидама в подвальном этаже дома только после того, как связной сообщил, что полуразрушенная церковь — танцевальный зал полностью очищена. Квартира, размышлял он, должна содержать ключ к разгадке этого необычного культа, вождем которого несомненно был таинственный чернокнижник. С надеждой и ожиданием обыскивал он комнаты с затхлым воздухом, отметив про себя, что запах в них напоминает кладбищенский. Он с любопытством смотрел на книги, инструменты, золотые слитки и флаконы со стеклянными пробками, небрежно разбросанные повсюду. Откуда-то возник тощий черно-белый кот. Он скользнул между ногами Малоуна, сбив его с толку и перевернув на ходу склянку, наполовину заполненную красной жидкостью. Потрясение было столь сильным, что по сей день Малоун не был уверен в реальности происшедшего, но до сих пор представляет себе, как животное метнулось прочь с какими-то чудовищными превращениями и странными движениями. Затем он заметил запертую на замок дверь, ведущую еще ниже в подвал. Он поискал, чем ее отпереть. Рядом стояла массивная табуретка, ее жесткого сидения было более чем достаточно для старенькой двери. Появилась трещина, потом она увеличилась, вскоре поддалась вся дверь — но с другой стороны, откуда доносился рев ледяного ветра со всеми зловонными запахами бездонной ямы. Этот ветер обладал не земной и не небесной засасывающей силой, которая словно кольцом обвила его и потащила сквозь дыру в безмерные просторы, наполненные шорохом, завыванием и взрывами издевательского смеха.
Конечно, это был сон. И все доктора твердили ему об этом, а он ничего не мог доказать. В самом деле, лучше бы у него были эти доказательства. Тогда бы вид старых кирпичных трущоб и темнолицых людей не въелся ему так глубоко в душу. Но в тот момент все это было самым что ни на есть реальным. Ничего не могло вычеркнуть из его памяти те темные как ночь склепы, те огромные сводчатые галереи, по которым молча вышагивали исполинские, нечеткие фигуры с полусъеденными существами на руках, уцелевшие части которых пронзительно кричали, прося милосердия, или хохотали от безумия. Запахи фимиама и гниения, слившись в единое целое, образовали отвратительную смесь, а темный воздух буквально кишел расплывчатой, полувидимой массой бесформенных, элементарных созданий с глазами. Где-то плескалась, ударяя об ониксовые пирсы, темная липкая вода. Однажды раздался трепетный, звенящий звук маленьких колокольчиков, несшийся навстречу безумному хихиканию обнаженного, фосфоресцирующего чудовища, которое возникло в поле зрения, вскарабкалось на берег и крадучись взобралось на резной золотой пьедестал, стоящий на заднем плане.
Беспредельный мрак таил в себе огромные возможности, в которых — как можно себе представить — и лежит корень зла, способный поглотить города, целые нации и народности. Это не что иное, как наказание за всеобъемлющий грех. Мучимый, терзаемый дьявольскими обрядами, мрак начал свое шествие с оскалом смерти, чтобы разложить всех людей, превратить в нечеловеческие создания, слишком отвратительные, чтобы предать их земле. Здесь сатана творил свой вавилонский суд, и в крови чистого и безгрешного ребенка омывались прокаженные конечности фосфоресцирующей Lilith. Демон и дьяволы в образе женщин истошно воняли, восхваляя Гекату, а безглавые уродцы что-то мычали, обращаясь к Великой Матери. Козлы подпрыгивали под тонкие взвизги проклятой флейты, a Aegypans нескончаемо гонялся за уродливыми фавнами, прыгая во камням, будто непомерно раздувшаяся жаба. И Молох, и Иштар присутствовали здесь, в квинтэссенции всего этого проклятья стерлись границы осознания, и воображение человека было открыто для видении царства ужасов, и зло приобрело над ним безграничную власть. Весь мир и Природа были беспомощны перед этим зловещим мраком. Никакие знания и молитвы не могли противостоять той вальпургиевой ночи, которая наступила, когда ученый муж открыл тайну, давшую ему класть над темными силами бытия.
Неожиданно луч света вырвал из тьмы эти призраки, и до Малоуна донесся плеск весел на вода среди шума, издаваемого богопротивными существами, которых не должно быть в живых. Это была лодка с фонарем на носу, стрелой мчавшаяся к железному кольцу на покрытом слизью каменном пирсе. Из все вышли на берег несколько человек со смуглой кожей. Они несли длинную ношу, закутанную в простыню. Они поднесли ее к обнаженному фосфоресцирующему чудовищу, восседающему на резном золотом пьедестале. Чудовище захихикало и коснулось ноши лапой. Затем они распаковали ее и прислонили к пьедесталу труп дородного пожилого мужчины с коротко остриженной бородой и нечесаными седыми волосами. Чудовище вновь захихикало, а прибывшие на лодке вытащили из кармана бутылочки с красной жидкостью, омыли его лапы, а потом дали ему отпить.

В то же мгновение из сводчатой галереи, уводящей в бесконечную даль, разнеслось демоническое грохотание и сопение омерзительного органа, задыхающегося от дьявольских насмешек и трескучих сардонических низких звуков в басах. В тот же момент каждое живое существо пришло в движение, славно наэлектризованное. Они тут же образовали ритуальную процессию. Вся эта кошмарная орда каким-то скользящим движением направилась в поисках звука — козел, сатир, Aegypan, демоны, дьяволы в образе женщин, лемур, скачущие лягушки, бесформенные элементы организма с глазами, ревун с собачьей мордой — во главе с гнусным фосфоресцирующим чудовищем, которое самодовольно сползло с резного трона и теперь с вызывающим видом вышагивало впереди, неся труп дородного старика с остекленевшими глазами. Странные темнокожие люди танцевали, замыкая процессию, и вся эта колонна скакала и подпрыгивала с дионисийской яростью и разгулом. Малоун, пошатываясь, прошел за ними несколько шагов в бреду или легком опьянении, сомневаясь относительно своего места в этом или каком-либо ином мире. Затем он повернулся, в нерешительности опустился на холодный сырой камень, тяжело дыша и вздрагивая, когда дьявольский орган рокотал, накликая беду. Завывающий, стучащий, звенящий шум безумной процессии становился все слабее и слабее.
Смутно сознавал он представшие перед его глазами ужасы и отвратительное рокотание органа, доносящееся издалека. Время от времени сквозь темную аркаду до него долетал вопль или жалобный вой ритуальной процессии. В конце концов перед его взором возникло то жуткое заклинание на греческом языке, которое он прочитал над кафедрой священника в церкви, где устраивались танцы.
«О, друг и спутник ночи, ты, кто наслаждаешься лаем собак (тут раздался отвратительный вой) и пролитой кровью (здесь послышались не поддающиеся описанию звуки, которые могли состязаться с отвратительным пронзительным скрежетом), кто бродит среди теней между могилами (он услышал свистящий вздох), кто жаждет крови и заставляет ужасаться простого смертного (краткие, резкие вскрики из множества глоток), Gorgo, (вторится эхом), Mormo (повторяется в экстазе) тысячеликая луна (вздохи и звуки флейты), смотри благосклонно на наши жертвоприношения!»
Тут откуда-то снизу поднялся громкий крик, затем шипящие звуки почти заглушили потрескивающие низкие звуки органа. Затем послышалось затрудненное дыхание как будто из множества глоток и разноголосый шум. Лаяние и мычание слились в словам «Lilith, Великая Lilith, смотри на новобрачного!» И вновь крики и несмолкающий шум буйства и отчетливый звук шагов бегущей фигуры. Он приближался, и Малоун приподнялся на локте, чтобы разглядеть бегущего.
В склепе, недавно еще плохо освещенном, стало чуть светлее, и в этом дьявольском отблеске появилась быстро приближающаяся фигура того, кто не должен был бегать, чувствовать и вообще дышать, — окоченелый труп дородного старика с остекленевшими глазами. Теперь он уже не нуждался в поддержке, так как был оживлен дьявольскими заклинаниями только что завершившегося шабаша. После того, как он стремительно пронесся мимо, появилось обнаженное, хихикающее фосфоресцирующее чудовище, которому полагалось находиться на резном пьедестале, а вслед за ним, часто и тяжело дыша, вся остальная наводящая страх компания отвратительных созданий. Труп уходил от преследователей и, казалось, приближался к какому-то неизвестному ему объекту. Он напрягал каждый мускул своей прогнившей плоти, чтобы добраться до резного золотого пьедестала, чья магическая сила, очевидно, была очень велика. Еще один миг, и он достиг своей цели в то время, как бегущая по его следу толпа изо всех сил стремилась, как безумная, помешать этому. Но было уже слишком поздно, так как в этом последнем рывке они порвали свои сухожилия, — вся эта огромная, зловонная масса, барахтаясь, рухнула на пол, растекаясь как студнеподобная жижа. А труп с широко раскрытыми глазами это был не кто иной, как Роберт Свидам, — достиг своей цели и праздновал свой триумф.
Толчок был потрясающим, золотой пьедестал выдержал его. И в то время, как сам толкающий рухнул, превратившись в гниющее мокрое пятно на полу, пьедестал, который он толкал, зашатался, накренился и в конце концов свалился со своего ониксового основания в мутные воды, протекавшие внизу, сверкнув на прощение резными боками, перед тем как тяжело опуститься в невообразимую пучину преисподней. Но в тот же момент вся эта жуткая сцена начала постепенно растворяться и превратилась в ничто прямо перед глазами потрясенного Малоуна. И он упал в обморок посреди громоподобного грохота, который, казалось, уничтожил все зло на Земле.
Сон Малоуна, привидевшийся ему до того, как он узнал о смерти Свидама и событиях на лайнере, был самым любопытным образом дополнен некоторыми странными подробностями, имеющими отношение к делу, хотя это вовсе не основание для того, чтобы верить ему. Три старых дома на Паркер Плейс, которых не только коснулось разрушение, но которые, без сомнения, давным-давно уже прогнили, рухнули без каких-либо видимых причин, похоронив под своими обломками как полицейских, так и живших там азиатов. С обеих сторон потери были большими. Спаслись только те, кто находился в подвальных помещениях. Малоуну повезло, что он был в этот роковой момент глубоко под домом Роберта Свидама. То, что он действительно там находился, никто не склонен был отрицать. Когда его нашли, он лежал без сознания на краю темной как ночь заводи среди груды обломков и останков человеческих тел. Он был почти неузнаваем, как и тело Свидама, находившееся в нескольких футах от него. Как выяснилось позже, именно здесь пролегал тот подземный канал, которым пользовались контрабандисты. Темнокожие матросы, снявшие с парохода тело Свидама, доставили его домой. Их самих так и не нашли. По крайней мере, их не оказалось среди опознанных, а судовой врач не был удовлетворен результатами работы полиции.
Очевидно, Свидам руководил контрабандными перевозками людей, так как канал, который вел в его дом, был одним из нескольких подземных каналов и туннелей, расположенных поблизости. Из дома туннель тянулся в подземную часовню, что располагалась под церковью, где устраивались танцы. В эту подземную часовню можно было попасть только через узкую потайную дверь в северной стене. Именно там было найдено нечто странное, необычное и ужасное. Там оказался рокочущий орган, а также просторная-сводчатая часовня с деревянными скамьями и необычным образом украшенный алтарь. Вдоль стен тянулись маленькие кельи, в семнадцати из которых — печально об этом говорить — были обнаружены одинокие узники в состоянии полного идиотизма, закованные в цепи. Среди них четыре женщины с грудными детьми, внешний вид которых вызывал неподдельную жалость. Эти малыши умирали вскоре после того, как их выносили на свет. По мнению докторов, это весьма милосердно. Никто из тех, кто осматривал их, кроме Малоуна, не вспомнил безрадостный и мрачный вопрос старого Дельрио: «An sint unguam daemones incubi et succubde, et an ex tali congressu proles enascia guea?»[84]
Прежде чем каналы были заполнены водой, их дно было самым тщательным образом расчищено и углублено. При этом на дне оказалось поразительное количество распиленных и расщепленных костей всех размеров, были обнаружены следы похищения людей, хотя только двое из уцелевших узников могли так или иначе быть связанными с этим. Теперь они отбывают свой срок в тюрьме, так как попытка признать их виновными как соучастников убийств оказалась неудачной. Резной золотой пьедестал, так часто упоминаемый Малоуном и имеющий, по его мнению, первостепенное оккультное значение, так никогда и не был найден, хотя в одном месте под домом Свидама был обнаружен колодец, столь глубокий, что его невозможно было осмотреть. Он был перекрыт у отверстия и зацементирован, когда строили фундамент для новых домов. Малоун часто размышлял о том, что же покоится на его дне. Полиция, удовлетворенная тем, что разогнана столь опасная банда маньяков и контрабандистов, передала федеральным властям дело о признанных невиновными курдах, перед высылкой которых была убедительно доказана их принадлежность к клану почитателей дьявола. Судно «дикого» плавания и его команда так и остались нераскрытой тайной, хотя циничные детективы вновь готовы бороться с контрабандным провозом людей, товаров, спиртных напитков и с прочими рискованными предприятиями. Малоун считает таких детективов людьми ограниченными, так как их не удивляет множество необъяснимых деталей и наводящая на размышления неясность всего случившегося. Следует отметить, что он критически настроен и в отношении газет, которые видели во всем этом только нездоровую сенсацию. Но он довольствуется тем, что мирно отдыхает в Чепачете, чтобы время постепенно стерло в его памяти все то страшное, что он пережил.
Роберт Свидам покоится рядом со своей женой на кладбище в Гринвуде. Не было приличествующей случаю похоронной процессии, и родственники почувствовали благодарность и облегчение, когда дело это быстро забылось. Связь старого ученого со всеми теми ужасами, которые творились в Рэд-Хуке, так никогда и не была юридически доказана, ведь его смерть опередила то расследование, которое должно было начаться и с которым бы он неминуемо столкнулся. О его кончине редко упоминалось, и Свидамы надеются, что последующие поколения смогут вспоминать его только как тихого отшельника, занимавшегося безвредной магией и фольклором.
Что касается Рэд-Хука, то он остался таким же, каким и был. Свидам был, и Свидама не стало. Все жуткие события сгустились и постепенно сошли на нет, но зло, дух тьмы, убожества и нищеты все еще витает среди обитателей старых кирпичных домов. Подозрительные личности все так же рыщут по улицам, озабоченные своими темными делами, мимо окон, в которых по непонятной причине то появлялись, то исчезали свет и искривленные лица. Извечный ужас — его гидра с тысячью головами, а культы тьмы уходят корнями в богохульства более глубокие, чем колодец Демокрита. Сатанинский дух вездесущ и победоносен, и множество юнцов из Рэд-Хука с затуманенным взором и прыщавыми лицами все так же продолжают свое дело, шествуя друг за другом из пропасти в пропасть — никто не знает, откуда и куда, — побуждаемые таинственными законами биологии, которых они никогда не смогут понять. А что касается остальных дел, то по-прежнему больше людей прибывает в Рэд-Хук, чем покидает его. Ходят слухи, что прорыты новые каналы под землей и былые связи возобновились.
Церковь, в которой устраивались танцы, теперь снова превратилась в танцевальный зал, и странные лица вновь мелькают в окнах по ночам. Недавно один полицейский высказал мысль о том, что засыпанную подземную часовню следует вновь раскопать с целью, которую не так-то просто объяснить. Кто мы такие, чтобы бороться с тем, что древнее истории и человечества?
Малоун перестанет содрогаться беспричинно — только на днях он случайно услышал, как отвратительная косоглазая ведьма учила чему-то ребенка в тени тихого внутреннего дворика. Он прислушался, и до него долетели слова, что малыш повторял за ней снова и снова:
О, друг и спутник в ночи, ты, кто наслаждается лаем собак и пролитой кровью, кто бродит среди теней между могилами, кто жаждет крови и заставляет ужасаться простого смертного, Gorgo, Mormo, тысячеликая луна, смотри благосклонно на наши жертвоприношения!
Перевод с англ. А. Сыровой

Пол Андерсон
ЭУТОПИЯ

— Gif thit nafn!
Датские слова прозвучали из динамика радио, установленного в машине, прежде чем их успел заглушить рев винтов геликоптера, перекрывший звук двигателя и визг шин.
— Кто ты? — повторил голос.
Язон Филиппо взглянул вверх сквозь прозрачную крышу автомобиля. Над его головой тянулась полоса голубизны между двумя стенами елей, растущих по обе стороны дороги. Солнечные лучи отражались от корпуса армейского геликоптера, летящего над шоссе.
Язон почувствовал, что холодный пот собирается у него под мышками и стекает вдоль ребер. «Нельзя ударяться в панику, машинально подумал он. — Боже, помоги мне». То, что он призывал на помощь, было результатом многолетней тренировки. Обычная психосоматика: превозмоги симптомы, заставь успокоиться пульс и победишь страх перед смертью. Он молод и мог потерять многое, но философы Эутопии хорошо воспитывали детей, отданных им. «Ты будешь мужчиной, то есть зрелым человеком, — говорили ему, — а сущность человечности заключается в независимости от инстинктов и рефлексов. Мы свободны, поскольку умеем владеть собой, и этим можно гордиться».
Он не мог прикинуться обычным гражданином Норландии — не говоря обо всем прочем, его эллинский акцент был слишком заметен — он не мог попытаться обмануть пилота геликоптера (хотя бы на несколько минут), изображая пришельца из какой-нибудь другой страны этого мира. Понизив голос, чтобы хоть немного замаскировать акцент, Язон спросил:
— А кто ты такой? И чего хочешь?
— Я Рунольф Эйнарсон, капитан армии Оттара Торкелсона, Законника Норландии. Я преследую человека, навлекшего вендетту на свою голову. Скажи свое имя.
«Рунольф, — подумал Язон, — я хорошо помню тебя. Стройный мужчина, темные волосы которого говорили о том, что в его жилах течет тиркерская кровь. Однако твои голубые глаза выдают, что другие твои предки прибыли из Туле. (Замечание стороннего наблюдателя: нет, я смешиваю разные истории. Я бы назвал коренных жителей эритрейцами, а ты называешь страну своих европейских предков Данарик.)»
— Меня зовут Ксипек, я купец из Мейако, — ответил он, не останавливаясь. Благодаря бешеной езде всю ночь после бегства из замка Законника, уже совсем немного стадий отделяло его от границы. Он не смел даже надеяться, что ему удастся забраться так далеко, но каждый оборот колес приближал спасение. Деревья мелькали по сторонам мчащейся машины.
— Если все так, как ты говоришь, я должен буду извиниться, что задержал тебя, — произнес из динамика голос Рунольфа. — Обратись к Законнику и быстро получишь возмещение за моральный ущерб, причиненный тебе. Но сейчас остановись и выйди из машины, чтобы я мог увидеть твое лицо.
— А, собственно, зачем? — Еще несколько секунд промедления.
— В Эрнвике гостил некто со Старой Земли. (Из Европы — автоматически перевел Язон.) Оттар Торкелсон принимал его необычайно сердечно, а этот мерзавец сделал такое, что только смерть может списать в забвение. Вместо того, чтобы принять вызов Торкелсона, он украл машину — той же марки, что у тебя, — и бежал.
— А разве не хватило бы назвать его всенародным мерзавцем? («Все же я кое-чему научился у этих варваров…»)
— Странные слова для мейаканца! Немедленно остановись и выводи, или я открою огонь!
Язон вдруг обнаружил, что до боли стиснул зубы. О, Гадес! Кто сумел бы запомнить обычаи, царящие в сотнях малюсеньких государств, на которые поделен весь континент? Вестфалия была еще более фантастической мозаикой, чем Земля в той истории, в которой этот континент назывался Америкой. «Хорошо, подумал он, — посмотрим, какие у меня шансы еще раз вернуться туда…»
— Очень хорошо, — сказал он. — У меня нет выбора. Но можешь не сомневаться, что я потребую компенсацию за оскорбление.
Он тормозил медленно, как только мог. Дорога извивалась перед ним, как твердая черная лента, разделяющая огромные волосы деревьев. Язон понятия не имел, подрезали их когда-нибудь или нет. Может, когда белые люди впервые переплыли через Пенталимну (или Пять Озер, как их называли в его истории), чтобы основать город Эрнвик, где Дулут находился в Америке, а Ликополис в Эутопии. В то время Норландия простиралась далеко за пределы края озер, но потом начались войны с дакотами и мадьярами, уменьшившие ее территории. А развитие торговли — в последнее время это была торговля синтетикой — позволило жителям страны использовать ее глубоко расположенные районы как охотничьи угодья. Спустя триста лет старый лес восстановил свои права.
Перед его глазами как живой возник образ этого края, каким он выглядел в его истории. Рощи и сады, деревни, построенные с мыслью о красоте, гибкие коричневые тела, музыка при свете луны… Даже страшная Америка казалась ближе, чем этот лес.
Впрочем, это был только образ действительности, затерянной в многочисленных измерениях пространства — времени. Здесь он был один, а над его головой кружила смерть. И перестань жалеть себя, идиот! Экономь энергию, если хочешь выжить…
Машина резко остановилась у края дороги, Язон напряг мышцы, открыл дверцу и выскочил.
Из динамика радио за его спиной донеслись проклятья. Геликоптер сделал круг и как ястреб устремился вниз; пули посыпались градом.
Однако Язон был уже среди деревьев, их ветки закрыли его как крыша, сквозь которую тут и там пробивались лучи солнца. Стволы деревьев стояли в своей мужественной красе, и женщины могли бы позавидовать их аромату… Опавшие иглы, покрывающие землю, глушили удары его ног, откуда-то доносился голос дрозда. Язон бросился на землю в тени ближайшей ели и лежал тяжело дыша, а удары его сердца почти заглушали зловещий рев геликоптера.
Через минуту геликоптер исчез где-то вдали — Рунольф возвращался к своему хозяину. Оттар отправится в погоню на лошадях и возьмет с собой собак, ибо только так можно схватить беглеца. Но у Язона будет пара часов передышки.
А потом… Он призвал на помощь всю свою тренированность и стал думать. Если Сократ, чувствуя у сердца холод цикуты, мог говорить с афинскими юношами о мудрости, то Язон Филиппо в трудный час может, по крайней мере, оценить свои шансы. Кроме того, призрак смерти на какое-то время отступил.
Он бежал из Эрнвика не с пустыми руками. У него был пистолет местного производства и компас, полный карман золотых и серебряных монет, а на себе плащ, который мог служить одеянием, а также куртка, брюки и ботинки, что в целом составляло одежду, носимую в центральной Дестфалии. Кроме того, у него имелся самый важный инструмент — он сам: высокий, крепко сложенный мужчина — со светлыми волосами и небольшим носом, который получил от своих галлийских предков — он считал учителями людей, завоевавших лавры не на одной олимпиаде. Но еще большее значение имел его разум и вся нервная система. Основы логики и семантики, заложенные в него педагогами Эутопии, стали для его разума чем-то таким же естественным, как дыхание для тела. Память его была натренирована так, что ему не требовалась карта. Короче говоря, хоть он и совершил катастрофическую ошибку, но знал, что его разум и тело справятся с самыми экзотическими проявлениями человеческого духа.
А самое главное — у него была причина жить. Это было нечто большее, чем слепое желание сохранить себя самого, возникшее уже в первой частице ДНК, когда та решила дать жизнь другим частицам. У него было кого любить и к кому возвращаться, была своя страна — Эутопия, Хорошая Земля, которую народ создал две тысячи лет назад на новом континенте, оставив за собой ненависть и ужасы Европы, забрав труды Аристотеля и придя в конце концов к мысли, что «цель народа есть достижение всеобщей гармонии».
Язон Филиппо возвращался на родину.
Он встал и пошел на юг.
Это случилось в тетраду, в день, который его преследователи называли онсдаг, а через полутора суток, на закате солнца, в день, называемый торсдаг, он все еще пробирался по лесу, шатаясь из стороны в сторону, с песком, скрипящим на зубах, и животом, приросшим к позвоночнику. Он шел на дрожащих ногах, отгоняя тучи мух, которых притягивал пот, выступающий на коже. Далеко позади слышался лай гончих псов.
Звук рога, похожий на долгий металлический рев, донесся из-за деревьев. Они шли по его следам, а он не мог двигаться быстрее конных преследователей. Никогда уже ему не увидеть звезд.
Рука Язона машинально коснулась оружия. «По крайней мере, нескольких из них я возьму с собой…» Хотя, нет, ведь он эллин, никого не убивающий без причины, даже варваров, желающих лишить его жизни только потому, что он нарушил одно из их табу. «Стану под голым небом, приму в себя пули и уйду во тьму, помня о Эутопии, обо всех своих друзьях и прежде всего о Ники — моей любви…»
Краем глаза он заметил, что вышел уже из соснового леса и идет через березовую рощу. Свет золотил листья деревьев и ласкал их стройные белые стволы. Откуда-то спереди донесся рокот мотора.
Язон остановился, только теперь поняв, насколько устал. К счастью, его организм располагал резервами, которые полностью собранный человек мог еще использовать. Он убрал из сознания далекий лай собак, всякую боль и усталость и начал дышать ритмично, сосредоточившись на чистоте и свежести вдыхаемого воздуха и представляя атомы кислорода, доходящие до каждой клетки тела. Успокоив отчаянно колотившееся сердце, он придал ему медленный, глубокий ритм; некоторое время напрягал и расслаблял мышцы, пока не заставил их работать нормально. Боль, терзавшая тело, теперь исчезла, а отчаяние, пожирающее душу, сменилось покоем и холодной рассудительностью. К югу перед ним раскинулись обработанные поля: ветер ходил волнами по молодым всходам, поблескивающим золотом в лучах заходящего солнца. Невдалеке виднелась группа строений одинокой фермы — длинные и низкие здания с острыми крышами. Из труб поднимался к небу дым. Однако прежде всего взгляд Язона остановился на мужчине, сидевшем в кресле трактора, работающего в поле. Хотя в этом мире уже знали диэлектрический двигатель, на севере он еще не вошел в употребление, поэтому Язон не удивился, почувствовав запах выхлопных газов. Подумать только, что он считал его самым отвратительным из встреченного в Америке! (Этот их хлев, который они называют Лос-Анджелес!) Теперь этот запах показался ему чистым и крепким — посланником надежды.
Мужчина заметил его, остановил трактор и потянулся к закрепленному сбоку ружью. Язон подошел ближе, подняв руки и показывая пустые ладони, чтобы убедить его в своих мирных намерениях. Водитель принял это с облегчением. Это был типичный венгр: толстый и крепкий, с выступающими скулами, вьющейся бородой и в расшитом костюме. «Значит, я уже перешел границу! — радостно подумал Язон. — Я ушел из Норландии и попал в воеводство Дакота!»
Прежде чем послать его сюда, антропологи из Института Парахронных Исследований, конечно, внушили ему знание главных языков Вестфалии. (Жаль только, что не озаботились лучше познакомить его с местным наречием…) Но с другой стороны, его слишком быстро перебросили сюда после случайной смерти Мегастенеса. Предполагалось, что опыт, полученный им в Америке, дает возможность заниматься этой версией истории, также бывшей версией неалександрийской. И, разумеется, насколько общества, живущие на разных Землях, отличаются друг от друга. Уральско-алтайские слова без труда сорвались с его языка:
— Будь здоров! Я прибыл сюда как проситель…
Фермер сидел спокойно, но напряжение не сходило с его лица. Он смотрел на Язона и вслушивался в лай собак, доносившийся издалека. Оружие он держал на коленях готовым к стрельбе.
— Ты человек вне закона? — спросил он.
— Не в этой стране, испан. (Еще одно определение «гражданин»!) Я — мирный купец со Старой Земли, прибывший к Законнику Оттару Торкелсону в Эрнвик. Но — не знаю, почему — его гнев обрушился на меня, и гнев настолько большой, что Оттар нарушил святой закон гостеприимства и хотел взять мою жизнь, жизнь своего гостя. Это его люди идут по моим следам. Ты слышишь голоса их собак.
— Норландцы? Но ведь здесь уже Дакота!
Язон кивнул, соглашаясь, и улыбнулся, показывая зубы, сверкнувшие белизной на грязном, небритом лице.
— Верно. Они вторглись на твою землю не спрашивая разрешения. Если ты ничего не сделаешь, они придут и убьют меня человека, просящего о помощи.
Фермер поднял свое ружье.
— Откуда мне знать, что ты говоришь правду?
— Отведи меня к Воеводе, — сказал Язон. — Тем самым ты выполнишь закон и сохранишь свою честь. — Он осторожно вынул из кобуры пистолет и протянул фермеру. — Я буду вечно твоим должником.
Недоверие, страх и гнев сменяли друг друга на лице тракториста. Он не взял протянутого оружия. Язон ждал. «Если я верно определил происходящее в его душе, то получил несколько часов жизни. Может, даже больше. Но это уже будет зависеть от Воеводы. Мой единственный шанс — это умение использовать их варварство: их раздробленность на мелкие государства, их безумное понятие чести, их фетиш собственности и самостоятельности — для того, чтобы делать с ними, что захочу. И если я проиграю, то умру как цивилизованный человек, этого у меня не отнимут».
— Псы уже учуяли тебя. Они будут здесь, прежде чем мы успеем уйти.
От облегчения у Язона закружилась голова. Он с трудом справился с этим и сказал:
— Мы можем им устроить сюрприз — дай мне немного бензина.
— Ага! — Фермер спрыгнул с трактора. — Хорошая мысль, чужеземец. Кроме того, спасибо — в последнее время здесь стало скучно.
На тракторе нашлась запасная банка с бензином. Они прошли назад по следам Язона, обильно поливая землю и деревья в лесу. Если это не задержит свору, подумал Язон, ее никто не задержит.
— А теперь сюда! Вернемся домой! — И венгр пошел впереди.
Его ферма окружала с трех сторон открытый двор. Из сарая тянуло сладким запахом сена и домашними животными, а из дома выскочили несколько детей и, открыв рты, уставились на пришельца. Жена фермера загнала их обратно домой, взяла ружье мужа и стала у двери, не меняя выражения лица.
Дом был солидный, обширный и мог понравиться, если ты не имел ничего против сложных, богатых узоров драпировки, покрывающей стены, и разноцветных колонн. В нише над камином виднелся семейный алтарь. Хотя большинство жителей Вестфалии давно отказались от веры в мифы своих предков, фермеры, похоже, по-прежнему чтили Триединого Бога Одина-Аттилу-Маниту. Фермер подошел к радиофону новейшей конструкции.
— У меня нет геликоптера, — сказал он, — но я могу попросить прислать.
Язон сел и стал ждать. Вскоре к нему подошла молодая девушка и подала кубок, наполненный пивом, и кусок ржаного хлеба с сыром.
— Будь нашим священным гостем, — сказала она.
— Я отдам за вас свою кровь, — не задумываясь ответил Язон. Ему с трудом удалось сдерживать себя и не наброситься на еду, как изголодавшийся зверь.
Он уже кончил есть, когда вернулся фермер.
— Еще несколько минут, — сказал он. — Да, я Арпад, сын Коломана.
— Язон Филиппо. — Назваться фальшивым именем показалось ему неразумным. Рука фермера была крепкой и теплой.
— Почему возник спор между тобой и старым Оттаро? — спросил Арпад.
— Мне устроили западню, — с горечью сказал Язон. — Я заметил, насколько свободны их женщины…
— Верно. Эти данскарки почти так же бесстыдны, как тиркерки. — Арпад снял с полки трубку и мешочек с табаком. Закуришь?
— Нет, спасибо. (Мы в Эутопии не опускаемся до употребления наркотиков.)
Лай собак все приближался и наконец перешел в жалобный вой: псы потеряли след. Послышался звук рогов. Арпад набивал свою трубку с таким спокойствием, словно находился на представлении.
— Как они, должно быть, ругаются! — Он оскалил зубы в улыбке. — Нужно признать, что данскары настоящие поэты, когда дело касается проклятий. И, конечно, они смелые люди. Я был в их стране десять лет назад, после большого наводнения, когда Воевода Бела послал им помощь. Они смеялись над потерями и разрушениями. А во время прошлых войн они задали нам неплохую трепку!
— Ты думаешь, в Вестфалии снова начнутся войны? — спросил Язон. Прежде всего ему хотелось избежать разговора о себе. Он не знал, как поступит его хозяин, узнав о причинах, заставивших его искать убежище в Дакоте.
— Нет, не в Вестфалии, здесь нужно слишком много сделать. Если молодую кровь не остудят поединки, то всегда можно стать наемником у варваров, которые ведут войны за морями. Или полететь на другие планеты. Мой старший сын как раз отправился в космос.
Язон вспомнил, что несколько государств, расположенных южнее, объединили свои ресурсы и усилия и предприняли первые путешествия за пределы Земли. Их технология достигла того же уровня, что и американская, а поскольку им не требовалось финансировать ни огромной оборонной машины, ни разветвленной системы государственных нужд, они уже основали базу на Луне и отправили несколько экспедиций на Арес. Со временем, подумал он, им удастся и то, что эллины сделали тысячу лет назад: превратить Афродиту в Новую землю. Но будет ли у них к тому времени настоящая цивилизация? Будут ли они рациональными людьми, живущими в рационально спланированном обществе? Он сильно сомневался в этом.
Когда за окном послышался рев двигателя, Арпад встал.
— Это твой геликоптер, — сказал он. — Торопись. Красный Конь отвезет тебя в Вараду.
— Данскары скоро будут здесь, — напомнил Язон.
— Ну и пусть! — Арпад пожал плечами. — Я извещу соседей, а данскары не так глупы, чтобы надеяться, что я этого не сделаю. Мы обменяемся ругательствами — я уже слышу этот турнир оскорблений! — а потом я велю им убраться с моей земли. Прощай, гость!
— Я хотел бы… хотел бы как-то отплатить тебе…
— Ерунда! Я немного поразвлекся… А кроме того, показал сыновьям, как поступает настоящий мужчина.
Язон вышел наружу. Геликоптер — гравитики здесь еще не знали — пилотировал молодой местный житель. Он представился и добавил, что перевезет чужака в столицу не столько ради услуги Арпаду, сколько из-за наглости норландцев, вторгшихся на территорию Дакоты. Это было все, что он сказал, и Язон вздохнул с облегчением, когда оказалось, что ему не нужно поддерживать разговор.
Машина поднялась в воздух. По дороге (они летели на юг) Язон видел деревни, построенные у пересечений дорог, тут и там двор какого-нибудь магната, однако прежде всего огромные волнистые равнины. Естественный прирост в Вестфалии, как и в Эутопии, жестоко контролировался, однако здесь, подумал Язон, его ограничивали не для того, чтобы обеспечить людям достаточно места для жизни и чистый воздух для дыхания. Здесь к контролю рождаемости относились как к инструменту экономической политики, он просто служил скупости отцов, не желавших делить свою собственность между многими детьми.
Солнце зашло, и почти полный месяц — большой, цвета дыни — взобрался на восточный край мира. Язон сел поудобнее, чувствуя костями каждое содрогание машины и почти наслаждаясь усталостью, и вгляделся в спутник Земли. Ничто не указывало на то, что там находится база людей. Он успеет вернуться домой, прежде чем в этой истории на Луне вспыхнут огни городов.
Однако дом находился бесконечно далеко. Он мог бы отправиться на самую дальнюю из звезд, которые начали загораться на фоне пурпурного заката — если бы можно было превысить скорость света — и не нашел бы Эутопии. Его отделяли от нее измерения и судьба. Только линии сил паравремени могли переправить его через реку времени и вернуть к родным берегам.
Почему мир такой, какой он есть? Это были пустые размышления, но его утомленный разум находил облегчение в решении этого инфантильного вопроса. Почему бог захотел, чтобы время разделилось на множество ответвлений, как будто огромное, тенистое дерево вселенных, Игдрасиль данскарских легенд? Может, для того, чтобы человек мог реализовать любую из своих возможностей?
Наверняка нет. Ведь многие из них были совершенно ужасающими…
Допустим, Александр Завоеватель не выздоровел от лихорадки, охватившей его в Вавилоне. Допустим, что — иначе, нежели в нашем мире, где, очищенный ею, он весь остаток жизни посвятил укреплению фундамента своей империи — допустим, что он умер.
Но ведь такое действительно случается, и не в одной истории. Затем империя распалась в результате войн за наследство, развитие Эллады и Ориента пошло разными путями. Зарождавшаяся наука выродилась в метафизику, а потом даже в мистицизм. Ослабевший мир Средиземноморья постепенно подчинили римляне: холодный, жестокий и нетворческий народ, считавший себя наследником Эллады даже после уничтожения Коринфа. Потом некий еретический жидовский пророк основал мистический культ и нашел сторонников во всем современном мире, ибо отчаяние охватывало людей. Это был культ, не знавший слова «терпимость». Его жрецы уничтожили многочисленные пути, по которым можно дойти до бога — все, кроме своего. Они вырубали святые рощи, убирали из домов их скромных божеств и убивали людей со свободными мыслями.
«О да, — подумал Язон, — со временем они потеряли влияние и значение. Благодаря этому могла возникнуть наука — почти на две тысячи лет позднее, чем у нас — однако их яд остался; убежденность, что человек должен приспосабливаться не только к господствующим формам поведения, но также к господствующим верованиям и убеждениям. В Америке это называют тоталитаризмом, и именно в результате этого дело дошло до изобретения атомного оружия.
Я ненавижу эту историю — ее грязь, расточительность, ограничения, ее головную боль и безумие. У меня никогда не было более трудного задания, чем изображать американца, чтобы изнутри увидеть, что эти люди думают о себе. Но сегодня… Мне жаль тебя, бедный, изнасилованный мир. Не знаю, пожелать ли тебе скорейшей гибели или надеяться, что когда-нибудь твои преемники завоюют себе то, чего мы добились века назад».
Нужно признать, что этому миру повезло больше. Христианство нашло свой конец под натиском арабов, викингов и венгров. Позднее Мусульманская Империя распалась из-за гражданских войн, и европейские варвары нашли мир открытым. Когда тысячу лет назад они пересекли Атлантику, то были слишком слабы, чтобы убивать туземцев, а потому им пришлось с ними сотрудничать. Тогда у них не было промышленности, они не могли уничтожить всего полушария и потому врастали в эту страну медленно, овладевая ею так, как мужчина своей возлюбленной.
Но эти огромные темные леса, угрюмые равнины, безлюдные пустыни и горы с бегающими по ним козами… Атмосфера этого края проникала в их души, ив сердцах они навсегда останутся дикарями.
Язон вздохнул, уселся поудобнее, заставил себя заснуть, и каждый из его снов носил имя Ники.
Там, где водопад положил конец навигации по этой большой реке, известной то как Зевс, то как Миссисипи или еще Длинная Река, народ принципиально оседлый, не развивший воздушного транспорта в такой степени, как это произошло в Эутопии, построил город. Торговля и военная активность повлекли за собой возникновение определенной политической системы, искусства, науки, педагогики. Варади насчитывал около ста тысяч жителей — в Вестфалии не проводили переписей, — дома которых с окнами, выходящими во внутренние дворы, окружали замок Воеводы. Едва проснувшись, Язон вышел на балкон и прислушался к далеким звукам уличного движения. Шаровидные крыши домов напоминали бункеры оборонительных фортов. «Интересно, — подумал Язон, — может ли сохраниться мир, основанный на равновесии сил между этими государствами?»
Впрочем, утро было слишком свежим и солнечным, чтобы предаваться таким размышлениям. Он был в безопасности, помылся и отдохнул. После прибытия с ним разговаривали мало. Видя состояние, в котором находился беглец, сын Белы Шолта велел накормить его и уложить спать.
«Скоро мы начнем разговор, — подумал Язон, — и тогда, если я хочу жить, придется соблюдать максимальную осторожность». Но сейчас он чувствовал себя настолько сильным и здоровым, что не нужно было даже глушить беспокойство.
За его спиной раздался звонок, и Язон вернулся в комнату. Это было большое помещение с хорошей вентиляцией, однако украсили его сверх всякой меры. Он вспомнил, что местный обычай осуждает наготу, поэтому набросил одежду, содрогнувшись при виде покрывавших ее узоров.
— Входите! — крикнул он по-венгерски.
Дверь открылась, и в комнату вошла молодая женщина, толкая перед собой тележку с завтраком.
— Желаю тебе доброго дня, гость, — сказала она с акцентом. Она была тиркеркой и даже одета была в тиркертский национальный костюм, расшитый бисером и с многочисленными кисточками. — Ты хорошо спал?
— Как койот после забавы, — засмеялся он.
Она улыбнулась, видимо, довольная намеком, и стала накрывать на стол. Они вместе сели завтракать, поскольку гости не ели в одиночестве. Дичь показалась Язону слишком тяжелым блюдом для такого раннего времени дня, но кофе был необычайно вкусен, а девушка очаровательна и дружелюбна. Она работала здесь горничной и часть заработанных денег откладывала на приданое, которое должна была отдать своему будущему мужу из страны черокезов.
— Воевода примет меня? — спросил Язон, когда завтрак уже подходил к концу.
— Он ждет тебя и не сомневается, что разговор с тобой доставит ему удовольствие. — Ресницы ее затрепетали. — Но можно и не торопиться… — И девушка начала расстегивать пояс платья.
Такое щедрое гостеприимство являлось следствием поражения суровых венгерских обычаев перед свободными даскарскими и еще более свободными тиркерскими. На мгновение Язону показалось, что он вернулся в свой родной мир, где люди искали наслаждений так, как считали это нужным. Молчаливое предложение было соблазнительно: у тиркерки были широкие, гладкие брови, как у Ники… Однако усилием воли Язон поборол соблазн. У него слишком мало времени: он окажется в ловушке, если не успеет закрепить свое положение, прежде чем Оттар уведомит Белу.
Наклонившись над столом, он погладил маленькую ладонь девушки.
— Спасибо тебе, милая, — сказал он, — но я дал обет другому человеку.
Его отказ она приняла так же естественно, как и выступила со своим предложением. Несмотря на то, что у этого мира была возможность объединиться, он предпочитал оставаться мозаикой различных культур. Ощущение чуждости вернулось Язону, когда он смотрел, как девушка выходит из комнаты. Он увидел только призрак свободы. Жизнь в Вестфалии оставалась лабиринтом традиций, обычаев, законов и многочисленных табу.
«За что я едва не заплатил жизнью и еще могу заплатить. Поэтому поспешим».
Он надел то, что было для него приготовлено, и выбежал из комнаты. Спустившись по лестнице вниз, Язон оказался в длинном каменном холле, откуда какой-то слуга направил его в помещение, которое занимал Воевода. Перед дверями ждали несколько человек со своими делами и жалобами, которые они хотели отдать на суд владыки, однако едва Язон велел объявить о своем приходе, как его тут же приняли без очереди.
Комната, в которую он вошел, несомненно относилась к самой старой части дворца. Потрескавшиеся от старости деревянные колонны, покрытые гротескными барельефами богов и героев, поддерживали низкую крышу. Из очага на полу к отверстию в крыше поднимался дым. К сожалению, часть его оставалась в помещении, и Язон быстро почувствовал жжение в глазах. Они легко могли бы дать своему владыке какое-нибудь современное помещение, подумал он, но, разумеется, не сделали этого, ибо коль скоро его предки заседали в этом сарае, то и он обязан делать то же самое…
Свет, падающий сквозь узкие окна, освещал сморщенное лицо Белы и расплывался в тени. Воевода был приземистым и седоволосым старцем, черты его лица выдавали изрядную примесь тиркерской крови. Он сидел на деревянном троне, завернувшись в одеяло, и голову его украшали рога и перья. В левой руке Бела держал скипетр, украшенный конским хвостом, а на коленях у него лежал обнаженный меч.
— Приветствую тебя, Язон Филиппо, — торжественно сказал он и указал Язону на стул. — Садись.
— Спасибо, мой господин. — Он с трудом заставил себя произнести эти слова — в его истории так не называли никого.
— Ты готов говорить правду?
— Да.
— Хорошо. — Воевода вдруг отбросил официальность, положил ногу на ногу и вытащил из-под одеяла сигару. — Куришь? Нет? А я закурю.
На его сморщенном лице мелькнула улыбка.
— Ты чужеземец, и я могу не продолжать эту проклятую церемонию.
Язон рискнул перейти на тот же тон.
— Это будет облегчением для меня. В Республике Пелопоннес церемоний мало.
— Это твоя родина? Я слышал, что дела у вас неважные.
— Действительно, моя родина хиреет. Мы знаем, что будущее принадлежит Вестфалии, и потому обращаем к ней свои взгляды.
— Вчера ты сказал, что прибыл в Норландию как купец.
— Да. Я прибыл, чтобы заключить торговую сделку. — Язон старался не лгать, если это было возможно. Нельзя открывать другим историям, что эллины изобрели парахрон, это изменило бы исторические системы, которые являлись предметом изучения, более того, дать понять людям, что другие достигли совершенства, было бы слишком большой жестокостью. — Моя страна покупает много дерева и мехов.
— Ага. Значит, Оттар пригласил тебя к себе. Это я понимаю — мы редко видим людей со Старой Родины. Но однажды он возжелал твоей крови. Почему?
Язон мог избавиться он необходимости отвечать, сославшись на право сохранения в тайне личных дел, но такая скрытность произвела бы плохое впечатление, а лгать было опасно: перед троном Воеводы говорили под присягой.
— В некотором смысле это и моя вина, — сказал он. Кое-кто из семьи Оттара — особа, впрочем, почти взрослая привязалась ко мне и… Что поделать, моя жена осталась на Пелопоннесе… Кроме того, все заверяли меня, что добрачные отношения в Данскаре очень свободны… Я не хотел никого оскорблять! Я лишь выказал этой особе немного сердечности. В конце концов Оттар узнал об этом и вызвал меня на поединок.
— Почему ты не принял вызов?
Не было смысла объяснять ему, что цивилизованный человек избегает таких решений, если имеются другие возможности.
— Подумай сам, мой господин, — сказал Язон. — Проиграв, я бы погиб, а если бы выиграл, это означало бы конец нашей торговли с Норландией. Сыновья Оттара никогда не приняли бы выкупа, верно? В лучшем случае нас выгнали бы из страны. А Пелопоннесу нужно дерево. Вот я и пришел к выводу, что лучше всего мне исчезнуть. А потом мои товарищи отказались бы от меня перед всей Норландией.
— Гм… Странное рассуждение. Во всяком случае ты человек лояльный. А чего хочешь от меня?
— Единственное, о чем я прошу, это дать мне возможность безопасно добраться до Стейнвика (Он едва не сказал «Неофины»). Там есть наш агент и корабль.
Бела выпустил клуб дыма и угрюмо уставился на тлеющий конец сигары.
— Я бы хотел знать, почему Оттар впал в такой гнев. Это на него не похоже. С другой стороны, если дело касается его дочери, он не мог простить. — Воевода наклонился к Язону. Для меня, — резко сказал он, — самое важное то, что вооруженные норландцы пересекли границу моего государства, не спрашивая разрешения.
— Это было серьезное нарушение твоих прав, Воевода.
Бела выругался, как старый кавалерист.
— Ты не понимаешь меня! Границы святы не потому, что так хочет Аттила, если даже шаманы и говорят такие глупости. Они святы потому, что только благодаря им можно сохранить мир. Если я не выражу своего возмущения официально и не накажу Оттара, однажды какой-нибудь авантюрист повторит его попытку. А сегодня у каждого есть ядерное оружие!
— Но я не хочу, чтобы из-за меня дошло до войны! — в страхе закричал Язон. — Тогда уж лучше отправь меня в Норландию!
— Не говори глупостей. Оттара я накажу именно тем, что не дам отомстить тебе, независимо от того, прав он или нет. И ему придется проглотить это.
Бела встал, положил сигару в пепельницу, поднял меч — и мгновенно переменился. Казалось, что говорит не человек, а какой-то языческий бог:
— С этой минуты, Язон Филиппо, никто в Дакоте не смеет тебя тронуть! Ты останешься под охраной нашего щита, поэтому зло, причиненное тебе, будет злом, причиненным мне, моему дому и моему народу. Клянусь Троицей!
Язон потерял над собой контроль, он рухнул на колени и сквозь рыдания принялся выкрикивать слова благодарности.
— Перестань! — буркнул Бела. — Нам лучше заняться подготовкой твоей дальнейшей дороги. Ты полетишь на самолете, с военным эскортом. Разумеется, сначала я должен получить разрешение у правительств стран, над которыми ты будешь пролетать. Это потребует времени. А теперь вернись к себе и отдохни, я вызову тебя, когда все будет готово.
Язон вышел, все еще чувствуя дрожь во всем теле.
Он провел несколько часов, бродя по замку и его двору. Юноши из свиты Белы делали все, чтобы понравиться человеку со Старой Родины. Нельзя было не удивляться их красочным состязаниям в верховой езде, стрельбе и решении задач. Неясные чувства вызвали у него рассказы о путешествиях по огромным равнинам, по непролазным чащам и через бурные реки к стенам сказочной метрополии — Уннборгу. Песни барда переносили слушателей во времена более давние, чем история, во времена плотоядных обезьян — предков человека.
«Но ведь именно от этих соблазнов отвернулись мы в Эутопии, отказавшись от своего звериного прошлого. Мы — люди одаренные разумом, и в этом сущность нашей человечности.
Я возвращаюсь на родину. Возвращаюсь домой. Домой».
В этот момент какой-то слуга коснулся его плеча.
— Воевода хочет тебя видеть. — В голосе его звучал страх.
Язон задрожал. Что могло случиться? На этот раз его не отвели в тронный зал, Бела ждал его на стене замка. За ним стояли два рыцаря, их лишенные выражения лица скрывались в тени шлемов, украшенных плюмажами.
Взгляд, которым окинул гостя Бела, не предвещал ничего хорошего. Воевода сплюнул Язону под ноги.
— Оттар звонил мне, — сказал он.
— Я… Он сказал…
— Я-то считал, что ты хотел просто переспать с девушкой, ты же почти уничтожил дом, подаривший тебе дружбу!
— Господин!
— Можешь не бояться — ты заставил меня поклясться Троицей… Много лет пройдет, прежде чем я рассчитаюсь с Оттаром за зло, причиненное ему.
— Но…
— Спокойно! Этого и следовало ожидать.
— Ты не полетишь военным самолетом, но эскорт у тебя будет. Машину, которая тебя заберет, придется потом сжечь. А сейчас жди на конюшне, возле той кучи навоза, пока мы не подготовимся.
— Я не хотел никого оскорблять! — воскликнул Язон. — Я не знал…
— Уберите, пока я его не убил, — приказал Бела.
Стейнвик был старым городом. Эти узкие, мощеные улочки, эти мрачные дома видели еще корабли, украшенные изображениями драконов. А с Атлантики дул тот же ветер, соленый и свежий, и именно он прогнал с души Язона остатки горечи, мучившей его до сих пор. Посвистывая, он пропихивался сквозь толпу пешеходов.
Житель Вестфалии или Америки сломался бы после стольких неудач. Разве он, Язон, не потерпел полного поражения? Разве не требовалось теперь заменить его кем-то, кто — по крайней мере, официально — не имел бы ничего общего с Землей? Но в Эутопии отлично понимали причину его неудачи: он совершил ошибку, но его вины в этом не было. Он не совершил бы ее, если бы его лучше проинструктировали; это естественно, ведь на ошибках учатся.
Воспоминания о людях из Эрнвики и Варади — порывистых, щедрых людях, дружбу с которыми он хотел бы сохранить — мучили его еще какое-то время, но он быстро выбросил их из памяти. Были еще и другие миры, бесконечное их количество.
Вывеска затрещала под напором ветра: «Братья Хуньяди и Айвар, судовладельцы». Это был хороший камуфляж в городе, где каждая вторая фирма имела что-то общее с морем. Язон взбежал по лестнице на второй этаж и вытянул руку перед морской картой, прикрепленной к стене. Скрытый аппарат идентифицировал узор его дактилоскопических линий, и дверь, перед которой он стоял, открылась. Комната, где он оказался, была выложена панелями, выдержанными в стиле, господствующем в Стейнвике, но ее пропорции напоминали Эутопию, а на полке простирала свои крылья Ника.
Ника… Ники… Я возвращаюсь к тебе! Сердце Язона забилось живее.
Даймонакс Аристидес поднял взгляд от стола. Язон порой задавал себе вопрос, может ли что-нибудь потрясти этого человека.
— Хайре! — услышал он глубокий бас Даймонакса. — Радуйся! Что привело тебя сюда?
— Мне очень жаль, но я принес плохие вести.
— Да? По тебе не скажешь, что дела идут катастрофически! — Даймонакс поднялся со стула, подошел к шкафу с вином, наполнил пару кубков и устроился на ложе. — Ну, теперь рассказывай.
Язон вытянулся на втором ложе.
— Случайно я нарушил нечто такое, что, мне кажется, является табу первостепенного значения. Можно сказать, мне повезло, что я ушел живым.
— Ну, ну… — Даймонакс погладил свою уже седеющую бороду. — Это не первый такой случай. И не последний. Мы ощупью идем к знанию, но действительность всегда удивляет нас… Во всяком случае, поздравляю со спасением своей шкуры. Мне бы очень не хотелось оплакивать твою смерть.
Они торжественно отлили по нескольку капель из своих кубков и выпили. Человек рациональный может принять необходимость церемонии, так почему бы не взять ее из сферы мифов?
— Ты можешь составить рапорт?
— Да. По пути я упорядочил все в памяти.
Даймонакс включил регистрационный аппарат, произнес несколько каталогизирующих формул и сказал:
— Начинай.
Рассказ Язона был хорошо подготовлен, но пока он говорил, память, помимо его воли, возвращалась к минувшим дням, и прежде всего это была память испытанных впечатлений, переживаний, чувств… Он снова видел волны на самом большом из озер Пенталимны; прохаживался по внутренним галереям замка в Эрнвике с юным Лейфом; видел, как Оттар превращается в зверя; бежал из тюрьмы, оглушив стражника, и дрожащими пальцами заводил машину; мчался по пустой дороге, а потом пробирался сквозь лес; видел, как Бела плюет ему под ноги, и радость, которую он чувствовал при мысли о свободе, превращалась в горечь. Наконец он не выдержал:
— Почему меня не предупредили? Я бы соблюдал осторожность! Мне сказали, что я буду иметь дело с людьми, лишенными предрассудков и здоровыми — во всяком случае, до супружества… Откуда мне было знать?
— Да, это был просчет, — согласился Даймонакс. — Но мы слишком мало занимались парахронией и потому слишком многое считаем очевидным.
— Зачем мы вообще здесь? Чему мы можем научиться у этих варваров? Мы можем изучать бесконечное количество миров, так почему теряем время, занимаясь именно этим? Одним из двух наиболее ужасных, какие мы знаем?
Даймонакс выключил записывающий аппарат. Долгое время оба мужчины молчали. Снаружи доносился грохот колес проезжающих машин, чей-то смех смешивался с мелодией песни. За окнами простирался океан, освещенный солнцем.
— Ты этого не знаешь? — спросил наконец Даймонакс тихим голосом.
— Ну… Научные интересы, конечно, — Язон проглотил слюну. — Прости. Разумеется, деятельность Института основана на разумных принципах. В американской истории мы наблюдаем ошибочный путь развития человека. Полагаю, в этой — тоже.
Даймонакс покачал головой.
— Нет, дело не в этом.
— Тогда в чем?
— Мы учимся здесь чему-то слишком ценному, чтобы отказаться от этого, — ответил Даймонакс. — Это унизительный урок, но немного унижения пойдет на пользу нашей довольной собой Эутопии. Ты не знал этого, поскольку до сих пор у нас не было достаточного количества фактов, чтобы публиковать свои выводы. Кроме того, ты работаешь недавно и первая твоя миссия была в другой истории. Но, видишь ли, у нас есть основания считать, что Вестфалия тоже своего рода Эутопия Хорошая Земля.
— Это невозможно, — прошептал Язон.
Даймонакс улыбнулся и глотнул вина.
— Подумай только, — сказал он, — что нужно человеку? Прежде всего он должен удовлетворить свои биологические потребности: должен иметь пищу, крышу над головой, какие-то лекарства, сексуальную жизнь и наконец жить в среде достаточно безопасной; в этой истории люди не удовлетворяют этих потребностей?
— То же самое можно сказать о любом племени из каменного века. Нельзя ставить знак равенства между удовлетворением потребностей и счастьем.
— Конечно, нет. А если какой-то мир не является упорядоченной, унифицированной Эутопией, страной кротких коров, в которой все запланировано? Мы разрешили все конфликты, даже те, что затрагивают человеческую душу; покорили всю Солнечную систему, хотя звезды оказались нам недоступны; так чем бы мы занимались, если бы милосердный бог не позволил нам придумать парахрон?
— Ты хочешь сказать, что… — Язону не хватало слов. Он вспомнил, что только умственно больной человек обижается, если слышит нечто, противоречащее его представлениям. — Значит, человек свободный от агрессии, клановости, предрассудков, ритуалов и табу, не имеет уже ничего?
— Примерно так. Общество должно иметь свою структуру и смысл, но природа не диктует ему ни его структуры, ни смысла. Наш рационализм является выбором нерациональным. То, что мы обуздываем звериное начало, живущее в нас, является просто еще одним табу. Мы можем любить других, в соответствии с нашими симпатиями, но не можем ненавидеть. Разве у нас больше свободы, чем у жителей Вестфалии?
— Но ведь есть культуры лучшие, чем другие!
— Не спорю, — сказал Даймонакс. — Только хочу обратить твое внимание на то, что каждая культура платит определенную цену за свое существование. Мы дорого платим за все, что радует нас в Эутопии. Мы не позволяем себе ни одного чисто эмоционального поступка. Уничтожив все опасности и трудности, стирая разницу между людьми, мы не оставили себе никакой надежды на победу. И, может быть, хуже всего то, что мы стали исключительно единицами, у нас нет чувства принадлежности. Наша единственная обязанность имеет негативный характер: мы обязаны ни к чему не принуждать никого другого. Государство — отлично организованный, лишенный индивидуальности и нетребовательный механизм — беспокоится об удовлетворении любой нашей потребности, исправлении любой неприятности, которая нас постигнет. А где же лояльное отношение к смерти? Где интимность, которую можно обрести только в целой, прожитой с кем-нибудь жизни? Мы развлекаемся во время разных торжеств и церемоний, но я спрошу тебя: а какова их ценность? Мы сделали наш мир единым и потому потеряли его цвет и контрасты, потеряли гордость нашей непохожестью…
Зато жители Вестфалии, несмотря на все их недостатки, знают, кто они, чему принадлежат и что принадлежит им. Свои традиции они не хоронят в книгах, это — часть их жизни. У них есть реальные проблемы, но есть и вполне реальные успехи. Они верят в свои ритуалы, верят, что стоит жить и умирать ради семьи, короля, народа. Быть может, хоть я и не уверен в этом, они думают меньше нас, зато в большей степени пользуются своими нервами, железом и мышцами, им хорошо знаком тот аспект человечности, от которого отказался наш мир.
Если они смогли остаться такими, одновременно создавая науку и технику, разве не стоит нам поучиться у них?
Язон молчал, не зная, что ответить.
Наконец Даймонакс прервал молчание:
— Можешь сейчас вернуться в Эутопию, а когда отдохнешь, получишь направление в историю, которая тебе больше понравится. Расстанемся друзьями.
Зашумел парахрон, пульс времени бился между вселенной… Дверь помещения открылась, и Язон вышел наружу.
Он вышел в лес блестящих колонн. Белые Неофины террасами спускались к морю. Человек, вышедший ему навстречу, был философом, Язона уже ждали туника и сандалии. Откуда-то доносились звуки лиры.
Радость трепетала в Язоне, и он больше не вспоминал о Лейфе. Это был соблазн, возникший только из-за долгого одиночества и тоски, но теперь он был дома, где ждал его Ники, самый красивый и очаровательный из мальчиков.
Перевод с англ. И. Невструева

Теодор Старджон
КЛЮЧИ ОТ НЕБА

Счастье еще раз улыбнулось ему, да так ярко, что он прищурился.
Диминг стоял на перекрестке — он жил в той части города, где улицы все еще пересекались на одном уровне, — и ждал зеленого света, когда на столбике, расположенном точно на уровне его глаз, появилась рука, на запястье которой блестел тонкий золотой браслет с часами. Прищурился Диминг именно из-за этих часов. Он видел такие всего раз в жизни: чудесная безделушка с узенькими циферками, вырезанными из рубина. Роль стрелок выполняли эти цифры, зажигавшиеся каждый час, а минуты показывал янтарный проблеск, круживший по циферблату. Часы работали от геоматического поля, так что и тысячи лет не хватило бы, чтобы они испортились или начали отставать. Сделали их на какой-то планете в Крабовидной Туманности, где представители наименее известной человеку разумной расы смело творили чудеса в производстве предметов точной механики.
Диминг оторвал взгляд от часов и поднял его от запястья к лицу владелицы. Он не слишком любил животных, однако женщин, которых знал, классифицировал с помощью зоологии, так что среди них были птенчики, жабы, зайчики и сучки — в зависимости от степени привлекательности.
На этот раз перед ним оказалась старая коза.
Выглядела она так, словно ей удалось втиснуть шестьдесят лет жизни в тридцать с небольшим. Женщина была навеселе, несмотря на ранний вечер, и потому-то оперлась о столбик, что его устраивало, и он изображал задумчивость.
«Посвящу этому два часа, — подумал Диминг, однако через мгновенье, когда женщина пошатнулась и тут же восстановила равновесие — слишком быстро и хорошо для пьяного, который перестает соблюдать приличия и начинает шататься — уменьшил срок до полутора часов. — Через полтора часа они будут мои. Хотите пари?»
Вспыхнул зеленый, и Диминг сошел на мостовую, перед женщиной. За углом он остановился, разглядывая ее отражение в витрине, пока женщина приближалась. Она шла, стараясь держаться прямо, и все-таки ее немного заносило влево. Пропустив ее вперед, Диминг, к своему счастью, заметил, как она вошла в коктейль-бар. Он двинулся в обратную сторону, вошел в ресторан, а там — прямо в мужской туалет. Всего минуту он был один, но этого хватило: из-под носа исчезли жесткие короткие усы, из глаз — золотистые контактные линзы, так что теперь глаза стали голубыми, а волосы он расчесал на пробор, уложив их волнами. Потом вынул из кармана полудюймовой толщины пробковые стельки, добавившие ему роста и изменившие походку, снял пиджак и вывернул на другую сторону, отчего утратил серый бесцветный вид, подходящий для мистера Диминга, второго заместителя администратора отеля «Роторил», зато обрел спортивную фигуру Джимми-Молнии. Джимми всегда появлялся и исчезал в туалетах, но не потому, что нуждался в уединении, а потому, что это было единственное место, куда наверняка не заходили эти траханые Ангелы — незачем, ведь они не едят.
Ресторан Диминг покинул с приятной уверенностью, что никто не заметил, как в туалет вошел он, а вышел Джимми-Молния. За углом он открыл дверь коктейль-бара.
Сидя на кровати, Диминг мрачно подбрасывал на ладони часы и ловил их снова.
В конечном итоге дело заняло не полтора часа, а два с половиной: он не предвидел, что она может быть так привязана к этим часам. Ни в какую не хотела их снять, чтобы он мог их разглядеть, и не поверила, что часы идут неверно, а он может за секунду их отрегулировать. Пришлось применить старый фокус с купанием в полночь. Ему удалось усадить ее в машину так, что женщина не заметила номера, а потом ловко выбрать непросматриваемое место на берегу. Оценить, насколько она пьяна, было довольно трудно: рассказывая о своем муже — после которого остались только эти часы — она слишком протрезвела, и потребовалось множество милых, успокаивающих слов, чтобы сменить тему разговора. В конце концов ему удалось уговорить ее снять одежду и положить на берегу реки, после чего он схватил их и побежал до машины, прежде чем женщина успела пару раз крикнуть: «О, Джимми, ты не можешь так поступить». Он понятия не имел, как она доберется до города, да это и было ему безразлично. В бумажнике он нашел пятерку и удостоверение личности, деньги сунул в карман — примерно столько стоили поставленные ей напитки, — а остальное сжег вместе с одеждой. Чистая работа — и к тому е совершенно не похожая на другие его дела; ничто так быстро не выводит Ангелов на след, как обычное, обычно совершенное преступление. Этим делом можно было гордиться.
Он гордился им, но вместе с тем был мрачен, и это его злило. Ни мрачное настроение, ни раздражение не были ему в новинку, и Диминг никак не мог понять, почему они всегда появляются после работы. У него имелась масса причин для удовлетворения: он высок, красив, хитер, как Ангел, а может, даже больше; Сколько лет он занимается этими делами, и ни разу не возникло даже тени опасения, что его обвинят. Чертовы манекены! Одни утверждают, что это роботы, другие — что супермены. Люди трогают их одежды, что якобы приносит счастье или исцеляет больных детей. Ангелы не спят, не едят, не носят оружия; они расхаживают вокруг, улыбаясь, помогая и напоминая людям, чтобы те были добры друг к другу. В книгах пишут, что когда-то была какая-то полиция, армия, но теперь их нет. Да зачем, если Ангелы являются немедленно, без приглашения святоши с пуленепробиваемой кожей.
«Ясно, что я хитрее Ангела, — думал Диминг. — Да и вообще, что такое Ангел? Существо, имеющее принципы, которых придерживается. (У меня несколько больше степеней свободы.) Существо, сразу бросающееся в глаза своим видом, а еще более поведением, золотистыми одеждами и прочей ерундой. (Зато я невзрачная канцелярская крыса в подозрительном отдельчике или неуловимый вольнодумец с липкими пальцами — в зависимости от ситуации)».
Он подкинул часы вверх, поймал, посмотрел на них, но настроение от этого не поправилось. Он всегда был угрюм, когда ему везло, а везло ему всегда. Диминг никогда не брался за дело, грозившее провалом.
«Наверное, в том все и дело, — подумал он, вытягиваясь на кровати и глядя в потолок. — Во мне столько идей, а используется лишь малая их часть».
Никогда прежде у него не возникало подобных мыслей.
«Я ломаю все правила — но с подстраховкой. А страхуюсь я тщательней, чем никакой-нибудь служащий, покупающий полис перед тем, как сесть в автобус. Я сижу под колпаком, как червяк под камнем; разумеется, я сам накрыл себя им и предпочитаю его колпаку общества или религии. Но все равно, небо закрыто. Размах мне нужен, вот что.
А может, — продолжал он размышлять, разглядывая часы, которые держал в руке, — может, нужная мне добыча стоит идей и ловкости, которые я в это вкладываю. Сколько уже лет я честно работаю за гроши и осторожно краду за… скажем, нечто большее, чем гроши.
И, раз уж пошел разговор, лучше загнать эту вещицу, пока эта память об астронавте не нашла себе фигового листка и полицейского со свистком».
Он поднялся, недовольно качая головой и желая, чтобы хоть раз, хотя бы один чертов раз, можно было провернуть дельце и получить с него столько, сколько он заслуживает.
Он протянул руку к двери, и та ответила ему стуком.
«Вот видишь, — все с тем же недовольством сказал сам себе Диминг, — видишь? Другой бы замер сейчас на месте, побледнел, кинул часы в регенератор и, вспотев, принялся бы метаться по комнате, как крыса в клетке. А я стою совершенно неподвижно, думаю в три раза быстрее, чем компьютер восьмого поколения, и проверяю все, включая то, что уже сделал на случай такой ситуации — усы снова под носом, глаза снова карие, рост уменьшился, стельки спрятаны в двухстороннем пиджаке, а тот в свою очередь укрыт за доской в шкафу».
— Кто там?
Голос сдержанный, пульс спокойный. Откуда же эта мрачность, парень? Что с тобой происходит, что ты так не терпишь самого себя и любую ситуацию, в которой оказываешься, только потому, что с самого начала знаешь, что справишься с ней в лучшем виде?
— Можно с вами поговорить, мистер Диминг?
Этого голоса он не знал; может оказаться и хорошо, и плохо — посмотрим. Если хорошо, то о чем беспокоиться? И о чем беспокоиться, если плохо?
Сунув часы в боковой карман, он открыл дверь.
— Надеюсь, что не помешал, — сказал полный мужчина, стоявший на пороге.
— Входите. — Диминг оставил дверь открытой и повернулся к гостю спиной. — Прошу садиться. — Он засмеялся неуверенным смехом второго заместителя. — Надеюсь, вы что-то продаете. Я ничего не покупаю, но всегда приятно побеседовать.
Дверь закрылась, а полный тип не сел и не рассмеялся. Димингу не нравилась эта тишина, и потому он повернулся, чего явно ждал посетитель.
— У вас есть возможность поговорить с Ричардом Е. Рокхардом, — тихо сказал он.
— Отлично, — ответил Диминг. — А кто такой этот Ричард Е. Рокхард?
— Вы не слышали… гм, впрочем, ничего удивительного. Об акулах бизнеса знают все, но о том, у кого они служат посыльными, известно не больше, чем о каком-нибудь младшем референте, мистер Диминг… Вы слышали о «Торговой фирме Антарес»? О «Лунных и Внешних Линиях»? Или о «Галактических Рудниках»?
— Так значит, этот Рокхард…
— Не только, мистер Диминг. Не только.
Джимми-Молния вытаращил бы глаза и тихонько свистнул, а Диминг сложил ладони и прошептал:
— О, мой Бог…
— Ну как? — спросил мужчина, немного подождав продолжения, которого так и не последовало. — Вы пойдете к нему?
— Вы хотите сказать… к Рокхарду? Хотите сказать… я? И сейчас?
— Да, я хочу сказать именно это.
— Но почему он… что… почему именно я? — спросил Диминг — скромно, как и пристало второсортной канцелярской крысе.
— Ему нужна ваша помощь.
— О, мой Бог… Трудно поверить, что я могу такому человеку… А может, вы скажете, в чем дело?
— Нет, — ответил пришелец.
— Нет?
— Нет, за исключением того, что это срочно, важно и принесет вам больше, чем вы получили за всю жизнь.
— О, мой Бог! — еще раз повторил Диминг. — Ну тогда лучше поищите какого-нибудь Ангела. Они помогают людям, а я не могу…
— Вы можете то, что не под силу Ангелу, мистер Диминг.
Диминг засмеялся, показывая, что знает о месте в этом мире маленьких людей.
— Мистер Рокхард считает, что вы сможете, мистер Диминг. Мистер Рокхард ЗНАЕТ, что вы сможете…
— Он знает… обо мне?
— Все, — не колеблясь ответил толстяк,
Диминг почувствовал мгновенное сожаление, что не решился уничтожить часы. Они показались ему сейчас такими большими и горячими, как миска супа, засунутая в карман.
— И все же лучше обратиться к какому-нибудь Ангелу, снова предложил он.
Гость взглянул на дверь и подошел поближе.
— Уверяю вас, мистер Диминг, — тихо произнес он, — что в данном случае мистер Рокхард не может и не хочет этого делать.
— Похоже, этого дела лучше не касаться, — натянуто заметил Диминг.
Мужчина пожал плечами.
— Ну, хорошо. Нет так нет. — И он направился к двери.
Не удержавшись, Диминг быстро спросил:
— А что будет, если я откажусь?
Толстяк даже не повернулся, чтобы ему ответить.
— Вы пообещаете мне, что забудете об этом разговоре, сказал он через плечо, — особенно, если вас спросит кто-нибудь из парней в белом.
— И это все?
На невозмутимом лице впервые появилась тень улыбки.
— И до конца своих дней будете гадать, что же вы потеряли.
Диминг облизнул губы.
— Скажите еще одно: если я пойду к вашему Рокхарду, поговорю с ним и все-таки захочу отказаться?
— Разумеется, вы сможете это сделать — если захотите.
— Тогда идем, — решился Диминг.
Они уже летели над городом в роскошном вертолете, когда ему пришло в голову, что слова «если хотите», произнесенные так, как это сделал толстяк, могут иметь множество значений. Диминг повернулся, чтобы спросить об этом, но лицо мужчины самим своим спокойствием выражало одно: этот человек свое задание выполнил и больше не добавит ни единого слова.
У Ричарда Е. Рокхарда были серо-голубые волосы и голубые, холодные как лед глаза, а слова его били в человека, как лезвие топора — точно и не обращая внимания на осколки. Диминг не сомневался, что этот человек — действительно «Галактические Рудники» и все прочее. Не сомневался он и в том, что Рокхард нуждается в помощи. Лицо его покрылось морщинами, а пурпурные капилляры в белках глаз из-за недостатка сна налились кровью. Этот человек говорил правду, потому что времени для лжи не было.
— Вы мне нужны, Диминг. Полагаю, что вы мне поможете, и потому обрисую ситуацию, — сказал он, когда они оказались наедине в роскошном кабинете внутри совершенно невероятных апартаментов.
— Даю слово, что пока вы не решитесь помогать мне, с моей стороны вам ничего не грозит. Однако, если вы примете мое предложение, знайте, что опасность велика. — Он кивнул самому себе и повторил: — Велика.
Диминг, портье из отеля, сумел ответить лишь:
— Мистер Рокхард, я удивлен, что вы обратились к человеку вроде меня в деле… — После чего Рокхард ударил ладонями по столу и наклонился над ним.
— Мистер Диминг, — сказал он мягким, но полным напряжения голосом, напоминающим двигатель на холостом ходу, готовый в любую секунду переключиться, — я знаю о вас все. Знаю, поскольку нуждаюсь в таком человеке и обладаю средствами, чтобы его найти. Можете играть роль серого человека, если это вам нравится, но не надейтесь, что это меня обманет. Вы не заурядный человек, иначе вас не было бы сейчас здесь, поскольку заурядный человек не осмелится на то, что, как известно, является проступком в глазах Ангелов.
Диминг отказался от позы серого, робкого человека, от вежливости и уважительности, характерных для заместителя заместителя.
— Даже для человека незаурядного, — сказал он, — это означает риск.
— Вы обо мне? Мне с вашей стороны ничего не грозит, Диминг. Вы не выдадите меня, даже зная, что я не могу отомстить. Вам не нравятся Ангелы. Никогда вы не встречали другого человека, которому они тоже не нравились бы, и потому вам нравлюсь я.
Диминг улыбнулся и кивнул. «Интересно, — подумал он, когда мне дадут понять, что, если я не помогу Рокхарду, меня будут шантажировать?»
— Я не собираюсь вас шантажировать, — сказал вдруг старик. — Мне хочется вовлечь вас в дело обещанием награды, а не затащить угрозами. Вы — человек, алчность которого превосходит страх. — Говоря это, он улыбался, потом, не дожидаясь реакции собеседника, заговорил о своем сыне.
— Когда имеешь неограниченный доход и единственного сына, поначалу думаешь, что найдешь в нем как бы продолжение себя — поскольку это твоя кровь, и ты, разумеется, хочешь, чтобы он пошел по твоим следам. Однако, когда ты понимаешь, что он может свернуть с этой дороги — а обычно это бывает, когда уже слишком поздно, — то пускаешь дело на самотек, полагая, что давлением добьешься того, в чем гены оказались бессильны.
В конце концов тебя ждет выбор — нет, не удержать или потерять сына, этого выбора уже нет — тебе приходится выбирать — отречься от него или оставить в покое. Если тебя больше интересует ты сам и созданное тобой, нежели сын, ты вышвыриваешь его и пусть он идет к дьяволу. Я, — тут он замолчал, облизнул губы, быстро взглянул на Диминга, затем на свои сложенные руки, — я оставил его в покое.
Некоторое время он молчал, потом развел сплетенные ладони и осторожно положил их на стол, одну возле другой.
— И я не жалею, потому что мы остались друзьями. Я помогал ему, как только мог: то есть удерживался от помощи, когда хотел поступить по-своему, и давал ему все, независимо от того, стоило это по-моему делать или нет. — Внезапно он улыбнулся и прошептал скорее своим неподвижным рукам, нежели Димингу: — Такому сыну, если он хочет покрасить живот в голубой цвет, покупаешь краску. — Рокхард посмотрел на Диминга. — Его голубой краской была археология, и я купил ее это чистое знание, с которого он никогда не будет хлеба. Для меня это вообще не профессия, я мыслю иными категориями, но Дональд не хотел слышать ни о чем другом.
— Есть еще слава, — заметил Диминг.
— Но не в случае этой экспедиции. Парень хочет исчезнуть, переставать существовать, стать ничем, идя по следу, который почти наверняка ведет в никуда, а если даже и приведет, то к какой-нибудь диковине для эрудитов типа камня Шамполиона, папируса Мертвого, Моря или мертвых языков с пьезокристаллов Фигмо IV. — Он развел руки и вновь опустил их. — Голубая краска. И я ему ее купил.
— Что вы имеете в виду, говоря «перестать существовать, исчезнуть»? Полагаю, это не значит «умереть»?
— Отлично, Диминг, вы схватываете все на лету. Это значит, чтобы отправиться за этим своим цветком папоротника, мой сын должен навлечь на себя Ангелов. Они не могут его остановить, но зато могут подождать, пока он будет возвращаться. Поэтому я купил ему еще одну банку краски — билет на Гребд.
Диминг тихо свистнул. Название Гребд носила планета в районе Угольного Мешка, кружащаяся вокруг звезды, и город на этой планете. Местные жители разработали псевдохирургический метод, гораздо более действенный, нежели прочие, существующие в известной части космоса. Они могли изменить любое существо по его желанию, могли даже сменить биохимию, основанную на углероде, на биохимию, основанную на цепочке бора, а кроме того, им были доступны такие тонкости, как смена регистрируемой характеристики мозговых волн, рисунка капилляров на сетчатке глаза или даже носа. Они могли создать (вырастить!) человека из клочка его тела, при условии, что клетка еще жива. И что самое главное, они проводили все эти изменения, не нарушая (по желанию) разума существа.
Однако цена подобного капитального ремонта превосходила всяческие границы здравого смысла — разве что мотивы вписывались в эти границы. Диминг взглянул на старика с нескрываемым восхищением: он не только мог заплатить такую цену, но и хотел — даже в деле, которого не одобрял. Это же надо так заботиться о сыне, надеясь лишь на то, что встретишь когда-нибудь совершенно незнакомого человека, который отведет тебя в сторону и шепнет: «Привет, пап», но для которого ты не сможешь ничего сделать… Если его сын нарушил распоряжения Ангелов настолько серьезно, что ему нужна поездка на Гребд… Ангелы не спустят со старика глаз до конца его дней, так что он не осмелится даже улыбнуться этому незнакомцу. Такой проступок равносилен смерти. Отважится ли в подобной ситуации отец хотя бы пожать руку сыну?
— Боже мой, — прошептал Диминг. — И чего же он так сильно захотел?
— Какой-то ерунды. Существует теория, что цивилизация Альдебарана возникла из тех же самых этнических корней, что и цивилизация Планет Массона. Для меня это звучит бессмысленно, но даже если это правда, я все равно не вижу особого смысла. Однако некоторые следы указывают на планету под названием Ревело. Там могут находиться продукты цивилизации, доказывающие истинность этой гипотезы.
— Я никогда о ней не слышал, — сказал Диминг. — Ревело… н-нет. Ну, ладно, совершит он свое открытие и поедет на Гребд, где подвергнется полной переделке, в результате чего никогда не сможет признать себя автором открытия, которое совершил.
— Теперь вы видите, что за человек Дональд, — с иронией сказал старик. — Для него важно само открытие, а не то, кому припишут заслугу.
Они переглянулись, выражая свое непонимание, потом Диминг легонько кивнул в знак того, что неважно, понимает он или нет. Если Дональд Рокхард не в своем уме, это его дело.
— А при чем здесь Ангелы? — спросил он.
— Ревело, — сказал старик, — закрытая планета.
Ну вот, тут же подумал Диминг, все и разрешилось. Закрытую планету всегда окружает специальное поле; если сквозь такое поле проходит космический корабль, все живое на его борту немедленно погибает. Если Дональд оказался на Ревело, значит, Дональд мертв. Если же по пути его вырвало из подпространства внутреннее предохраняющее поле, значит, он никогда не садится на Ревело, не нарушает запретов Ангелов и не оказывается в трудном положении. Все это он тут же высказывал вслух.
Рокхард медленно покачал головой.
— В данный момент он находится на Ревело — живой. Насколько мне известно, — добавил он.
— Невозможно, — категорически заявил Диминг. — Нельзя пролететь сквозь поле вокруг закрытой планеты и остаться живым.
— Верно, — согласился старик, — и все-таки он там. Послушайте, я расскажу вам то, о чем кроме меня знают всего четверо. Существует возможность проникновения на закрытую планету. Четыре года назад мои люди наткнулись на разбитый корабль. Бог знает, откуда он пришел. Он был весь разрушен, но на борту находились две не поврежденные спасательные шлюпки. Спасательные шлюпки, оборудованные мигодвигателями.
— Лодки? В таком случае они должны быть размером с корабль.
— Только не эти. Они движутся так же, как наши мгновенники, но используют другой принцип. Еще не установлено, какой именно, хотя один из моих людей занимается этим. Капитан моего грузовика доставил их в мою коллекцию космических кораблей, не зная, что именно везет. Мы сами узнали случайно. В общем, мы поставили на них управление нашего типа, но, хотя знаем, какие кнопки нужно нажимать, неизвестно, какие процессы при этом происходят. Работают они не лучше наших мгновенников, поэтому не было смысла предоставлять информацию о них в мой Отдел Рационализации, а когда мы узнали, что они могут проникать сквозь поле вокруг закрытых планет, то решили держать язык за зубами. У меня свое мнение об Ангелах, но должен признаться: если они закрывают какую-нибудь планету, то не без важной причины. Может быть, там скальная эпидемия, может, инян, а может, она убийственна для людей из-за солнечного излучения или наличия какого-нибудь гормонального токсина.
— Ясно, — согласился Диминг. — Нанта, Сирион и эта дьявольская планета Кет. — Он вздрогнул. — Это хорошо, что нас не подпускают к ней. Пожалуй, вы правы, в этом случае Ангелы знают, что делают… А из-за чего закрыли Ревело?
— Как обычно, ничего не говорят. Это может быть что угодно. Как я уже сказал, я им верю и не собираюсь распространять устройство, открывающее доступ на такую планету.
— За исключением Дональда.
— За исключением Дональда, — признался Рокхард. — Тут у меня нет оправданий. Если он погибнет там от чего-либо, он будет знать, на что шел. Если подхватит что-то из-за своей невнимательности, этим займутся на Гребд. Я знаю, что сознательно он не привезет ничего подобного, скажем, семенам иньян. Вы меня понимаете? — Голос его изменился, словно какой-то внутренний органист закрыл все регистры и выдвинул новые. — Только не говорите, что я не должен был этого делать. Я и сам это знаю. И тогда знал. Но сделал бы это еще раз, слышите? Сделал бы еще раз, если бы он этого захотел.
Стало тихо, и Диминг отвернулся, как пристало человеку тактичному.
— Мы уже говорили, каким образом эти небольшие чужие мгновенники попадают на закрытые планеты. Они меняют направление перетекания энергии в защитном поле. Аналогией тут может служить полярность генератора постоянного тока. Мы установили, — печально добавил он, — что мгновенник при этом попадает на поверхность планеты без повреждений. Только когда он оттуда вылетает, поле убивает все живое на борту.
Он поднял голову и посмотрел на Диминга невидящими глазами.
— Дональд этого не знает, — прошептал он.
— О, — буркнул Диминг. — Полагаю, вы хотите, чтобы я… чтобы кто-нибудь туда полетел и сказал ему это.
— Сказал ему? А какая от этого польза?
— А разве мгновенник не может повернуть поле вторично?
— Только не изнутри. Кроме того, пример со сменой полярности — всего лишь аналогия. В сущности речь идет о другом: нужно отвезти ему вот это. — Из ящика стола он вынул два маленьких цилиндра. Диминг встал и взял один из них. На нем имелись четыре отдельных, крепко закрепленных на корпусе катушки: тороиды, состоящие из тысяч витков микроскопически тонкого провода. С одной стороны находилось восьмиугольное углубление, в которое, вероятно, вставлялся вращающийся стержень, а также пружинная защелка. Обратная сторона, казалось, переходила в материальное состояние: она не была ни прозрачной, ни матовой, но одновременно казалась и тем и другим, кроме того, если смотреть на нее дольше секунды, это вызывало беспокойство.
— Сменные катушки для мигополя, — сказал Диминг, — но я никогда не видел таких маленьких. Модели?
— Нет, настоящие, — устало ответил Рокхард. — Это улучшенная версия того, что находилось в тех спасательных шлюпках. Их строители явно ни разу не натыкались на смертельные ловушки вроде тех, что у страивают Ангелы, иначе обязательно придумали бы что-то подобное.
— Как они действуют?
— По мере приближения к защитному полю они вносят в частоту мигополя фактор случайности. Подобно тому, как мигополе выводит корабль из нормального пространства, благодаря чему он может превысить скорость света, эта катушка обнаруживает и анализирует частоту поля смерти Ангела, после чего подстраивается под него. Поле смерти не может никого убить, поскольку приближающийся корабль перестает существовать до того, как в него войдет, и не возвращается к существованию, пока не пролетит сквозь поле. В отличие от устройства, которым пользовался Дональд, это не влияет на защитное поле и не меняет его полярности.
— Значит, если Дональд получит одну из этих катушек и вставит ее вместо своей…
— Он может забыть о существовании защитного поля Ангелов…
— На Ревело и на любой закрытой планете. — Диминг подкинул катушку в воздух и подхватил ее, глядя поверх крошечного цилиндрика на Рокхарда. — Я держу в руке целый Космос Преступлений, — спокойно сказал он.
— В вашей руке любая эпидемия и любое опасное растение, известное ксенологии, — сказал Рокхард.
— А также, иньян, а это означает бешеные деньги, — сказал Диминг задумчиво. Цветы растения представляли собой почти точную красно-синюю копию символа ин-ян. Круга, разделенного на две части линией в виде буквы S и воплощающего собой всевозможные противоположности — добро и зло, тьму и свет, мужественность и женственность и тому подобное. Растение это было самым страшным наркотиком, не только потому, что привычка к нему практически не поддавалась лечению, но и потому, что оно пятикратно увеличивало интеллект, а также в два и даже три раза усиливало физическую силу человека, превращая его в монстра, охваченного жаждой уничтожения всего и всех, стоящих на пути к источнику наркотика, монстра, способного удержать, перехитрить, победить и перегнать остальных представителей своей расы.
— Если вы действительно думаете делать деньги на иняне вы свинья, — спокойно сказал Рокхард, — а если это была шутка — то дурак.
Диминг помолчал, глядя ему в лицо, потом опустил глаза.
— Вы правы, — пробормотал он и осторожно положил катушку на стол рядом со второй.
— Вы меня беспокоите, Диминг, — сказал Рокхард. — Если бы я знал, что вы хотите использовать эти катушки для чего-то подобного… Дональд может умереть, вы же понимаете. Он умер бы с радостью, если бы знал.
— Вы когда-нибудь видели человека, который склонен нарушить запрет Ангелов и в то же время не протянет руку за чем-то легкодоступным? — спросил Диминг.
— Тут вы правы, — с кривой улыбкой согласился Рокхард. Голова на плечах у вас есть. Итак, вы уже поняли, в чем дело? Вам нужно полететь на Ревело на второй спасательной лодке, оборудованной этой катушкой. Вы пройдете сквозь поле, найдете Дональда, скажете ему, что мы обнаружили, и замените его катушку на другую. После этого он полетит на Гребд за своим камуфляжем.
— А что делаю я?
— Возвращаетесь с сообщением от Дона. Он знает, что нужно передать мне. Услышав это, я пойму, выполнили вы задание или нет.
— А если не выполню, то не вернусь, — ответил Диминг безо всякого стеснения, отдавая себе отчет, что в какой-то момент разговора уже решился на эту безумную миссию. — А что вы сделаете, если я прилечу и скажу: «Задание выполнено»?
— Я не буду называть сумму. Все будет примерно так, как с заработками высших чиновников, мистер Диминг. Перейдя некоторый предел, уже не говоря о зарплате, просто начинают брать на покрытие расходов — любых расходов — под залог своей доли. Когда эта доля достигнет определенного размера, фирма перестает регистрировать выплаты. С вами будет так же. Вы будете брать, сколько нужно и когда захотите, до конца жизни. Один человек мог бы таким образом уничтожить фирму, выбрасывая деньги на ветер, но заниматься этим пришлось бы целыми днями и довольно долго.
— Мы… гмм, не подписали никакого договора, мистер Рокхард.
— Верно, мистер Диминг.
«Этим он хочет сказать, — подумал Диминг, — «можешь мне верить». И могу. Но не могу ему этого сказать — он откажется».
— Вы должны дать ему умереть, — жестко заметил он.
— Знаю, — ответил Рокхард.
— Я, конечно, глупец, — продолжал Диминг, — но я возьмусь за это.
Рокхард протянул руку, и Диминг ее принял. Рука была теплой и сильной, а когда он выпустил, вернулась на место медленно, словно жалея о потере контакта, а не так, как в некоторых случаях — облегченно. Этот человек не бросал слов на ветер.
Еще один глупец, решил Диминг, — если хорошенько об этом подумать.
Почему я? Это был принципиальный вопрос, вмещающий в себя все, что случилось между той первой встречей и днем, когда он отправился на Ревело. Но тогда он уже знал ответ.
Начало на Земле, решение небольшой проблемы на Ревело и возвращение. Будь это все, Рокхард не впутывал бы сюда Диминга. Это мог сделать тот безымянный толстяк, даже старик. Однако имелись некоторые… сложности.
Диминг прошел двойную подготовку и получил новую катушку — оставалось только включить ее в цепь корабля. Однако корабль был спрятан далеко от Земли.
Ну хорошо, допустим, корабль уже есть; остается только сунуть в автопилот жетон-указатель Ревело и нажать кнопку.
Но жетона Ревело у него не было. Ни у кого не было такого жетона, и лишь немногие вообще знали, где он находится. Разумеется, он существовал: в архивах Астро-Сити на планете Ибо. Придется сначала достать его. А архив…
Архив находится в здании Штаба Ангелов.
Итак, если у него будет корабль и жетон, если Рокхард окажется прав и новая катушка будет действовать, как надо, пронося его не только сквозь поле смерти, но и обратно, и если все это удастся провернуть, не привлекая к себе внимания Ангелов (Рокхард считал, что Дон уже привлек их внимание, перевернув поле), то новая модель, которая не нарушает поля и вообще не действует, должна позволить Димингу проникнуть на Ревело, а затем — уже с Дональдом — убраться оттуда, не потревожив сигнальных устройств, если такие имеются. Если бы какое-то неопределенное время Ангелы действовали согласно своей первичной информации (что на планете появился один корабль и никто ее не покинул), и если бы Дональд Рокхард был еще жив и знал, какое сообщение передать отцу, и если бы Диминг вернулся, а Рокхард правильно понял известие от сына и после всего этого дал то, что обещал — это была бы неплохая сделка. И кроме того, лишь человек вроде Диминга имел шанс выполнить все это.
Вот потому и была долгая подготовка с Рокхардом и его заместителем по науке (из выводов которого Диминг понимал не более десятой части) и поспешное возвращение в собственную квартиру, где он написал письмо руководству отеля, в котором работал, администрации дома, на склад продовольствия, ремонтной мастерской, службе связи и так далее и тому подобное, включая отправку часиков старой козы туда, где это даст максимальную выгоду, а также платы за алкоголь, одежду, и гараж, и, и, и… («Пчелка трудилась и ума лишилась», — тихонько напевал он, продолжая все это, чтобы убедить окружающий человеческий улей, что беспокоиться нечего, ничего страшного не происходит — честное слово.) Когда он закончил, все было готово, чтобы вернуться через пару недель к нормальной жизни, а если нет, то наготове была еще одна пачка писем предприятиям, службам и мастерским, сообщающих о небольшой задержке и оправдывающих еще две недели отсутствия, а потом еще одна порция, извещающая о каком-то деле на планете Блубаттер где-то в Крабовидной Туманности, а в самом конце поздравления для бармена — «Как поживаешь, Джо?» — которые будут отправлены в конце второго года. Если они вообще попадут на почту, то придут через полтора года после его смерти. Готовя эти поздравления, Диминг чувствовал, как по спине его бегают мурашки.
Наступил день отъезда (неужели действительно всего четыре дня назад он собирался с часами к скупщику краденого, когда в дверь постучали?). Рокхард пожал ему руку, и Диминг вторично ощутил это теплое прикосновение, одновременно заметив в старых, холодных глазах нечто, что могло быть мольбой. Интересно, какой бы она была, если придать ей форму слов? «Спаси моего сына»? «Не подведи меня»? Или, может: «Верь мне и никогда не сомневайся»? Он вручил ему столько денег, сколько Диминг не держал в руках с той ночи, когда за покером сорвал банк, а потом спустил все парню, который выиграл следующую раздачу. Но сейчас это были деньги только на мелкие расходы, даже не включенные в договор. Рокхард наверняка не подозревал, насколько близок был к потере нанятого человека — из-за размеров этой «карманной» суммы. А может, и подозревал, поскольку с этой минуты Димингу было бы легче избавиться от своей тени, чем от толстяка Рокхарда.
Думаете, он отправился в путь, откинувшись на роскошном сиденье лимузина, глядя на толпу друзей, машущих платочками из окон? Ничего подобного. Он выехал из дома в кузове фургона, доставившего его во двор неведомого здания. Там его без слов проводили в какое-то помещение, запихнули в скафандр и сунули в камеру не большую, чем ящик для белья в диване, при этом мучительно округлив, поскольку ее диаметр был на две ладони меньше его роста и он никак не мог распрямиться до конца. Крышку заварили, и в этот момент он обнаружил, что анальная трубка не хочет поворачиваться на ту четверть оборота, которая открывала доступ к регенератору. Он провел почти всю ночь, пытаясь сжать ее ягодицами, которые оказались недостаточно цепкими, а по мере течения времени начали требовать признания своих нужд, что выходило за пределы его возможностей. Впрочем, тут он ошибался: методом «постепенного приближения» ему удалось наконец открыть выход, после чего он долго лежал весь в поту от усилий и облегчения. А потом через его тюрьму прошло больше времени, чем такая клетушка могла вместить, и все это время он мог только думать.
Думал он раз за разом лишь о том, что, собственно говоря, тюрьма эта не была для него ни неудобной, ни мучительной, поскольку он привык к чему-то подобному. В конце концов уже пару лет в его номере в отеле было не менее тесно, чем в этой консервной банке. Его прогулки в образе Джимми-Молнии подчинялись подобным ограничениям: отсутствие времени, подходящих целей и помехи, создаваемые вездесущими Ангелами с их добрыми, умными лицами и снисходительностью — чтоб их всех черти взяли! И ни одного из них нельзя было убить, хотя он много дал бы, чтобы заполучить такого под елочку и испробовать на нем разные методы, хотя бы до лета. Это они, больше чем кто-либо, закрыли ему небо, так что приходилось повсюду ходить, опустив голову. Диминг пытался представить, как было бы хорошо, если бы его собственное небо позволило ему подпрыгнуть повыше и выругаться так, чтобы слышали все, а им — сто чертей в бок; но мечты слишком отличались от привычных, и он вернулся к мысли, что ему не так уж и неудобно, и так кружил в этом замкнутом круге чувств, под закрытом небом. Черти бы взяли этих могучих, снисходительных Ангелов!
Потом он заснул, а еще позднее поверхность, на которой лежал, загремела и накренилась и — можете себе представить? — это было лишь следующее утро.
Диминг включил свой проникатель и с нетерпением ждал, пока его псевдожесткое излучение пройдет сквозь бериллиевую оболочку корпуса и изображение станет резким. Его тюрьму поднял кран, чтобы поставить на низкую транспортную платформу, движущуюся немедленно после установки груза. С грохотом въехала она на стартовую плиту, где уже ждал корабль, — брюхом вниз, как бескрылое насекомое, опирающееся на шесть суставчатых ног, одна их которых не имела подошвы, и ее поддерживал в воздухе высокий домкрат, как будто конюший, поддерживающий поврежденное лошадиное копыто и ждущий, пока товарищ вернется с живительной мазью.
Платформа оказалась под ногой, и Диминг даже сощурился из-за грохота и скрежета, доносившихся сверху, пока его темницу крепили к подпорке, чтобы она стала ее частью. Потом наступила минута покоя, когда ушли монтеры и помощники, наглухо закрыли люки и шлюзы, а экипаж занял свои места. Где-то прозвучал свисток; Диминг услышал его через радио скафандра, передавшее этот звук из интеркома, а тот, в свою очередь, из наружного микрофона, размещенного на панцире корабля. Свист умолк, сменившись грохочущим ворчанием распрямляющихся ног, поднимающих корабль с Земли, чтобы большую часть забираемой мигополем земной материи составлял воздух.
А потом Земля внезапно исчезла, и корабль оказался в световых годах от космодрома еще до того, как гром имплозии потряс внутренности. Желудок у Диминга подскочил к горлу, но через мгновение вернулась тяжесть, а вместе с ней — изображение в проникателе: серо-зеленая равнина, на которой виднелось несколько цилиндрических зданий и шесть посадочных площадок.
«В этом вся проблема с современными космическими полетами, — угрюмо подумал Диминг. — Космоса в них и одним глазом не увидишь».
Корабль висел в воздухе, метрах в трехстах над площадкой, антигравитатор получал энергию от находящегося внизу генератора. Затем он начал постепенно снижаться, направляясь к одной из незанятых платформ.
Четвертый по счету.
Инструкция, полученная Димингом, гласила, что это должна быть платформа номер шесть, и сейчас он с растущим беспокойством заметил, что шестая платформа занята небольшим спортивным мгновенником.
Только в одном месте он имел шанс выбраться из своей тюрьмы, и место это находилось на шестой платформе. Никто из экипажа корабля не знал о присутствии Диминга, да и он не знал, откуда этот корабль прилетел, куда направляется и на какой платформе находится в данный момент. Если он сядет не на ту платформу, ему придется остаться в укрытии, а затем лететь дальше с кораблем и либо сдохнуть с голоду, либо орать по радио, пока его не вытащат в неуместном месте, в неуместное время и неуместные люди.
Включив передатчик, Диминг настроился на посадочную частоту.
— Вали отсюда, капитан. Шестой номер наш, — решительно сказал он, надеясь, что контроль полетов решит, будто с капитаном говорит кто-то из экипажа, а капитан будет уверен, что это контроль полетов.
Из интеркома донеслось ворчание, но он не понял ни слова. Корабль притормозил, но через мгновение снова начал спуск. Диминг напряженно ждал, умоляя свой мозг придумать что-нибудь, а потом буквально расплакался от облегчения, увидев фигуру в скафандре, выбежавшую из здания и мчащуюся к мгновеннику, стоящему на платформе номер шесть. Корабль поднялся вверх и приземлился на четверке, а тот, в ноге которого находился Диминг, сел на отведенную ему платформу.
Некоторое время он лежал, дрожа всем телом, потом улыбнулся. Интересно, начнут ли капитан и офицер контроля полетов, сидя за пивом, выяснять, кто это велел убираться. Именно так начинались драки в ресторанах.
Диминг еще раз осмотрел местность вокруг, а потом уже не обращал внимания на окружающее. Он ухватился за металлическое кольцо, торчащее в полу камеры, и повернул его. Послышалось едва слышное тиканье включающихся реле, после чего плита, на которой он лежал, начала опускаться. Она доехала до поверхности платформы и вошла еще глубже. Уверенный в себе, он включил прожекторы шлема; снаружи не будет видно ничего, кроме большой круглой опоры, прочно упершейся в бетонную площадку. Кто мог знать, что она вдавливает в землю соответствующий ей размерами круг бетона?
Движение плиты прекратилось, и Диминг увидел Справа, нишу, высеченную с бетонной стене. Он молниеносно перебрался в нее, поскольку плита, доставившая его вниз, уже вновь начала подъем. Беззвучно прошла она рядом с ним — Диминг даже не подозревал, что она такая толстая, — а затем стала крышей подземной камеры, в которой он находился. Диминг спрыгнул на дно. Места здесь было немного — лишь для него и небольшой спасательной шлюпки, влекущей его к себе золотыми бликами на полированной, покрытой пылью поверхности.
Лодка имела форму шара, на первый взгляд слишком маленького, чтобы на что-то годиться. Единственное кресло было спроектировано для существа гораздо ниже Диминга — и гораздо более худого, что он обнаружил, когда, гневно бормоча, попытался в него втиснуться. Пульт управления оказался несложным. Материал корпуса изнутри был совершенно прозрачен, а вся силовая часть корабля, очевидно, находилась под креслом.
Большим пальцем Диминг нажал на кнопку в поясе скафандра и стал ждать. Вскоре послышался свист воздуха, которым скафандр заполнял небольшую кабину, а сразу после этого датчики, проводившие анализ атмосферы и проверявшие герметичность машины, весело замигали огоньками. Со вздохом облегчения Диминг откинул шлем и отстегнул рукавицы. В сумке на поясе нашел жетон для Ибо — осмиевый жетон с неровным краем, похожий на особо сложное лекало, — сунул его в щель автопилота и уверенно нажал красную кнопку.
Не было никакого звука, правда, Димингу показалось, что лодка чуть присела, а потом снаружи возникла неописуемая беспокоящая серость. Диминга не волновала пустота, внезапно образовавшаяся в дыре под ногой корабля. Звука ее заполнения никто не услышит среди грохота и скрежета порта, а может быть, воздух постепенно просочится через отверстие и обойдется вообще безо всякого звука.
Диминг осторожно огляделся по сторонам. Люди Рокхарда отлично выполнили свою работу. Хотя мгновенник мог стартовать почти с любого места на поверхности, над или под ней, появление в месте назначения обычно происходило высоко вверху. Столкновение с чемлибо находящимся на земле, начиная с детской игрушки и кончая случайным прохожим, могло оказаться неприятным. Кораблю это бы не повредило, он автоматически убрался бы в подпространство при самом слабом сигнале, указывающем на существование в этом месте иной материи, но предмету, оказавшемуся на поверхности планеты и гораздо менее эластичному, повезло бы значительно меньше. Одним из решений была посадочная плита, которую и применили в данном случае. Плита наводила корабль на себя, конечно, если на пути не имелось тяжелой материи, что могло оказаться опасно; в таком случае включалась только система вызова, а наведение оставалось бездействующим, и корабль появлялся на безопасной высоте над поверхностью. Обнаружить это устройство, размером не больше тарелки и присыпанное слоем земли, было практически невозможно.
Мгновенник сел на дно глубокой, узкой долины, пересекающей холмистый пейзаж. Было темно, где-то недалеко шумел ручей. Вокруг раскачивались растения, и тот, кто стал бы искать здесь корабль, скорее, споткнулся бы об него, чем заметил. Диминг не колеблясь открыл люк и откинул его назад. Он уже был однажды на Ибо и знал, что это близнец Земли. С наслаждением вдохнул он свежий воздух, потом поднялся и снял скафандр, положил его на кресло. Разгладив складки на своем верном двухстороннем пиджаке, он проверил содержимое карманов, убедившись, что с них есть все, что требуется, закрыл люк и начал подниматься по крутому склону оврага.
Вскоре он оказался на краю луга и радостно сказал себе: какая прекрасная планета. Раскинув руки в стороны, он на мгновение замер, завороженный фантастическим видением открытого неба, однако тут же увидел движущиеся огни, сжался в траве, и его небо снова закрылось над ним.
Это оказалась всего лишь наземная машина, и наверняка никто из сидящих в ней не заметил Диминга. Он смотрел, как она медленно приближается, а потом минует его не далее, чем в тридцати шагах. Это хорошо: дорога, вот что ему сейчас нужно.
Диминг старательно запомнил положение и вид склона, на котором стоял, а потом начал спускаться вниз, к дороге. С удовлетворением отметил он дорожный указатель и каменный мост, по которому дорога шла над услышанным недавно потоком. Найти это место будет нетрудно.
Он весело зашагал по дороге к огням города, видневшегося невдалеке, на фоне покрытых деревьями холмов. Он так и не ответил на вопрос «почему я?», но на секунду пожалел, что Рокхарда нет с ним сейчас и он не может принять участие в приключении или даже переждать его в одиночку. Что ж, если он хочет делать подарки, вроде неограниченного кредита за выполнение такого приятного задания, тем хуже для него.
Он поднялся на вершину пригорка и внезапно оказался в городе. Место посадки находилось не на окраине, а в огромном Центральном Парке Астро-Сити. А сейчас перед ним возвышался Астро-Центр — в пяти минутах ходьбы!
Это было импонирующее здание, одно из тех низких, раскидистых строений, которые внутри кажутся значительно больше, чем снаружи. К многочисленным дверям вели широкие, низкие ступени. Видимо, на планете был ранний вечер: вокруг освещенного здания царило оживление. Диминг знал, что Центр открыт всю ночь, но позднее толпа пилотов, портовых служащих, студентов факультета навигации, работников, обслуживающих мгновенники, и детей поредеет. Отлично, подумал он. Когда нужна толпа, она есть, когда не нужна — ее нет.
На вершине лестницы в дверях появилась девушка и остановилась, отвечая на его автоматическую улыбку. К огромному удивлению Диминга, она опустилась на одно колено и наклонила голову.
— О, нет, детка… пожалуйста, не надо, — раздался за ним звучный голос, мимо прошел высокий Ангел, поднял девушку и поставил. Он коснулся ее щеки, улыбнулся и вошел внутрь, а девушка горящими глазами смотрела ему вслед, прижав руку к щеке.
— О… — прошептала она, — как бы я хотела… — Потом, заметив вдруг, что рядом стоит Диминг, смутилась и отошла в сторону. — Простите… я мешаю вам пройти.
Хоть он и был одет как середнячок, но заговорил голосом Джимми-Молнии.
— Закончи свое желание, крошка. Оно никогда не исполнится, если прервется на половине. — А потом улыбнулся той светлой, веселой улыбкой, которая никогда не соседствовала с глупыми усиками и неприметным лицом — лицом Диминга в роли заместителя заместителя. Его испугало внезапное появление Ангела, но совершенно покорил поступок девушки и то абсолютное обожание, которое на секунду казалось предназначенным для него. Кроме того, он упивался близостью последней преграды на пути, отчего стал исключительно осторожен. И тут улыбка Джимми-Молнии впервые появилась на лице бумажной крысы, создав новую личность, поведения которой он не мог предсказать. Например, этот быстрый взгляд в небо — откуда он? Ах да, конечно, небо: он чувствовал, как закрытое над ним небо немного поднимается, давая ему свободу движений. «Разумеется, — подумал он, — свобода всегда больше, когда не знаешь, что сделаешь в следующую минуту». Безумная минута, все происходит мгновенно — девушка видит его удивленную улыбку и возвращает ее, окрасив всеми оттенками своей личности, со словами:
— На половине? Ах да, я не закончила желание, правда? Она коснулась ладонью пылающей шеи и быстро взглянула на здание, в котором скрылся Ангел. — Я хотела бы быть мальчиком.
Диминг рассмеялся так неожиданно и громко, что все находившиеся на лестнице остановились, подхватили этот смех и разошлись с прояснившимися лицами.
— Это желание не может сбыться, — сказал он, даже не пытаясь скрыть удивление. Девушка была стройной, высокой и с тем редкостно красивым лицом, на котором любое зло не оставляет никакого следа.
— Разве кто-нибудь слышал об Ангелице? — сказала она.
— Так вот в чем дело… А почему ты хотела бы стать Ангелом?
— Чтобы делать то, что они. Я никогда не видела, чтобы Ангелы делали такое, чего я сама не хотела бы сделать. Помогать другим, быть добрым, мудрым и сильным для всех, кому нужна помощь.
— Не обязательно быть одним из них, чтобы научиться всему этому.
— Нет, обязательно! — сказала она тоном, исключающим любую дискуссию. Он понял это и — хочешь, не хочешь — уступил. То, что кто-то думает, как Ангел, еще не дает ему возможности стать им.
— Даже если бы ты стала мужчиной, это еще не сделало бы из тебя Ангела.
— Но я могла бы им стать, — сказала она, вытягивая шею, чтобы взглянуть вдаль, на площадь перед зданием, где мелькнул золотистый наряд следующего Ангела. Лицо ее осветилось, когда она его увидела, даже с такого расстояния, и улыбка целиком досталась Димингу, когда она снова к нему повернулась. Эта улыбка так же выбивала из колеи, как подпространство.
— Ты в этом уверена? Разве они были обычными людьми, прежде чем стать Ангелами?
— Конечно, — ответила она с фанатичной уверенностью. Они не могли бы столько делать для людей, если бы когда-то сами не были ими.
— А как же они стали Ангелами? — засмеялся он.
— Этого никто не знает, — признала девушка. — Но если бы мужчина мог стать Ангелом и я была бы мужчиной, то уж нашла бы способ.
Диминг стоял, захваченный ее чувствами, и думал, что если бы девушка действительно была мужчиной и захотела стать Ангелом или так же сильно пожелала бы чего-то другого, она наверняка добилась бы своего.
— Мне нравится мысль, что когда-то они были людьми, — заметил он.
— Можете не сомневаться. Как вас зовут?
— Что? Гм… — Слияние Невидимки-Диминга и Джимми-Молнии слегка выбило его из колеи, и он не знал, что ответить. Чтобы скрыть замешательство, он закашлялся, а потом сказал:
— Я только что прибыл сюда с Бравадо, чтобы взглянуть на место, о котором столько говорят.
Если даже девушка обратила внимание, что он уклонился от ответа, или задумалась, где может находиться это Бравадо, по ней это было незаметно. В те времена планеты были полны довольно странных людей, а небо кишело названиями.
— Тогда, может, показать вам Центр? Я здесь работаю. Дежурство мое закончилось, и я не знаю, чем заняться.
Диминг жалел, что не знает ее имени. Он впитывал ее усердие, ее полную беззащитность, доверие и искреннее желание помочь и вдруг почувствовал давящую волну чувства, прежде совершенно ему неведомого. Для него вдруг стало отчаянно важно, что будет с ней в будущем; он хотел избавить ее от всякого зла, которое могло ее ждать, хотел бежать перед ней, убирая все препятствия, о которые она могла бы споткнуться, уничтожить все, что могло бы ее поранить: защитить ее, предупредить… Он хотел схватить ее за плечи, встряхнуть и закричать: «Слушай меня, остерегайся чужого, не верь никому, не помогай никому, заботься о себе!» Однако чувство это прошло, и он даже не коснулся ее и не сказал ничего. Взглянув на здание, он вспомнил, что там находится нужная ему вещь, которую он должен добыть, невзирая на цену. Если понадобится, он использует и эту девушку — в этом он не сомневался, и сознание этого мешало ему. Однако оно было, и Диминг ничего не мог с ним сделать.
— Спасибо! — сказал он. — Это очень мило с твоей стороны.
— Ничего особенного, — ответила она с обычным своим доверчивым усердием. — Я обожаю это место, так что благодарить нужно мне. — Она повернулась и вошла внутрь. Диминг последовал за ней.
Несколько часов спустя он получил, что хотел. Или, по крайней мере, узнал, где это находится. Среди сотни отделов, ста тысяч картотек, десятков залов, вмещающих трехмерные карты всех уголков изученной части Космоса, среди музейных залов, содержащих экспозиции произведений великих, странных, вымерших, новых, опасных, совершенно непонятных цивилизаций прошлого и настоящего находился жетон-указатель для Ревело маленькая вещица, которую человек мог спрятать в ладони и которая должна была привести его на закрытую планету; через которую, как сквозь замочную скважину, должно проникнуть все его естество, чтобы вынырнуть по другую сторону, среди богатства, превосходящего всякое воображение. Диминг взглянул на девушку, доверчиво идущую рядом, и вновь понял, что, сколько бы она ни стоила, это не настолько важно, чтобы заставить его свернуть с выбранного пути, что девушка не настолько ценна, чтобы ее беречь, если она вдруг станет преградой. И мысли эти невероятно опечалили его.
Он увидел ряды распределителей жетонов-указателей, где каждый мог получить жетон любой планеты… точнее, почти каждой и почти любой планеты. Отстучи на клавиатуре название планеты, и через пару секунд нужный жетон упадет в стеклянный контейнер под пультом. Проверь через стекло, то ли на нем название, и, если да, нажми большим пальцем углубление справа (отпечаток пальца послужит для идентификации при отправке счета), и контейнер откроется. Если же название набрано неверно и ты увидишь другой жетон или уже успел передумать, нажми кнопку возврата, и жетон вернется в магазин.
Диминг отстучал К-Е-Т, и в контейнере появился пустой жетон. Одновременно внизу загорелась надпись: ПЛАНЕТА ЗАКРЫТА.
— Боже мой, надеюсь, вы не хотели заказать этого?! — воскликнула девушка.
— Нет, — ответил Диминг, и это была правда; из всех планет Космоса Кет пользовалась самой дурной славой. — Я просто хотел посмотреть, что будет, если я наберу что-то подобное.
— Тогда появится пустой жетон, — сказала девушка, освобождая контейнер нажатием кнопки возврата. — Жетоны закрытых планет совсем в другом месте. Их держат отдельно, в особой картотеке. Хотите ее посмотреть? За ней присматривает Ангел Абдасел: он такой милый.

Сердце Диминга забилось чаще.
— Да, хотел бы. Но… пожалуйста, не заставляй меня говорить с Ангелом. Рядом с ними я чувствую себя таким… наверное, тебе не понравятся мои слова…
— Говорите.
— Рядом с ними я чувствую себя таким маленьким.
— За это я не собираюсь сердиться! — засмеялась девушка. — Я тоже в их присутствии чувствую себя маленькой. Ну, идите.
По серой транспортной шахте они взлетели на верхний этаж невысокого здания, после чего лабиринт коридоров привел их к дверям с надписью «Только для персонала», которые девушка открыла перед ним, приглашая войти шутливым жестом, выражающим гордость и уважение. В конце этого коридора находилась ведущая вниз лестница; Диминг заметил внизу угол двери наружу и кусты, залитые солнечным светом. Наверху лестницы была открыта дверь, через которую видны были золотистые блики внутри помещения. Значит, там был Ангел. Диминг прижался к стене, чтобы оказаться вне поля его зрения.
— Это здесь? — спросил он.
— Да, — ответила она. — И не нужно стесняться; Абдасел очень мил, — Она постучала. — Абдасел…
Донесшийся изнутри звучный голос был теплым и дружеским.
— Тэнди! Входи, детка.
«Значит, ее зовут Тэнди», — угрюмо подумал Диминг.
— Я привела с собой знакомого. Можно ли нам…
— Любой знакомый…
Прежде чем подойти к двери, Диминг вынул специально разработанный игольник, который получил от Рокхарда. Прижав оружие к двери, он высунул голову лишь настолько, чтобы прицелиться одним глазом. Потом выстрелил, и игла тихо вонзилась в широкую золотистую грудь. У Ангела не было даже времени среагировать. Он удивленно склонил голову, словно хотел взглянуть на свою грудь, а рука его поднялась, чтобы ее коснуться. Но рука замерла — как и весь Ангел.
— Абдасел?.. — прошептала удивленная девушка и вошла в помещение. — Ангел Аб… — тут она, вероятно, почувствовала что-то в напряженной позе своего спутника и, повернувшись, взглянула на игольник в его руке, а потом на замершего Ангела. — Это… это вы?
— Мне очень жаль, Тэнди, — прохрипел Диминг. — Очень, очень жаль. — Он тяжело дышал, глаза жгло, и Диминг со злостью вытер слезы свободной рукой.
— Вы его ранили, — ошеломленно прошептала она.
— Он ничего не почувствовал. Скоро это пройдет. Но знаешь ли ты, что я должен убить тебя? — спросил он, корчась от внезапной боли.
Она не вскрикнула, не упала в обморок, даже не испугалась.
— Правда? — спросила она просто, с искренним удивлением.
Он убрал ее с дороги, не колеблясь уже ни секунды, боясь, что усомнится в правильности своих поступков. Сосредоточившись на одной ледяной цели, он держал ее, роясь на столе Ангела в поисках индекса. Наконец нашел: это был полный список закрытых планет. В небольшой клавиатуре возле компьютера Диминг узнал уменьшенную версию находящихся внизу распределителей, правда, без углубления для большого пальца, с помощью которого определяют получателя жетона.
Диминг поднял руку Ангела. Длинная рука была тяжелой, жесткой и заметно холодной — ничего удивительного, принимая во внимание поглощающий тепло атермин, который игла еще сейчас вводила в кровь Ангела. Его было достаточно, чтобы в течение нескольких минут заморозить обычного человека насмерть, но Рокхард заверил Диминга, что игла не может убить Ангела. Не то, чтобы это волновало его или Рокхарда, для их целей игла годилась, смертоносная или нет.
Подняв тяжелую ладонь Ангела, Диминг одним из его пальцев отстучал названия восьми закрытых планет и среди них, разумеется, Ревело. Достав жетоны из контейнера, он сунул их в карман. Потом подошел к двери и остановился, затаив дыхание и вслушиваясь. В коридоре не было никого.
Сняв пиджак, он вывернул его наизнанку, вложил в ботинки стельки, убрал усы и контактные линзы, после чего вышел в коридор, Он не оглядывался, ибо единственное что видел сейчас — оглядываясь или нет — это скорчившуюся на полу фигуру с улыбкой на лице. С УЛЫБКОЙ, благодаря судороге мышц… благодаря жестокому случаю, который должен был навек запятнать его внутреннее «я».
Не торопясь Диминг спустился во мрак ночи и двинулся по лестнице в сторону парка, не чувствуя внутри ничего, если не считать постоянной холодной горечи, всегда сопровождавшей его успехи. Когда-то, он считал, что это чувство возникает от уверенности, что добыча такая маленькая, но на сей раз пришлось бы хорошенько подумать, чтобы придумать большую.
Его небо давило ему на голову и шею, он рассчитывал каждый свой шаг и знал, каким будет следующий.
Было очень темно.
Диминг нашел нужную дорогу и придорожный столб под мостом. Люди, мимо которых он проходил, не обращали на него внимания; убедившись, Что за ним никто не следит, он скользнул в чащу и пробрался на луг. Найдя уходящий вниз от края оврага гребень, он спустился по нему, выбирая дорогу в основном мускулами ног и слухом. Игольник он держал в руке, ибо лучше иметь его наготове и не воспользоваться, чем нуждаться ине иметь; двигался он тихо, поскольку существовала еще такая штука, как статистическая вероятность, а когда добрался до места прямо над укрытием лодки, лег на краю и лежал неподвижно, прислушиваясь.
Слышался только плеск воды.
Диминг вытащил фонарь и держал его в той же руке, что игольник, сжимая оба предмета вместе, параллельно, чтобы все, освещенное лучом фонаря, одновременно оказалось бы на линии выстрела. Затем, ползя на животе и отталкиваясь локтями, добрался до края и заглянул вниз.
Тесно, как в могиле. Ничего не видно.
Направив игольник и фонарь как можно точнее в место, где должен находиться его корабль, Диминг положил палец на спуск, а второй рукой нашел кнопку фонаря и нажал.
Узкий луч света устремился вниз. Прицел был точен: в круге света оказался корабль и кусок земли, на которой он стоял, а также фигура Ангела, терпеливо сидящего на крыше машины.
Ангел поднял голову и улыбнулся.
— Привет, дружище.
— Привет, — ответил Диминг и выстрелил. Ангел по-прежнему сидел на месте, с улыбкой на губах и глазами, прищуренными от света. Какое-то время ничего не происходило, но в конце концов, все так же с поднятой головой и улыбающимся лицом, Ангел скатился с вершины корабля и упал назад, в каменное русло ручья.
Диминг погасил фонарь и медленно спустился вниз. Наощупь добрался до корабля, открыл люк, коснувшись замка, запрограммированного на отпечаток его ладони, и забрался внутрь. Потом выругался и вылез наружу. Он нашел берег ручья и искал вдоль него, пока не наткнулся на мягкую крепкую ткань золотистой одежды.
Включив на секунду фонарь, он изучил картину, постепенно исчезающую с его сетчатки. Ангел лежал на спине, согнув ноги, как в момент, когда Диминг в него выстрелил; голова его была откинута назад, но Диминг ее не видел: она находилась под водой.
Он приподнял тяжелое тело и передвинул его, пока оно не оказалось в нужной позиции. Человек такого роста, как этот Ангел — уже больше него весил, а Ангел был еще тяжелее на треть. (Кто они все-таки такие?)
Наконец Диминг вернулся к лодке и закрыл люк. Вынув украденные жетоны, он старательно уложил их рядом с теми, которые уже были на борту. И задумался.
Привет, дружище.
Ее звали Тэнди.
(Умоляющий взгляд старика).
«Инян — это куча денег».
Диминг шевельнулся и раздраженно прижал пальцы к глазам, так что перед ними закружились огоньки. Не такие мысли требовались ему сейчас.
Он провел ладонью по стойке для жетонов, а потом сунул пальцы за нее, чтобы коснуться новой катушки, находившейся там. Эти маленькие предметы заключали в себе потенциал, какими не обладал ни один человек за всю историю. Он имел свободный и тайный доступ на восемь закрытых планет, где наверняка есть вещи, которые где-нибудь и когда-нибудь принесут ему невероятные деньги — даже не говоря об иняне. Он имел право предположить, что никто не выследил его с Ибо… нет, не имел права. Скажи лучше, насколько ему известно, никто его не выследил; насколько известно, никто за ним не следил. Все эти истории, которые рассказывали об Ангелах — что они могут читать мысли даже у тех, что недавно распрощались с жизнью… впрочем, со всей их силой, уверенностью и положением в обществе, неужели они всерьез считают, что одного Ангела, охраняющего жетоны закрытых планет, хватит, чтобы предотвратить потенциальную катастрофу, которую представляют собой эти маленькие кружки? Если бы тот кабинет устраивал Диминг, то Ангелы или не Ангелы, он поставил бы там камеры, сигнализацию и принял бы различные меры предосторожности, вроде установленного ритма выстукивания названий при получении жетонов, которого не мог бы знать никто извне.
Чем больше углублялся он в эти мысли, тем меньше был уверен, что затер за собой все следы. Чем больше он о этом думал, тем больше убеждался, что даже если они не сядут ему на хвост сразу же, то расставят сети в стольких местах, сколько даже его растущий страх не может себе представить.
А что бы он сделал, желая схватить кого-то вроде себя самого?
Во-первых, блокировал бы выбранные закрытые планеты (считая, что распределитель записывал, какие жетоны выдавал, а Диминг не сомневался, что так оно и было).
Затем установил бы наблюдение за всеми местами, служащими укрытием преступнику — при все более обоснованном предположении, что вскоре они будут знать, кто он такой.
А узнав, они блокируют Рокхарда, поскольку договор с ним наверняка будет обнаружен; он слишком сложен и затрагивает слишком много людей, чтобы долго оставаться в тени, после того как Ангелы возьмут след.
Это означало, что Земля для него не годится, закрытые планеты не годятся, так же, как Ибо, Блубаттер и все места, в которых он когда-либо был. Нужно найти какое-нибудь новое место, в котором он никогда не был, где никто его не знает и где много людей, среди которых можно затеряться. Он должен каким-то образом найти путь к Дону Рокхарду и хотя бы части тех богатств, которые обещал ему старик.
Вздохнув, он принялся копаться в жетонах на стойке и вскоре нашел один с названием «Иоланта». Большая планета, пожалуй, несколько перегружающая мышцы с точки зрения любителей комфорта, но плотно населенная и совершенно ему не известная.
Диминг бросил жетон в отверстие и отправился навстречу своей судьбе.
Иоланта действительно была на уровне. Он вышел из подпространства на высоте около мили и быстро перескочил на ночную сторону. Имел корабль такого неповторимого вида, он не решился посадить его там, где это вызвало бы комментарии. Оставаясь наверху, Диминг принялся изучать телекоммуникационные услуги, которые могла предложить планета.
Их было много. Одновременно с сигналом вызова непрерывно передавалась трехмерная карта поверхности планеты, а также фантастическая радиолокационная сетка, по которой легко было определить свое положение. На одной полосе частот передавали развлекательные программы, на другой — новости. Это была широкая полоса, состоящая из кадров видеосъемки, с наложенным звуковым комментарием. Он мог выбрать любое место из всего комплекта, снабженного указателями и отлично подобранного, так что включал новости первостепенного значения и менее важные, события местные и межзвездные.
Диминг начал с новейшей информации, постепенно отступая в прошлое. Не было ничего, буквально ничего, что могло бы относиться к нему — даже упоминания мест, в которых он побывал. И вдруг он оказался лицом к лицу с Ричардом Е. Рокхардом.
Диминг включил звук.
«…Обвиненный вчера судом присяжных Высшего Суда Земли, — приятным голосом сообщил диктор, — по ста одиннадцати статьям: создание торговых ограничений, нелегальное накопление власти, проталкивание высоких цен, монополизация, рыночные манипуляции…» — и так далее и тому подобное. Старый злодей явно перегнул палку. — «…движимое и недвижимое имущество Рокхарда оценивается в два и три четверти миллиарда, но в свете этих обвинений очевидно, что просроченные платежи, задолженности, налоги и штрафы вне всякого сомнения достигли суммы, превосходящей его состояние. Разумеется, имущество находится в руках властей до проведения детальных подсчетов».
Диминг медленно вытянул дрожащую руку и включил приемник. Задумчиво смотрел он, как бодрое, холодноглазое лицо старца исчезает под его рукой, внезапно исказившись. Была ли это всего лишь иллюзия или последние электроны искривили гаснущее изображение — во всяком случае долю секунды лицо Рокхарда выражало ту самую молчаливую просьбу, которая так тронула тогда Диминга.
— Глупая, безобразная, старая свинья! — рявкнул он, слишком потрясенный, чтобы придумать какое-нибудь действительно обидное оскорбление.
Итак, денег нет. Ничего нет, кроме того, что захватили власти. Может, хочешь вернуться и потребовать у них?
Он пересчитал деньги, которые старик дал ему на мелкие расходы. Все они были еще в цене, но Димингу вдруг перестало казаться, что их много. Он сунул деньги снова в карман и только теперь задрожал всем телом.
Нужно что-то делать. Нужно приземлиться и исчезнуть.
Диминг включил проникатель и настроил его на видео. Ночное устройство давало изображение гораздо лучше, чем бериллиевая сталь. Направив объектив вниз и получив резкое изображение поверхности планеты, Диминг принялся искать укрытие для лодки. Хорошо бы найти холмистый или скалистый район. Густую растительность, доступ к дороге или реке, может, даже…
По экрану промелькнуло что-то золотистое.
Подавив крик, Диминг ударил по регулятору. По мере того, как теоретическая точка наблюдения поднималась вверх, угол зрения камеры расширялся, а детали исчезали. Он поймал их, потерял, снова поймал и теперь уже не выпускал — трех Ангелов с самодельными геогравитаторами, летящих клином над самой землей. Они быстро осматривали местность, ища… ища что-то спрятанное внизу, настолько маленькое, что это оправдало такой детальный осмотр, и настолько неподвижное, что можно надеяться на свое зрение. Что-то, размером, скажем, с его лодку.
Движимый внезапный импульсом, Диминг включил детекторы корабля. Изображение пошло волнами, замерло и снова заволновалось по мере того, как детекторы высматривали и выбирали, чтобы затем дать изображение всего, что обнаружили.
Два небольших золотистых корабля приближались с севера и северо-востока.
Еще один подлетал с востока, а четвертый уже висел над ним, маневрируя таким образом, чтобы преградить ему путь.
На юге большой… нет, это просто грузовик, занятый своими делами. Хотя нет — он выгружает катера. Диминг увеличил изображение: боевые катера мчались к нему.
На юго-востоке… А, к черту юго-восток! Он выхватил из стойки жетон Ревело и ткнул его в щель приемника. Жетон выскользнул из пальцев и упал на пол, Диминг бросился за ним и жадно схватил.
С правой стороны лодки расцвело вдруг ярко-розовое облако; второе такое же появилось сразу за ним. Это означало: «Остановись для допроса, иначе…»
Весь корпус лодки зазвучал, индуктированная вибрация обрела форму слов: «Остановись во имя Ангелов! Приготовься к буксировке».
— Да, конечно, — сказал Диминг и на этот раз попал жетоном в щель. Он ударил по кнопке, и картина, видимая одновременно на экране и сквозь окно, исчезла.
Он выключил все, что не было ему нужно, и откинулся назад, мокрый, как мышь.
Даже на мгновение не возникло у него мысли, что они приняли его за кого-то другого. Они отлично знали, с кем имеют дело. Сколько же им потребовалось времени, чтобы взять его на мушку на планете, выбранной им наугад? Полчаса?
Диминг поймал себя на том, что выглядывает в иллюминатор, и с удивлением отметил, что все еще находится в подпространстве. Никогда прежде это не длилось так долго, где, черт возьми, находится эта Ревело?
Он снова начал потеть. Может, поврежден генератор поля? Нет, огоньки на пульте управления утверждали, что все в порядке.
Монотонная, пугающая серость не кончалась. Диминг закрыл окна и сжался на кресле.
Почему он вообще выбрал Ревело?
Только из-за неподтвержденного предположения, что один человек сохранил там жизнь. Другие закрытые планеты означали смерть в той или иной форме, он даже не знал, в какой именно. Видимо, Ревело была не менее смертоносной, хотя Дон Рокхард не ста бы рисковать, зная это наверняка.
А может — но это маловероятно — новая катушка мигополя будет работать в поле смерти Ревело так хорошо, что ему удастся проскользнуть незамеченным. Может, на время, на очень короткое время, он найдет укрытие, в котором сможет подумать.
Снаружи донесся свист разрываемого воздуха. Диминг выглянул в иллюминатор, но ничего не увидел. Тогда он включил детектор и только после этого вспомнил, что окна закрыты. Он открыл их и впустил внутрь свет планеты Ревело.
Никогда прежде не видел он подобного неба. Над ним проплывали массы цветов — голубой, зеленовато-голубой, розовый; едва видимый зенит закрывали залпы вспышек. С востока поднимался огромный пурпурный язык пламени, исчезающий почти над головой и гипнотически пульсирующий.
Диминг содрогнулся. Настроив детектор на поиск лодки Дона Рокхарда, он включил автопилот, потом запустил наружный анализатор атмосферы и стал ждать.
Поскольку искомая лодка была невелика, а планета огромна, пришлось значительно усилить чувствительность детектора, конечно, за счет избирательности. Аппарат находил ему самые разнообразные вещи: сверкающие куски металлической меди и молибдена, торчащие с разрушенных вершин, длинную мерцающую цепочку округлых озер жидкого свинца и даже передатчик предупреждающего сигнала Ангелов и генератор поля смерти. Явно никто не обслуживал эти устройства, и вполне естественно: они имели автоматическое питание, никогда не портились, а размещались в контейнерах, которые не сдвинул бы с места даже термоядерный взрыв.
Через некоторое время ему захотелось спать, поэтому он настроил звонок детектора на максимум и откинулся на спинку кресла. Каждый раз, когда он засыпал, ему снился сон, кончавшийся — независимо от начала — встречей лицом к лицу с улыбающимся Ангелом, не вооруженным, милым, просто ждущим его. Каждый раз, когда звенел звонок, Диминг подскакивал в кресле и выглядывал в окошко, выискивая, что же обнаружил детектор. Необходимость контакта с кем-то другим, с его мыслями, а не только с собственной маниакальной идеей бегства и мертвыми улыбками добрых, но неуступчивых ангелов, стала совершенно неотложной, буквально истеричной. Но когда звенел звонок, он возвещал богатые залежи руды или особенный электрический туман между двумя железными скалами, или ничего, или — в конце концов — лодку Дональда Рокхарда.
Нашел ее Диминг, уже впав в одеревенение — полную противоположность истерии. Он погрузился в монотонную рутину сна-видений и яви-наблюдении: звонок, молниеносный взгляд на экран, разочарование, нажатие кнопки сброса и так далее. В действительности, не отдавая себе отчета, он уже дважды сбросил пеленг на лодку Дона, но корабль начал кружиться вокруг нее, и сильное эхо не позволяло отключить звонок. Наконец Диминг отключил его совсем и повис над лежащим внизу маленьким коричневым шариком, тупо вглядываясь в него и медленно возвращаясь к действительности.
Потом сел. Самым безумным на этой безумной планете показалось ему то, что в самом низу атмосфера была такой, как на Земле, хоты, пожалуй, слишком горячей для человека, привыкшего к удобствам. Открыв люк, Диминг на негнущихся ногах выбрался наружу.
Вокруг не было ни следа Дональда Рокхарда.
Он подошел ко второй лодке и заглянул в иллюминатор. Люк был закрыт, но не заблокирован; Диминг открыл его и заглянул внутрь. На стойке лежало всего три жетона-указателя: Земля, Лебедь II и Кабрини в системе Беты Центавра. Он сунул руку за стойку, наткнулся на плоский пакет и вытащил его.
Внутри находилось состояние — целое состояние в банкнотах высоких номиналов. А также карточки. И жетон.
Карточку, сделанную из вечного элленйта, венчала знаменитая эмблема хирургов с планеты Гребд. Выполненная рукописными буквами, которые каким-то образом пронизывали насквозь непроницаемый пластик, надпись гласила: «Класс А. Принять предъявителя без вопросов». Внизу красовалась змейка подписи и печать с той же самой хорошо известной эмблемой Гребденского Хирургического Общества.
Жетон, разумеется, предназначался для полета на Гребд.
Диминг прижал к груди это сокровище и смеялся до слез, которые, впрочем, появились почти сразу же.
На Гребд за новым лицом, новым разумом, а если захочет хвостом и крыльями: кому какое дело? Единственной преградой было небо.
(Небо — твое небо — всегда было тебе преградой.)
А потом, с новым лицом — и всем прочим, с этими деньгами — в любое место Космоса, которое покажется подходящим.
— Эй! Кто вы такой? Что вы там делаете? Убирайтесь из моей лодки! Положите все на место!
Диминг не повернулся, он поднял руки вверх и заткнул уши, как ребенок в птичнике зоопарка.
— Я сказал: выходите! — Диминг поднял сокровища дрожащими пальцами, комкая и рассыпая деньги. — Выходите! — рявкнул голос, и он вышел, не пытаясь ничего поднимать. Потом устало повернулся, держа поднятые руки чуть ниже плеч.

Он стоял перед молодым человеком со впалыми щеками, лицом, изборожденным морщинами, и широко расставленными ледяными глазами Ричарда Рокхарда. У ног его лежал мешок, который он выронил, увидев кого-то внутри своей лодки. В руке мужчина уверенно, словно стальную, дубинку, держал акустический разрушитель, направленный в живот Диминга.
— Дональд Рокхард, — сказал Диминг.
— Ну и что? — ответил Рокхард.
Диминг опустил руки.
— Я явился, — проскрежетал он, — чтобы покрасить тебе живот в синий цвет.
Рокхард довольно долго стоял неподвижно, потом — словно дернули за шнурок — рука с оружием опустилась, а лицо расплылось в улыбке.
— Черт меня побери, — сказал он. — Вас прислал отец.
— Дружище, — выдавил Диминг, — как я рад, что ты сначала задаешь вопросы, а потом стреляешь.
— О, я не стал бы стрелять в вас, кем бы вы ни оказались. Я так рад видеть человека, что… А вообще, кто вы такой?
Диминг представился.
— Твой отец узнал, что если лодка вроде твоей проходит сквозь поле смерти, то ее выворачивает наизнанку — или что-то подобное. Во всяком случае, если бы ты решил отсюда убраться, то никогда и никуда бы не долетел.
Дональд Рокхард взглянул на безумное небо и побледнел.
— Не может быть, — прошептал он, облизнул губы и нервно засмеялся. — Ну хорошо, но раз уж вы здесь оказались, чтобы сказать мне это, как вы думаете выбираться?
— Не смотри на меня как на героя-безумца, — ответил Диминг с тенью улыбки. — Нужно просто поменять катушку генератора поля. Именно этим я и занимался в твоей лодке, когда наткнулся на деньги. Я знаю, что не должен их касаться, но часто ли держишь в руках четыре миллиона наличными?
— С этим трудно спорить, — согласился Рокхард. — Думаю, вы заметили, что там есть еще кое-что.
— Заметил.
— Теория гласит, что, если кто-то собирается на Гребд, никто из живущих не должен об этом знать.
Диминг мельком взглянул на разрушитель в руке молодого человека. Хотя рука висела свободно, оружие он не убрал.
— Это уже твое дело, — сказал он. — Однако твой отец доверил мне эту информацию, и ты должен это знать.
— Ну хорошо, — сказал Рокхард и отложил разрушитель. Как у него дела?
— У твоего отца? Не очень хорошо. По-моему, ты ему сейчас нужен.
— Нужен? Появись я в той же солнечной системе и узнай об этом Ангелы, это бы дорого ему стоило.
— Нисколько, — ответил Диминг и описал Дону происшедшее со стариком. — Впрочем, эти жалкие четыре миллиона его бы не спасли.
Дональд закусил губу.
— А сколько бы я получил за карточку?
Диминг прищурился.
— Это уже было бы кое-что.
— Я должен отсюда выбраться, — сказал молодой Рокхард. Вы уже закончили с той катушкой?
— Пока я только вынул старую.
— Так, пожалуйста, кончайте, хорошо? А я выберу себе две-три вещи из этого. — Он высыпал содержимое мешка на земле и присел над ним.
— Ты искал именно это? — спросил Диминг, доставая из своей лодки катушку.
Рокхард фыркнул.
— Кто знает? Это может оказаться скорлупой или окаменевшими лужами. Я возьму лучшие из них для анализа. Вы думаете, что археологи психи?
— Конечно, — откликнулся Диминг изнутри лодки Рокхарда. Но я считаю, что вообще все психи. — Он лег животом на кресло и принялся собирать деньги, потом старательно сложил их, добавил карточку и сунул все в пакет. Рокхард взглянул на него.
— Возьмите себе что-нибудь из этого?
Диминг покачал головой и вновь положил пакет за стойку с жетонами.
— Я свое уже получил. — Он выбрался из лодки.
Рокхард забрался в корабль и через плечо посмотрел на Диминга.
— И все же возьмите немного. Или даже много.
— Они мне не понадобятся.
— Интересный вы человек, Диминг.
— Возможно.
— Мы еще увидимся?
— Нет.
Когда Рокхард не нашел ответа на это последнее замечание, Диминг добавил:
— Я закрою твой люк. — Под прикрытием руки, протянувшейся к люку, он достал игольник и спрятал в рукаве, так что ствол торчал между пальцами сжатой в кулак ладони, а мизинец удобно лег на спуск.
— Прощай, Рокхард, — сказал он.
Дональд не ответил…..
Диминг долго стоял, с тупым удивлением глядя на игольник: «Почему я не выстрелил?» Потом, когда корабль Рокхарда исчез, он опустил руки и побрел по горячему песку к своей лодке.
Боже, до чего же он устал.
— Почему ты не выстрелил?
Диминг остановился как вкопанный на середине шага — одна нога впереди, другая — сзади. Медленно поднял голову и взглянул в глаза золотистому гиганту, который с улыбкой стоял у его лодки.
Глубоко вдохнув воздух, он подержал его в легких и выпустил в болезненном выдохе.
— Боже мой, — произнес он хриплым, матовым голосом, нельзя сказать, что я очень удивлен.
— Спокойно, — ответил Ангел. — Теперь все будет хорошо.
— Ну да, — горько сказал Диминг. Теперь они вычистят его мозг, а в голову нальют холодного, роскошного йогурта; остаток жизни он проведет, моя полы в главном штабе Ангелов наверняка где-то есть такой. — Держи, — добавил он. — Ничего не скажешь, ты хорошо поработал. — Он бросил игольник Ангелу, который легонько махнул рукой, и оружие исчезло на полпути. — Много у вас таких штучек? — спросил Диминг.
— Конечно, — согласился Ангел. — Почему ты не застрелил молодого Рокхарда?
— Знаешь, — ответил Диминг, — сам удивляюсь. Я хотел, на самом деле хотел. — Он поднял пустой, ошеломленный взгляд на Ангела. — Что со мной происходит? Я держал все в руках и упустил.
— Скажи мне еще кое-что, — продолжал Ангел. — Когда на Ибо ты выстрелил в того Ангела и он упал головой в воду, почему ты вытащил его и положил на берегу?
— Я этого не делал.
— Я видел тебя. Был там и видел.
— Вранье, — ответил Диминг, заглянул Ангелу в глаза и прочел в них, что тот все-таки говорит правду. — Ну… не знаю. Просто сделал это и все.
— А почему ты только оглушил кулаком ту девушку, вместо того, чтобы убить, затирая тем самым следы?
— Ее звали Тэнди, — задумчиво сказал Диминг. — Это все, что я помню.
— Вернемся еще дальше, — непринужденно говорил Ангел. Когда в тот вечер ты вышел от Рокхарда, чтобы уладить свои дела, ты упаковав часы и отправил по почте. Кому?
— Не помню.
— А я помню. Ты послал их той женщине, у которой украл. Почему, Диминг?
— Почему, почему, почему! Я всегда так делал, вот почему.
— Не всегда. Только если часы были единственной памятью, оставшейся у женщины после умершего мужа, или дело касалось чего-то подобной ценности. Знаешь кто ты, Диминг? Мученик.
— Слушай, ты, — ответил Диминг, — ты меня поймал, и я теперь получу свое. Обойдемся без проповеди, ладно? Пошли, я устал.
Ангел вытянул перед собой обе ладони с легко расставленными пальцами, и у Диминга зачесалась кожа. Он отчетливо услышал два щелчка в позвоночнике, который вытянулся и снова вернулся на место.
— Ты все еще испытываешь усталость? — улыбнулся Ангел. Диминг коснулся плеч, век.
— Нет… — прошептал он. — Клянусь, нет! — Он склонил голову и медленно добавил: — Это первая ваша штучка, которая мне нравится, малыш. — Он снова взглянул на добродушного гиганта в золотистой одежде. — Вообще, кто вы такие, а? Ладно, ладно, — добавил он тут же, — я знаю, на этот вопрос вы не отвечаете. Не было разговора.
— Ты можешь об этом спрашивать, — сказал Ангел, не обращая внимания на удивленно открытый рот Диминга. — Когда-то мы были обычной службой порядка, чем-то вроде небольшой частной армии, если тебе понятно это слово. История человечества изобилует наемниками. Некогда, например, существовали детективы Пинкертона, но ты этого можешь не помнить, это было еще до твоего рождения. Нашей группой руководил некий Ангел — человек с таким именем — отсюда и название. Оно появилось раньше, чем эти одежды и наша деятельность по образцу воскресной школы, которой мы сейчас занимаемся.
Со временем мы все старательно подбирали кадры, так что возрос их моральный уровень. Одновременно у нас становилось все меньше руководителей, и наконец они вообще перестали быть нужны. Осталось только и наше мнение: можно избежать многих неприятностей, если сделать так, чтобы люди были взаимно вежливы и добры.
— Порой вы проявляете эту доброту довольно оригинально!
— Случалось, что человек убивал лошадь, сломавшую ногу, ответил Ангел. — Это тоже проявление доброты.
— А зачем ты мне все это говоришь?
— Агитирую.
— Что-что?
— Агитирую, — отчетливо повторил ангел. — Я принимаю новых кандидатов, вербую новых Ангелов. Тебя тоже возьму, если захочешь.
— Нет, нет, минутку, — запротестовал Диминг. — Ты хочешь сказать, что сделаешь из меня Ангела? Со мной такие штуки не проходят.
— А почему бы и нет?
— Только не я, — упирался Диминг. — Я для этого не гожусь.
— Не годишься? А кто же тогда человек, который не может жить одной жизнью, а должен одновременно играть роль своеобразного Робин Гуда? Знаешь ли ты, что никогда не обокрал никого, кто в конечном итоге не выиграл бы от этого, чему-то не научился?
— Это действительно так?
— Я могу показать тебе список всех случаев — всех до единого.
— Ты так долго за мной следишь?
— Это началось, когда ты был в третьем классе.
— Брось, — сказал Диминг. — Для этого нужно быть невидимым.
Ангел исчез. Диминг медленно подошел к лодке и провел ладонью по обшивке.
— Ничего особенного, если знаешь, как это делать. Почему бы генератору мигополя не быть уменьшенным до размеров кулака? — произнес из воздуха голос Ангела. Диминг резко повернулся, но ничего не увидел. Глаза его расширились, и он прижался к лодке спиной. — Вот он я, — весело сказал Ангел и появился справа от него. Он откинул назад поля золотистой одежды, вывернул пояс на другую сторону, и Диминг мельком заметил какую-то маленькую, плоскую пластиковую коробочку.
— Ты должен понять, — сказал Ангел, — что люди в большинстве своем суеверны и полны обожания. Если их теологию заменить наукой, они начнут чтить ее. Мы даем им лишь то, что они хотят. Мы никогда не пытались изображать сверхъестественные существа, но и не отрицаем того, что о нас думают. Если нас считать жаждущими власти работорговцами, мы даем доказательства ошибочности такого мнения. Если думают, что мы полубоги или что-то в этом роде, мы просто молчим.
И это дает результат. Войны не было уже так давно, что половина человечества не знает, что значит это слово. И появились мы тогда, когда в нас была максимальная потребность, можешь мне поверить, когда человек расширял свои пределы среди неземных цивилизаций, наперекор им и за счет их. Нужно было развивать науку, ибо иначе…
— А в чем эта ваша наука? Чего вы добиваетесь?
— Я уже говорил тебе, но это звучит так просто, что никто не хочет верить, пока не увидит этого в деле — да и тогда находят иные слова, чтобы это выразить. С тобой я попытаюсь еще раз, — рассмеялся Ангел. — Учение наше звучит так: БУДЬТЕ ДОБРЫ ДРУГ К ДРУГУ. И это ключ от неба.
— Я должен над этим подумать, — сказал Диминг, придавленный всем этим. — Впрочем, нет, я подумаю над этим потом… Я многое слышал о вас. Говорят, вы не едите…
— Это правда.
— И не спите.
— Верно. Так же, как и не размножаемся — пока нам не удалось приспособить трансформацию к женскому организму. Но когда-нибудь нам это удастся… Мы не являемся особым видом или расой, не являемся и суперменами. Мы, потомство, являющееся продуктом растения иньян.
— Иньян?!
— Это наша мрачная и смертельная тайна, — со смехом ответил Ангел. — Ты знаешь, что делает это растение с человеком, принимающим его без ограничения, но принимаемое в нужной пропорции, оно вызывает не больше привыкания, чем любое другое лекарство. Понимаешь, Диминг, нельзя, просто нельзя пятикратно увеличить свой интеллект и при этом не заметить, что люди должны быть добрее друг к другу. Так что наше учение, как я его назвал, не является доктриной или философией, это просто логическая неизбежность. Кстати, если ты не решишься присоединиться к нам, не болтай об иняне, иначе придется тебе сделать больно.
— Что ты сказал?! — выкрикнул Диминг. — Если я не решусь… А какой у меня выбор?
— Неужели ты думаешь, что мы принуждаем тебя приобщить людей к добру? — серьезно спросил Ангел.
Диминг отошел в сторону, потом вернулся, ударяя кулаком по раскрытой ладони.
— Ну хорошо, значит, вы меня не принуждаете. Но все равно у меня нет выбора. Я могу поверить вам на слово — хотя пройдет много месяцев, прежде чем поверю всерьез — что вы не наступаете мне на пятки. Но я не могу вернуться в заваруху на Земле, где рухнули все дела старика Рокхарда, а власти суют нос во все его связи…
— Какую заваруху? — спросил Ангел и засмеялся. — Диминг, нет никакой заварухи.
— Но Рокхард…
— Нет никакого Рокхарда. Ты слышал эту фамилию до того, как в тот вечер к тебе пришел толстяк?
— Нет, но это не значит… О, боже, конечно же, значит… Ладно, а как быть с его провалом, с его делами, это же было во всех новостях. Говорили…
— Сколько раз ты это слышал?
— Когда был на Иоланте! Я сам видел, когда… Ага, понял, это показывали специально для меня.
— Нельзя было допустить, чтобы ты что-то заподозрил.
— Я и не заподозрил. Ваши храбрые пилоты едва меня не подстрелили. Я мог погибнуть.
— Конечно.
— А если бы, сидя в опоре того корабля, не подал голос, то, может, сидел бы там до сих пор.
— Совершенно верно.
— А если бы завалил работу на Ибо, получил бы из разрушителя.
— Привыкнув, ты не будешь так обижаться. Конечно, ты был в опасности. Все было запланировано так, что ты мог сделать верный или неверный выбор, а между ними оставалось еще много свободы. Ты выбирал правильно и потому находишься здесь. Ты можешь нам пригодиться. Человек, который в чрезвычайной ситуации делает неверный выбор, нам не нужен.
— Говорят, что вы бессмертны, — сказал вдруг Диминг.
— Ерунда! — ответил Ангел. — Это лишь сплетня, вероятно, вызванная тем, что ни один из нас еще не умер. Но когда-то это произойдет, нет никаких сомнений.
— Ага, — сказал Диминг и стал думать о чем-то другом. Внезапно истинный смысл услышанного как обухом ударил его по голове. — Но ведь Ангелы крутятся по Космосу две тысячи лет!
— Две тысячи триста, — поправил Ангел.
— И ради этого вы пожертвовали размножением, — сказал Диминг. — Скажи-ка, дядя, стоила ли игра свеч? — по-хамски спросил он.
— При всей своей доброте, — улыбнулся Ангел, — думаю, тебя нужно лишить парочки зубов, чтобы в будущем ты не говорил так при тех, кто может воспринять это иначе, чем я.
— Беру свои слова обратно, — сказал Диминг, низко поклонившись, а когда выпрямился, лицо его было напряжено, как у ребенка, который хочет расплакаться, но пока сдерживается. Мне нужно над этим немного посмеяться, иначе я… я…
— Ладно, парень, не бери в голову… Это может здорово прижать, если обрушится без предупреждения. Думаешь, я не понимаю?
Они помолчали.
— Сколько у меня времени на размышление? — спросил наконец Диминг.
— Сколько хочешь. Ты уже прошел проверку, и приглашение остается в силе. Потерять его можно, только не оправдав мое доверие.
— Не думаешь ли ты, что я создам партию, провозглашающую ненависть к другому человеку? После того, что пережил? И я никому ничего не скажу — да и кто будет слушать такое?
— Ангел, — мягко сказал золотистый гигант, — независимо от того, с кем ты говоришь. Итак… что ты собираешься делать?
— Хочу вернуться на Землю.
Ангел махнул рукой в сторону лодки.
— Пожалуйста.
Диминг взглянул на него и закусил губу.
— Не хочешь узнать зачем?
Ангел молча улыбнулся.
— Я просто должен, — возразил Диминг, словно протестуя против чего-то. — Все эти жалкие годы я жил лишь наполовину, и даже когда для хохмы создал себе второе «я», то выключал первое на время существования второго. Я хотел бы вернуться в себя такого, как я есть, и научиться быть таким постоянно. — Он наклонился и постучал по могучей груди Ангела. — Это… чертовски велико. Если бы я стал таким же, то был бы больше, чем есть на самом деле. Пожалуй, в этом все дело. Не нужно быть Ангелом, чтобы быть великим. Пожалуй, не нужно быть никем, кроме человека, чтобы жить по вашему учению. — Он замолчал.
— А ты знаешь, какой ты на самом деле?
— Я был таким минуты три, пока стоял на ступенях Астро-Центра на Ибо, разговаривая с…
— Можешь по дороге заглянуть на Ибо.
— Она не захочет на меня смотреть, разве что после моего ареста, — ответил Диминг. — Она видела, как я стрелял в Ангела.
— Ну так мы устроим, чтобы тот самый Ангел арестовал тебя, восстановив ее доверие к нам.
Диминг так и не долетел до Земли. Его арестовали на Ибо, и Ангел, который это сделал, показал его девушке по имени Тэнди. Увидев, как Ангел уходит со своим пленником, она побежала следом.
— Что ты с ним сделаешь?
— А что сделала бы ты?
Они долго смотрели друг на друга.
— Ты можешь обещать, что есть нечто, чему ты мог бы у нее научиться, и что ты хочешь этого?
— О да, — ответил Диминг.
— Научить его… чему? — в панике воскликнула девушка. Научить его… как?
— Достаточно быть самим собой, — сказал Диминг, и Ангел отпустил его.
— Свяжись со мной, — сказал он Димингу, — через три дня после того, как это закончится.
Это закончилось, когда она умерла, прожив с ним на Ибо почти семьдесят четыре года, и три дня спустя он сидел среди своих правнуков, думая, как быть дальше.
Перевод с англ. Н. Гузнинова
МЕДЛЕННАЯ СКУЛЬПТУРА
Встретив его, она не знала, кто он, да, впрочем, и немногие знали это. Он бродил по высоко расположенному саду вокруг груши, и земля пахла поздним летом и ветром.
Он поднял взгляд на стройную девушку лет двадцати пяти, на ее смелое лицо, глаза и волосы одного цвета, что необычайно пленяло, потому что волосы были золотисто-рыжими. А она посмотрела на загорелого мужчину лет сорока, на лепестковый электроскоп в его руке, и почувствовала себя нежеланным гостем.
— Ax, — сказала она, подходящим к ситуации голосом, однако мужчина кивнул и произнес:
— Подержите, пожалуйста, — тоном, исключавшим какую-нибудь мысль о назойливости.
Она присела рядом, держа прибор точно так, как он поместил его в ее руку, а мужчина немного отступил и постучал по колену камертоном.
— Показывает?
Голос у него был приятный, из тех, что охотно слушают.
Девушка разглядывала хрупкие золотые листочки на стеклянном диске электроскопа.
— Расходятся.
Он снова постучал, и листочки разошлись шире.
— Сколько?
— Около сорока пяти градусов, когда вы стучите камертоном.
— Отлично, это почти максимум того, чего можно добиться. — Он вытащил из кармана пиджака мешочек с мелкой пылью и сыпанул немного на землю. — Теперь я отойду, а вы останетесь на месте и будете сообщать о поведении лепестков.
Он принялся кружить вокруг груши, раз за разом стуча вилкой камертона, и девушка считывала результаты: десять градусов, тридцать, двадцать, ноль. Когда золотистые листочки расходились максимально — до 40 или даже больше градусов, мужчина сыпал еще меловой пыли. Когда он закончил, вокруг дерева возник неправильный овал белых точек. Мужчина вынул блокнот, нарисовал дерево и контуры овала, после чего взял у девушки электроскоп.
— Вы что-то искали здесь?
— Нет, — ответила она. — То есть да.
Он улыбнулся, и, хотя это длилось долю секунды, девушка решила, что для его лица это странное выражение.
— На языке юристов это трудно назвать однозначным ответом.
Она взглянула на холм, металлически сверкавший в свете заходящего солнца; на нем было немногое: скалы, трава, оставшаяся с лета, несколько деревьев, сад. Каждый пришедший сюда оставлял за спиной дальнюю дорогу.
— Вопрос был непрост, — ответила девушка, пытаясь улыбнуться, но вместо этого разрыдалась.
Это было глупо, и она сказала ему об том.
— Почему? — спросил он.
Впервые она столкнулась с такой характерной его чертой непрерывным потоком вопросов — и это ее обеспокоило. Это всегда беспокоит, а иногда становится невыносимо.
— Нельзя позволять себе такое публичное проявление чувств. Другие этого не делают.
— Вам можно. Я не знаю «других», о которых вы говорите.
— Я, пожалуй, тоже не знаю… но поняла это только сейчас, когда вы сказали.
— Тогда говорите правду. Нет смысла повторять: «Он подумает, что я…» — и тому подобное. Что бы я ни подумал, это не будет зависеть от ваших слов. Или просто уходите и не говорите больше ничего. — Она не шевельнулась, и он добавил: Постарайтесь решиться на откровенность. Если это важно значит, становится простым, а если просто — признаться в этом легко.
— Я умру! — выкрикнула девушка.
— Я тоже.
— У меня опухоль на груди.
— Пойдемте в дом, что-нибудь придумаем.
Сказав это, он повернулся и пошел через сад. Полуживая от страха, обиженная и вместе с тем полная абсурдных надежд, с коротким спазмом сдавленного смеха, она мгновение стояла, глядя, как он уходит, потом вдруг поняла (интересно, когда это я решилась?), что идет за ним следом.
С мужчиной она поравнялась на уходящем вверх краю сада.
— Вы врач?
Могло показаться, что он не заметил ни ее колебания, ни момента, когда она пошла за ним.
— Нет, — ответил он, не останавливаясь, по-прежнему словно не замечая, что девушка замирает на месте, покусывая нижнюю губу, и снова торопится за ним.
— Я, наверное, сошла с ума, — сказала она, догоняя его на садовой тропинке.
Девушка говорила сама с собой, и мужчина, видимо, это почувствовал, потому что ничего не ответил. Сад оживляли взъерошенные хризантемы и пруд, где она заметила пару мерцающих золотых рыбок — самых больших, которых когда-либо встречала. И наконец — дом.
Это была часть сада, окаймленная колоннадой, соединяющейся с каменными стенами. Дом находился на склоне холма и одновременно внутри него; горизонтальная крыша частично опиралась на вертикальную скальную стену. Дверь из брусьев, утыканная гвоздями, с двумя щелями, наподобие амбразур, была открыта, а когда захлопнулась, тишина и ощущение изоляции от внешнего мира были гораздо глубже, чем мог вызвать это лязг засова.
Девушка прислонилась спиной к двери и стояла, разглядывая хозяина через небольшое патио или, по крайней мере, его часть. Это был небольшой внутренний двор, посреди которого находился атриум с пятью застекленными стенами, открытыми сверху. Внутри росло карликовое дерево, кипарис или можжевельник, сучковатое и изогнутое, похожее на японское бонсаи.
— Дальше вы не пойдете? — спросил он, стоя у открытой двери по другую сторону атриума.
— Бонсаи не может быть пятнадцати футов высотой, — заметила она.
— Мой может.
Она медленно прошла мимо, разглядывая дерево.
— Давно вы его растите?
— Половину своей жизни.
Тон его выражал глубокое удовлетворение. Расспросы хозяина бонсаи, сколько лет его деревцу, нетактичны, поскольку намекают на желание узнать: ему ли принадлежит это творение или он принял и продолжил чужое дело. Невольно возникает соблазн чью-то идею и кропотливую работу записать на собственный счет. Зато вопрос «давно ли вы его растите?» тактичен, сдержан и чрезвычайно вежлив.
Девушка снова взглянула на бонсаи. Порой можно встретить подобные деревца полузаброшенными, полузабытыми, растущими в ржавых банках в какой-нибудь не слишком процветающей школе, не проданные только из-за слишком странной формы, некоторого количества мертвых ветвей или, наконец, слишком медленного роста целого или отдельных частей. Эти экземпляры отличаются интересной формой ствола и сопротивляемостью превратностям судьбы, которая позволяет им расцвести, найдя малейшую возможность для жизни. Возраст этого деревца был гораздо больше половины и даже всей жизни мужчины. Внезапно девушку поразила мысль, что эта красота могла бы быть необратимо уничтожена огнем, белками, личинками или термитами, чем-то, находящимся вне всяких понятий порядочности, справедливости или уважения.
Она посмотрела на деревце, потом на мужчину.
— Идемте?
— Да, — ответила она, и они вошли в мастерскую.
— Садитесь вон там и расслабьтесь. Это может немного затянуться.
«Там» означало большое кожаное кресло возле стеллажа. Книги оказались в пределах ее поля зрения — работы из области медицины, техники, ядерной физики, химии, биологии, психиатрии. Затем теннис, гимнастика, шахматы, восточная игра «го» и гольф. Далее драматургия, искусство письма, «Modern English Usage», «The American Language» с дополнением, «Rhyming Dictionaries» Вула и Уолкера, и ряд других словарей и энциклопедий. Длинную полку целиком заполняли биографии.
— У вас неплохая библиотека.
Он ответил достаточно лаконично, поскольку в эту минуту был поглощен работой и явно не проявлял желания разговаривать.
— Точно. Может, как-нибудь посмотрите ее. — Эти несколько слов заставили ее задуматься, что он хотел этим сказать.
«Пожалуй, лишь то, — мысленно решила девушка, — что эта библиотека необходима ему для работы, а настоящая находится где-то в другом месте». Она смотрела на него с набожным восторгом, следя за каждым его действием. Ей нравилось, как он двигался — быстро и решительно. Мужчина нисколько не сомневался в том, что делает. Часть устройств, которыми он пользовался, была ей знакома — стеклянный дистиллятор, мерное устройство, центрифуга. Были еще два холодильника, один из которых холодильником отнюдь не был, поскольку термометр на дверях показывал 70 градусов по Фаренгейту.
Однако все это, включая аппаратуру, которой она не знала, было лишь мертвым оборудованием. Внимание заслуживал только человек. Человек, занимавший ее настолько, что за все это время она даже не занялась книгами.
Наконец он закончил серию манипуляций на лабораторном столе, повернул какие-то рукоятки, взял высокий табурет, подошел к девушке и сел рядом, как птица на ветке. Уперев пятки в поперечину, он положил загорелые руки на колени.
— Испугались, — утвердительно заметил он.
— Пожалуй, да.
— Вы еще можете уйти.
— Учитывая альтернативу… — храбро начала она, но эта нотка храбрости тут же улетучилась. — Все равно это не имеет значения.
— Разумно, — сказал он почти с радостью. — Помню, когда я был ребенком, в доме, где мы жили, началась паника, вызванная пожаром. Все отчаянно рвались к выходу, и мой десятилетний брат выбежал на улицу с будильником в руке. Будильник был старый, давно не ходил, и все-таки из вещей, находившихся в квартире, мой брат выбрал именно его. Он так и не смог объяснить почему.
— А вы можете?
— Почему он выбрал будильник — нет. Думаю, однако, что знаю, почему он действовал так решительно нерационально. Паника — весьма специфическое состояние. Подобно ужасу и бегству или ярости и нападению, паника является достаточно примитивной реакцией на грозящую опасность. Это одно из проявлений инстинкта самосохранения, и довольно специфическое, поскольку вытекает из нерациональных предпосылок. Почему отказ от логики служит механизмом, обеспечивающим выживание?
Девушка задумалась — в мужчине было что-то, заставляющее серьезно относиться к его словам.
— Понятия не имею, — сказала она наконец. — Возможно, в определенных ситуациях разума недостаточно.
— Понятия не имеете. — В голосе его звучало такое одобрение, что девушка покраснела. — И уже доказали это. Если в минуту опасности вы пытаетесь думать логически, но это не помогает, вы отметаете логику. Отказ от того, что не действует, трудно назвать глупостью, не так ли? Итак, вас охватывает паника и вы начинаете действовать наугад. Подавляющее большинство этих действий ничего не даст, а некоторые будут даже опасны, однако это не имеет значения — вы и так уже в опасности. Когда в игру входит жажда жизни, человек понимает, что лучше один шанс на миллион, чем отсутствие шансов вообще. Вот почему вы сидите здесь испуганная вместо того, чтобы удрать. Что-то подталкивает вас к бегству, и все-таки вы остаетесь.
Девушка утвердительно кивнула, а мужчина продолжал:
— Вы обнаружили у себя опухоль и пошли к врачу, который после проведенных исследований сообщил вам дурные новости. Возможно, другой врач подтвердил этот диагноз. Вы принялись рыться в книгах, гадая, что же ждет вас в будущем — разнообразные эксперименты, полное или сомнительное выздоровление, долгое и мучительное пребывание тем, что медицина называет безнадежным случаем. И вас охватил ужас, вы отправились в какое-то путешествие, куда угодно, и помимо своей воли оказались в моем саду. — Он развел руками и снова позволил им спокойно улечься на колени. — Паника — это причина, заставляющая маленького мальчика выбежать из дома в полночь со сломанным будильником в руке и объясняющая существование шарлатанов. — Что-то зазвонило на лабораторном столе, мужчина улыбнулся ей и вернулся к работе, бросив через плечо: Однако я не шарлатан. Чтобы тебя признали шарлатаном, нужно претендовать на звание врача, а у меня нет таких претензий.
Она смотрела, как он включает, выключает, мешает, отмеряет, измеряет. Он был дирижером, а послушный оркестр инструментов вторил ему хором и соло с гудением, шипением, свистом и щелканьем. Девушке хотелось смеяться, плакать, кричать, но она не поддалась этим желаниям, боясь, что раз начавши, уже не сможет остановиться.
Когда он вновь подошел, внутренняя борьба сменилась состоянием полного оцепенения. Увидев предмет в его руке, она смогла лишь широко раскрыть глаза и почти перестала дышать.
— Да, это игла, — шутливо сказал он. — Длинная, блестящая, острая игла. Только не говорите, что относитесь к людям, боящимся иглы. — Он слегка покачал провод, отходящий от черного футляра, в котором находился шприц, и сел верхом на табурет. — Хотите что-нибудь успокаивающее?
Она боялась отвечать, оболочка, отделяющая ее от безумия, натянулась до предела.
— Я бы вам не советовал, поскольку эта фармакологическая мерзость имеет довольно сложный состав. Но если это необходимо…
Она сумела отрицательно покачать головой и вновь ощутила идущую от него волну одобрения. На языке вертелись тысячи вопросов, которые она хотела, собиралась, должна была ему задать. Что находится в шприце? Сколько процедур ее ждет? В чем они будут заключаться, сколько времени и где она будет находиться? А прежде всего… Будет ли она жить?
Однако лишь один из этих вопросов заинтересовал его.
— Здесь использован изотоп калия. Если бы я рассказал вам все, что об этом знаю, и как до этого дошел, это заняло бы гораздо больше времени, чем мы располагаем. Поэтому объясню коротко. Теоретически каждый атом уравновешен в смысле электрических зарядов. Точно так же равновесие должно существовать и в молекулах: сколько плюсов, столько и минусов, а в сумме ноль. Случайно я установил, что баланс зарядов в перерожденной клетке не равен нулю — во всяком случае, не совсем. Это выглядит так, словно на молекулярном уровне свирепствует субмикроскопическая буря с небольшими молниями, пролетающими взад и вперед и меняющими знаки. Помехи мешают передаче информации, — рассказывал он, размахивая шприцем, и именно здесь зарыта собака. Когда что-то мешает передаче информации — особенно механизму ДНК, который говорит: «Изучи этот план, строй по нему и закончи в нужный момент», — когда информация эта путана, возникают искалеченные конструкции. Лишенные равновесия. Почти выполняющие свои функции и выполняющие их почти нормально — и все-таки это перерожденные клетки, и передаваемая информация еще более искажена.
Так вот, не имеет значения: вызвана эта буря вирусами, химикалиями, излучением, физической травмой или беспокойством — не думайте, что беспокойство не может этого вызывать. Самое главное, добиться состояния, исключающего возможность такой бури. Если это удастся, клетки, обладающие способностью к регенерации, сами исправят зло. Биологические системы, это не теннисные шарики с электрическими зарядами, ожидающие снятия заряда или разрядки через заземленный кабель. Они обладают некоторой эластичностью — я называю это толерантностью, — позволяющей им получить несколько больший или несколько меньший заряд и правильно функционировать. Так вот, скажем, некая группа клеток переродилась и положительный заряд на сто единиц больше. Она воздействует на ближние клетки, но дальние слои остаются нетронутыми.
Если бы эти последние могли принять дополнительный заряд, помочь в его проведении — это «вылечило» бы перерожденные клетки от избытка. Понимаете, о чем я говорю? Они сами сумели бы справиться с тем небольшим избытком или же передать его другим клеткам и так далее. Иначе говоря, если я наполню ваш организм, он сумеет рассредоточить этот избыток заряда, нормальные физические процессы смогут протекать свободно и исправят повреждений, причиненные перерожденными клетками. Именно это средство и находится в шприце.
Он зажал шприц коленями, вынул из кармана халата пластиковую коробочку, из которой достал пропитанную спиртом ватку — не переставая говорить, взял ее испуганно напрягшуюся руку и продезинфицировал сгиб локтя.
— Я вовсе не утверждаю, что заряды в атомном ядре следует сравнивать с постоянным током. Это две разные вещи. Но существует и некоторая аномалия. Кстати, можно использовать и другую аналогию: сравнить заряд в переродившихся клетках с отложением жира. А мое средство с детергентом, который его растворяет так успешно, что тот становится совершенно необнаружим. Это снова подсказывает аналогию с электрическим током — организмы, нашпигованные этим средством, накапливают огромное количество заряда. Это побочное действие по причинам, о которых я могу пока лишь гадать, похоже, связано с акустическим спектром. Камертон и тому подобное — то, чем я занимался, когда вы подошли. Дерево насыщено этим средством. В нем было множество перерожденных клеток, но сейчас их не осталось.
Он неожиданно улыбнулся девушке, поднял шприц и выдавал немного жидкости. Второй рукой взял ее за предплечье, сдавив его осторожно, но решительно, затем, опустив иглу, вонзил ее в вену так ловко, что девушка громко вздохнула — не потому, что стало больно, совсем наоборот. Мужчина внимательно разглядывал часть стеклянного цилиндра, торчащую из черного футляра, и медленно отводил поршень, пока не заметил в бесцветной жидкости бахромчатого пятна крови.
После этого снова нажал на поршень.
— Пожалуйста, не двигайтесь. Сожалею, но процедура продлится некоторое время. Мне нужно ввести в вас много этого вещества, — сказал он тем же тоном, каким минуту назад говорил об акустическом спектре. — Здоровые биосистемы создают сильное электрическое поле, тогда как больные — очень слабое или вообще никакого. С помощью такого примитивного устройства, как небольшой электроскоп, можно установить, существует ли в организме группа перерожденных клеток, и если да, то где, какого размера и насколько далеко зашел этот процесс. Ловко, не двигая иглы в вене и одновременно нажимая на поршень, он изменил положение руки. Это становилось неприятно как боль, результатом которой является синяк. — Если вам интересно, почему этот москит имеет на себе футляр с подключенным проводом (хотя держу пари, что это вам безразлично, вы не хуже меня знаете, что я говорю только для отвлечения ваших мыслей) — могу объяснить. Это просто катушка, создающая переменный ток высокой частоты, отчего жидкость с самого начала магнитно- и электростатически нейтральна.
Он быстрым движением вынул иглу, приложил ватку и согнул ее руку.
— Впервые после процедуры я не услышала… — сказала девушка.
— Чего?
— Размера гонорара.
И вновь волна одобрения, на сей раз со словами:
— Мне нравится ваш стиль. Как вы себя чувствуете?
— Как хозяйка страшной спящей истерики, умоляющей не будить ее.
Мужчина рассмеялся.
— Скоро вы почувствуете себя так странно, что времени на истерику не останется.
Он встал и положил шприц обратно на лабораторный стол, свернул провод. Потом выключил переменное поле и вернулся с большой стеклянной миской и квадратом фанеры. Поставил миску вверх дном на пол рядом с девушкой и накрыл фанерой.
— Я вспомнила что-то в этом роде, — сказала она. — Когда я в средней школе… там создавали искусственные молнии с помощью… сейчас, сейчас… да, там была длинная лента, вращающаяся на валах, небольшие проводки, вызывающие трение, и вверху большой медный шар.
— Генератор Ван де Граафа.
— Верно. И с ним делали разные штуки. Помню, как я стояла на доске на миске вроде вашей, а они заряжали меня с помощью генератора. Я не испытывала ничего особенного, вот только все волосы на голове встали дыбом. Весь класс катался от смеха, а я выглядела как пугало. Потом мне сказали, что там было 40000 вольт.
— Отлично. Очень рад, что вы это помните. Здесь будет небольшое отличие — еще на 40000 вольт.
— О!
— Не беспокойтесь. Пока вы изолированы и все заземленные или относительно заземленные объекты — вроде меня — остаются на достаточном расстоянии от вас, никаких фейерверков не будет.
— Вы используете такой же генератор?
— Нет, не такой… Кстати, это уже сделано. Этот генератор — вы.
— Я… Ой! — Она подняла руку, лежащую на мягком подлокотнике, и вдруг — треск разряда и легкий запах озона.
— Да, вы, и даже больше, чем я ожидал, к тому же — быстрее. Пожалуйста, встаньте.
Она начала медленно вставать, но закончила это действие с большой стремительностью. Когда ее тело оторвалось от кресла, его на долю секунды обвила сеть шипящих голубовато-белых нитей. Они или она сама толкнули ее на полтора ярда вперед. Потрясенная, почти лишившаяся сознания, девушка едва не упала.
— Держитесь лучше, — резко сказал он, и она пришла в себя, хватая ртом воздух. Мужчина отступил на шаг. — Становитесь на доску. Быстрее.
Девушка повиновалась и сделала два шага, оставив два маленьких огненных следа. Ступив на фанеру, она покачнулась, волосы ее зашевелились.
— Что со мной происходит? — крикнула она.
— Все в порядке, — успокоил он ее.
Подойдя к столу, мужчина включил акустический генератор, который низко завыл в интервале 100–300 Гц. Мужчина увеличил силу звука и повернул регулятор высоты тона. Когда вой стал более высоким, ее золотисто-рыжие волосы начали извиваться, каждый волосок стремился отделиться от остальных. Звук усилился до 10 КГц, потом перешел в неслышимые, вибрирующие в желудке 11 КГц. В крайних точках волосы опускались, а около 110 КГц становились торчком, точь-в-точь как у пугала.
Установив звук на более-менее приемлемом уровне, мужчина взял электроскоп и, улыбаясь, подошел к девушке.
— Вы сейчас электроскоп, вы знаете об этом? А еще живой генератор Ван де Граафа. И, конечно, пугало.
— Можно мне сойти отсюда? — выдавала она.
— Еще не сейчас. Не двигайтесь. Разница потенциалов между вами и другими предметами настолько велика, что, окажись вы вблизи чего-нибудь, произойдет разряд. Вам это не повредит, поскольку это не электрический ток, но может обжечь и доставить нервное потрясение. — Он вытянул электроскоп. Даже с такого расстояния, и даже в своем ужасе, она заметила, что золотистые листочки разошлись. Мужчина обошел вокруг нее, внимательно следя за листочками, поднося прибор ближе и отодвигая дальше, манипулируя им с обеих сторон. Потом вернулся к генератору и несколько уменьшил звук. — Вы излучаете такое сильное поле, что я не могу заметить отклонений, объяснил он и снова подошел к ней, на этот раз чуть ближе.
— Я не могу больше… Не могу… — прошептала она.
Не слыша ее или не желая слышать, он поднес электроскоп к ее животу, потом выше.
— О, вот ты где, — сказал он весело, поднося электроскоп к ее правой груди.
— Что? — простонала она.
— Ваш рак. Правая грудь, низко, ближе к подмышке. — Он свистнул. — Средних размеров и злокачественный, как сто чертей.
Девушка пошатнулась и опустилась на пол. Темнота обрушилась на нее, потом отступила в сиянии ослепительной голубоватой белизны и снова рухнула, как падающая гора.
Место, где стена соприкасается с потолком. Чужая стена, чужой потолок. Неважно. Все равно.
Спать.
Место, где стена соприкасалась с потолком. Какая-то помеха. Его лицо, близко, напряженное, усталое — глаза внимательные, упрямые, пронзительные. Неважно. Все равно.
Спать.
Место, где стена соприкасается с потолком. Чуть ниже луч заходящего солнца. Чуть выше — рыжевато-золотистые хризантемы в зеленой вазе. Снова какая-то помеха — его лицо.
— Вы меня слышите?
Да, но не отвечать. Не двигаться. Не говорить.
Спать.
Комната, стена, стол, ходящий взад-вперед мужчина, окно, за ним — ночь. Хризантемы, которые можно принять за живые, но понимаешь, что они срезаны и умирают.
Знают ли они об этом?
— Как вы себя чувствуете?
Настойчиво, настойчиво.
— Пить.
Холод и глоток чего-то, вызывающего болезненное сжатие челюстей. Сок грейпфрута. Она бессильно откидывается назад, опираясь на его руку, в другой его руке стакан.
О, нет, это не…
— Спасибо. Большое спасибо…
Попробую сесть. Простыня… моя одежда!
— Прошу прощения, — сказал он, словно читая ее мысли. Некоторые вещи просто противоречили колготкам и мини-платью. Все выстирано и высушено, ждет вас в любую минуту. Вон там.
Коричневая шерсть, колготки и туфли на стуле.
Он предупредительно отошел, поставив стакан возле одинокого графина на ночном столике.
— Какие вещи?
— Рвота. Судно, — откровенно объяснил он.
Простыня может укрыть ее тело, но не смущение.
— Мне так неприятно. Я, должно быть…
Он качает головой, фигура его раскачивается перед глазами.
— Вы перенесли шок, который еще продолжается.
Мужчина заколебался, она впервые заметила у него колебание. Теперь уже она почти читала чужие мысли.
Нужно ли ей об этом говорить?
Конечно, нужно. И он сделал это.
— Вы не хотели выходить из шока.
— Я ничего не помню.
— Груша, электроскоп. Укол, электростатическая реакция.
— Нет, — сказала она, — ничего не помню. — Потом, вспомнив: — Нет!
— Возьмите себя в руки, — резко сказал он, и девушка увидела его возле кровати, над собой, почувствовала его руки на щеках. — Не вздумайте снова уйти, вы можете с этим справиться. Можете, потому что теперь все уже в порядке, ясно? Все хорошо.
— Вы сказали, что у меня рак.
В ее голосе звучало обвинение.
— Это говорили вы, а не я.
— Но я была уверена.
— Это объясняет все, — произнес он, словно освободившись от тяжкого груза. — Моя процедура ни в коем случае не могла вызвать трехдневного шока. Это было что-то, жившее в вас.
— Три дня?
— Я становлюсь несколько напыщенным — это результат того, что я часто бываю прав. Я был излишне уверен в себе, верно? Когда предположил, что вы ходили к врачу или даже подверглись биопсии? А вы ей не подвергались, да?
— Я боялась, — призналась она, поднимая на него взгляд. — Моя мать умерла от этой болезни, тетка тоже, сестре ампутировали грудь. Этого было слишком много, поэтому, когда вы…
— Когда я установил то, о чем вы знали, но чего ни за что не хотели услышать, вы не смогли этого вынести. Вы побледнели, как бумага, и потеряли сознание. И это не имело ничего общего с семьюдесятью с чем-то там тысячами вольт постоянного тока, которые через вас проходили. Я успел подхватить вас в последний момент. — Он развел руки, показывая красные пятна ожогов, видимые из-под коротких рукавов рубашки. — Меня тоже почти нокаутировало, — улыбнулся он. — Но, по крайней мере, вы не разбили себе головы.
— Спасибо, — машинально сказала она и расплакалась. — Что мне теперь делать?
— Что? Вернуться домой и собрать воедино свою жизнь.
— Но вы же сказали…
— Когда до вас наконец дойдет, что это был не просто диагноз?
— Вы… неужели… Вы хотите сказать, что вылечили меня?
— Я хочу сказать, что в эту минуту вы лечите себя сами. Я уже говорил это раньше, помните?
— Помню, но не все. — Украдкой (однако он это заметил) она пощупала грудь. — Она все еще там.
— Если я вам дам палкой по голове, — сказал мужчина с нарочитой грубостью, — на ней вырастет шишка. Она будет там завтра, послезавтра, но через два дня начнет рассасываться. Через неделю она будет еще заметнее, но потом исчезнет окончательно. То же самое в вашем случае.
Только теперь до нее дошла важность этого факта.
— Одна процедура, излечивающая рак…
— О, Боже! — вздохнул он. — Снова придется выслушивать тираду. И не подумаю!
— Какую тираду?
— О моем долге перед человечеством. Обычно она имеет три фазы и многочисленные вариаций. Первая фаза касается моего долга перед человечеством и, в сущности, сводится к тому, что я мигу зарабатывать на этой основе. Вторая фаза касается исключительно моего долга перед человечеством, и ее я слышу не часто. Она совершенно игнорирует неприязнь, которую человечество проявляет к принятию полезной информации, если она не из признанных и заслуживающих уважения источников. Первая фаза отлично это понимает, но ищет способ обойти препятствия.
— Я не… — начала было девушка, но он прервал ее:
— Упомянутые версии сопровождаются откровениями, вытекающими из веры или мистицизма. Или же принимают этическо-философскую форму, чтобы заставить меня пойти на уступки, вызывая чувство вины, дополненное жалостью.
— Но я просто…
— Вы, — сказал он, целясь в нее длинным пальцем, — лишили себя лучшего примера того, о чем я только что говорил. Если мои предположения верны, вы пошли к какому-то коновалу, который, установив рак, послал вас к специалисту, а тот, сделав то же самое, направил вас к коллеге на консультацию. Охваченная паникой, вы попали в мои руки и излечились. Знаете, какой будет их реакция, если вы сейчас вернетесь и продемонстрируете им это чудо? «Самопроизвольная ремиссия», скажут они. И, кстати, не только врачи, — продолжал он с внезапным гневом, так что девушка задрожала под простыней. Всяк кулик свое болото хвалит. Ваш диетолог уважительно вспомнил бы о своих ростках пшеницы или микробиотическом рисовом печенье, священник упал бы ниц, вознося благодарность небу, а генетик повторил бы свою любимую теорию о скачке поколений и заверил бы вас, что у ваших предков была точно такая же ремиссия, только они ничего о ней не знали.
— Пожалуйста!.. — крикнула она, но мужчина не дал ей возможности продолжить.
— Знаете, кто я такой? Двойной инженер — механик и электрик — к тому же с дипломом юриста. Окажись вы настолько глупы, чтобы сказать кому-нибудь о том, что здесь произошло (полагаю все-таки, что это не так, а если ошибаюсь, то знаю, как защищаться), вероятно, меня посадили бы за врачебную практику без разрешения. Вы могли бы обвинить меня в насилии, поскольку я вонзил иглу в ваше тело, и даже в похищении, если бы вам удалось доказать, что я перенес вас сюда из лаборатории. Никто не поверил бы мне, что я излечил рак. Вы не знаете, кто я, правда?
— Да, я даже не знаю вашей фамилии.
— И я вам ее не скажу. Я тоже не знаю, как вас зовут…
— Ну, моя фамилия…
— Прошу ничего мне не говорить! Я не хочу этого слышать! Мне захотелось заняться вашей опухолью, поэтому я ею занялся. А теперь я хочу, чтобы вы ушли вместе с нею, как только сможете это сделать. Я выразился достаточно ясно?
— Позвольте мне одеться, — сказала она, — и я немедленно уйду.
— Без тирады?
— Без нее. — Гнев ее неожиданно сменился жалостью и она добавила: — Я просто хотела выразить вам свою признательность. Разве это было неуместно?
Его злость тоже прошла, он подошел к кровати, присел, так что их лица оказались друг против друга, и мягко сказал:
— Это очень мило с вашей стороны, несмотря на то, что эта благодарность кончится дней через десять, когда вас убедят в «самопроизвольной ремиссии», или через полгода, год, два или пять, когда исследования будут раз за разом давать отрицательный результат.
Она почувствовала в этих словах такую печаль, что невольно коснулась его руки, которой он держался за край кровати. Мужчина не убрал руку, но и не показал, что этот жест доставил ему удовольствие.
— Почему мне нельзя выразить вам свою благодарность?
— Это был бы акт веры, — холодно ответил он, — а ее уже нет, если она вообще когда-нибудь была. — Он поднялся и направился к двери. — Не уходите сегодня вечером. На улице темно, а вы не знаете дороги. Увидимся утром.
Утром он нашел дверь открытой. Постель была заправлена, простыня, наволочка и полотенца, которыми она пользовалась, старательно сложены на стуле.
Девушка исчезла.
Выйдя на небольшой двор, он погрузился в созерцание бонсаи.
Утреннее солнце золотило верхнюю часть кроны старого дерева, придавая изогнутым сучьям выразительность коричнево-серого бархатного барельефа. Только спутник бонсаи до конца понимает существующую между ними связь (есть еще и хозяева бонсаи, но это более низшая раса). Дерево обладает личностью, поскольку является живым существом, а все живое изменяется, желая, однако, изменяться по своему желанию. Человек видит дерево, в его мозгу возникает изображение будущей формы этого дерева, и человек начинает реализовывать свою концепцию. Дерево, однако, делает лишь то, что может сделать, и скорее погибнет, чем сделает что-то такое, чего деревья не делают, или сделает в более короткое время, чем пристало дереву. Поэтому формирование бонсаи всегда является компромиссом и сотрудничеством. Человек не может сам создать бонсаи, как не может этого сделать и само дерево. Все должно происходить на принципах сотрудничества и понимания, а это требует долгого времени. Человек знает свое бонсаи на память — каждую веточку, каждую трещину, каждую иголку — и часто в бессонную ночь или в свободную минуту за тысячу миль от дома вспоминает ту или иную линию или же целое, планирует будущее. С помощью проволоки, воды и света, прикрывая тканью, сажая траву, забирающую воду, закрывая обшивкой корни, человек объясняет дереву, чего от него хочет. Если указания достаточно ясны, дерево откликнется на них и будет послушно. Почти.
Ибо всегда будут существовать некие чисто индивидуальные отклонения, возникающие от чувства собственного достоинства: «Хорошо, я сделаю, как ты хочешь, но по-своему». И всегда дерево готово представить человеку ясное и логичное объяснение этих отклонений, а чаще всего (почти с улыбкой) говорит ему, что, поступая с более глубоким чувством, он мог бы этого избежать.
Это самая медленная скульптура в мире, и порой возникает сомнение, кто тут является скульптором — человек или дерево.
Мужчина стоял так минут десять, разглядывая золотистые отблески на верхних ветвях, потом подошел к деревянному резному ящику и вынул из него потрепанную тиковую тряпку. Открыв стеклянную стену ящика, он накрыл полотном корни и землю с одной стороны ствола, оставив другую свободной для ветра и влаги. Может, через какое-то время — месяц или два — один из побегов, тянущихся вверх, поймет то указание, и неравномерный приток влаги сквозь слой камбия убедит его продолжить свой рост горизонтально. А может, и нет — и тогда придется применять более сильнодействующие аргументы: бандажи, проволоку. Не исключено, что и после этого дерево будет настаивать на росте вверх и сделает это так убедительно, что человек откажется от своего намерения — многозначительный, терпеливый и увенчанный наградой диалог.
— Добрый день.
— А, черт возьми! — рявкнул он. — Из-за вас я чуть не откусил себе язык. Я думал, вы ушли.
— Так оно и было. — Она сидела в тени под стеной, повернувшись лицом к атриуму. — Однако остановилась, чтобы побыть немного с этим деревом.
— Ну и что?
— Я много думала.
— О чем?
— О вас.
— Сейчас?
— Послушайте, — решительно начала она. — Я не пойду ни к какому врачу, ни на какие исследования. Я не хотела уйти, не сказав вам этого и убедившись, что вы мне верите.
— Пойдемте что-нибудь съедим.
— Не могу. Ноги затекли.
Не долго думая, он поднял ее на руки и пронес через атриум. Обхватив его за шею, глядя ему в лицо, девушка спросила:
— Вы мне верите?
Он не замедлил шагов и, лишь оказавшись возле деревянного ящика, остановился и заглянул ей в глаза.
— Верю. Не знаю, почему вы приняли такое решение, но готов поверить.
Он посадил ее на ящик и слегка отодвинулся.
— Это акт веры, о котором вы говорили, — серьезно ответила девушка. — Думаю, вы заслужили его хотя бы раз в жизни, чтобы никогда больше не повторяли того, что сказали. — Она осторожно стукнула пятками о каменный пол и болезненно скривилась. — Ох! Вот это мурашки!
— Я вижу, вы достаточно долго думали.
— Да. Сказать еще?
— Конечно.
— Вы ожесточились и боитесь.
Мужчина, казалось, пришел в восторг.
— Расскажите мне об этом.
— Нет, — спокойно ответила она. — Это вы мне расскажите. Я считаю это очень важным. Почему вы такой сердитый?
— Это не так.
— Почему вы такой сердитый?
— Повторяю, это не так. Хотя, — добродушно добавил он, вы делаете все, чтобы я таким стал.
— Еще раз спрашиваю: почему?
Ей показалось, что он разглядывает ее очень долго.
— Вы действительно хотите знать?
Девушка кивнула.
Мужчина обвел рукой вокруг себя.
— Как по-вашему, откуда все это взялось — этот дом, земля, аппаратура?
Она выжидательно смотрела на него.
— Система удаления выхлопных газов. — В его голосе звучала хрипловатая нота, которую она уже успела узнать. — Они выходят из двигателей, совершая вихревое движение. Не сгоревшие частицы отлагаются на стенках глушителя на слой стеклянной ваты, которую можно вынуть и заменить свежей через несколько тысяч миль. Остаток выхлопа воспламеняется запальной свечой, и таким образом сгорает то, что может гореть. Тепло разогревает топливо, а остатки вновь вихревым движением осаждаются на вату, которой хватает на пять тысяч миль. То, что в конечном итоге выходит наружу, является — по крайней мере, при сегодняшних нормах — почти чистым. А благодаря подогреву достигается большая эффективность двигателя.
— Значит, вы заработали на этом кучу денег.
— Да, я заработал кучу денег, — говорил он. — Но вовсе не потому, что мое изобретение способствовало очищению воздуха. Его купила автомобильная фирма, чтобы хранить у себя под замком. Им оно не понравилось, так как установка его на новых машинах требовала дополнительных расходов. А поскольку при этом повышалась эффективность двигателя, оно не понравилось и их друзьям из топливной промышленности. Что делать, человек учится на собственных ошибках, и никогда больше я такой ошибки не совершу. Но вы правы — я человек сердитый. Я был сердит и тогда, когда молодым парнем служил на танкере и мне велели тщательно вымыть переборку с помощью серого мыла и тряпки. Я сошел на берег и купил детергента, который оказался лучше, дешевле и действовал быстрее. Я показал его лоцману и получил по морде за то, что хотел быть умнее его. Правда, он был пьян, однако худшее началось потом, когда команда — старые морские волки — объединились против меня и назвали «доносчиком», что на корабле является самым обидным прозвищем. У меня в голове не умещалось, почему люди так упрямо сопротивляются прогрессу.
Всю жизнь я боролся с этим. У меня в мозгу есть какой-то механизм, который никогда не выключается, заставляя меня задавать все новые вопросы: почему все так и так? А почему не может быть так и этак? Любая ситуация создает возможность дальнейших исследований, и нельзя останавливаться, особенно если человек жаждет ответа, поскольку каждый вопрос несет с собой очередной ответ. А нынешние люди просто не желают задавать следующего вопроса.
Я получил кучу денег за вещи, которые никогда не будут служить людям, и если меня трясет от злости, это исключительно моя вина, поскольку я не могу удержаться от задавания очередных вопросов и поисков ответа. В этой лаборатории находятся полдюжины действительно стоящих изобретений, а еще штук пятьдесят — в моей голове. Но чего можно добиться в мире, где люди скорее перебьют друг друга в пустыне, даже если им доказать, что ее можно превратить в цветущий оазис, где миллионы идут на разведку и освоение нефтяных месторождений, несмотря на множество аргументов тому, что ископаемое топливо несет нам всем гибель?
Да, я сердит, но разве у меня нет к тому причин?
Она позволила эху его слов улететь через верхнее отверстие атриума и подождала еще немного, чтобы он понял, что находится здесь с нею, а не со своей яростью. Мужчина смущенно улыбнулся, когда это до него дошло.
— А может, — заговорила девушка, — вы задаете вопросы, неверно формулируя их? Возможно, люди, живущие по старым максимам, стараются не думать, однако я знаю максиму, заслуживающую самого пристального внимания: «Если ты правильно задал вопрос, то уже получил на него ответ». — Она сделала паузу, проверяя, слушает ли он ее. Слушал, и девушка продолжала: — Я хочу сказать, что, положив руку на раскаленное железо, вы могли бы задать себе вопрос: «Что делать, чтобы она не сгорела?» Ответ очевиден, правда? Если мир отбрасывает ваши предложения — если некий способ спросить «почему?», содержащий ответ.
— Ответ прост, — коротко сказал он. — Люди глупы.
— Это неверный ответ, и вы прекрасно это знаете.
— А как звучит правильно?
— Этого я не могу вам сказать! Знаю только, что в случае людей главное КАК делать, а не ЧТО. Вы же знаете уже, как поступать с бонсаи, чтобы реализовать свою идею, правда?
— Черт возьми!
— Люди тоже существа живые и развиваются. У меня нет даже одной сотой вашего опыта, если говорить о бонсаи, но уверена, что, когда вы начинаете их формировать, это редко бывают деревца здоровые, прямые, сильные. И именно из этих чахлых и изогнутых могут в будущем возникнуть самые красивые. Помните об этом, собираясь формировать человечество.
— Все это… Не знаю, рассмеяться ли вам в лицо или ударить кулаком.
Она встала, и он только сейчас заметил, насколько она высока.
— Я лучше пойду.
— Нет, говорите дальше. Это я не в буквальном смысле.
— Да нет, я вовсе не испугалась. Однако лучше мне уйти.
— Вы боитесь задать следующий вопрос? — спросил он, угадав ее мысли.
— Ужасно.
— И все же спрашивайте.
— Нет.
— Тогда я сделаю это за вас. Вы сказали, что я сердит и полон страха. Вы хотите знать, что меня пугает?
— Да.
— Вы. Я смертельно боюсь вас.
— В самом деле?
— В вас есть что-то, вызывающее на откровенность, — с трудом выдавил он. — Я знаю, что вы сейчас думаете: он боится близкого контакта с другим человеком. Боится всего, с чем не справится с помощью отвертки, спектроскопа или таблицы косинусов и тангенсов. С этим я ничего не могу поделать.
Тон его был шутлив, но руки дрожали.
— Вы справитесь с этим, поливая одну сторону или выставляя ее на солнце, — мягко сказала девушка. — Обходитесь с этим, как с живым существом — женщиной или бонсаи, — и оно станет тем, чем вы хотите, если вы позволите ему быть самим собой, посвятите ему свое время и усилия.
— Думаю, это своего рода предложение с вашей стороны. Почему?
— Пока я сидела так почти всю ночь, — ответила она, — меня посетила безумная идея. Как вы думаете, бывало когда-нибудь, чтобы два чахлых, изогнутых деревца сформировали друг из друга бонсаи?
— Как тебя зовут? — спросил он.
Перевод с англ. И. Невструева

Роберт Шекли
ТЕЛО

Открыв глаза, профессор Майер увидел трех молодых людей, которые делали операцию; они склонились над ним в напряженных позах. Ему подумалось, что для такой операции они слишком молоды и непочтительны. У них были стальные пальцы, железные нервы и каменное сердце. По существу, это были не люди, а автоматы, вооруженные обширными техническими знаниями.
Наркоз еще давал себя знать, и он не сразу осознал, что операция удалась.
— Как вы себя чувствуете?
— Вы слышите нас?
— Вы можете говорить? Если нет, то кивните или опустите веки.
Все трое с нетерпением ждали, что ответит пациент. Майер сглотнул и произнес хриплым голосом, пробуя свое новое небо и горло:
— Я думаю… Мне кажется…
— Все в порядке! — завопил Кэссиди. — Фельдман, проснись!
— Он уже пришел в себя? — спросил Фельдман, вскочив с койки и нащупав очки. — Он говорит?
— Да, говорит! Как пророк! Наконец-то мы добились своего!
Отыскав наконец очки, Фельдман рванулся к операционному столу.
— Сэр, скажите еще что-нибудь! Хоть что-нибудь!
— Я…я…
— Боже мой! Кажется, я сейчас упаду в обморок, — простонал он. Смеющаяся троица окружила Фельдмана, хлопая его по спине. Глядя на них, он тоже засмеялся, но тут же закашлялся, поперхнувшись.
— Кент! Где Кент! — закричал Кэссиди. — Он десять часов подряд не отходил от своего чертова осциллографа, он должен быть здесь! Дьявольская выносливость! Куда же он запропастился?
— Побежал за сэндвичами, — ответил Лупович. — А вот и он! Кент, Кент, получилось!
Кент влетел в комнату с двумя бумажными пакетами и сэндвичем во рту.
— Он говорит? — закричал он, чуть не подавившись. — Что он сказал?
Послышался нарастающий гул голосов: к дверям устремилась толпа репортеров.
— Никаких интервью! — раздраженно рявкнул Фельдман. — Убрать их отсюда! Полицейский!
Полицейский пробился через толпу и загородил собою дверь.
— Ребята, вы слышали, что сказал доктор?
— Это произвол! Майер принадлежит всему миру!
— Что он сказал, когда очнулся?
— Его на самом деле превратили в собаку?
— А какой породы?
— А вилять хвостом он может?
— Расходитесь, ребята! Профессор сказал, что чувствует себя вполне нормально, — отвечал полицейский, сдерживая натиск.
Под рукой у него прошмыгнул фотограф.
— Господи! — ахнул он, увидев профессора, и поднял фотоаппарат. — Глянь-ка сюда, дружок!
Полыхнула вспышка, но Кент успел заслонить объектив ладонью.
— Зачем ты это сделал? — возмутился фотограф.
— Зачем, чтобы у тебя оставалась на память фотография моей ладони, — насмешливо ответил Кент. — Увеличь ее и повесь в Музее современного искусства. А сейчас — убирайся подобру-поздорову, пока я не намылил тебе шею.
— Давайте, ребята, давайте отсюда, — полицейский выпроваживал незванных гостей. В дверях он оглянулся на профессора. — Провалиться мне, этого не может быть, — пробормотал он.
Когда дверь за полисменом медленно закрылась, Кэссиди воскликнул:
— А теперь давайте выпьем!
— Отметим!
— Мы это заслужили, черт побери!
Профессор Майер лишь улыбнулся внутренне: во внешних проявлениях чувств он был ограничен.
— Как вы себя чувствуете, профессор? — подошел к нему Фельдман.
— Хорошо, — ответил Майер, тщательно выговаривая слова, только, пожалуй, немного смущен…
— Не жалеете? — спросил Фельдман.
— Как сказать… — ответил профессор. — Вы же знаете, я был в принципе против этого. Незаменимых людей нет.
— А вы? Я бывал на ваших лекциях, но из того, что вы говорили, не понял и десятой части. Математическая символика, все эти кванторы общности не для меня.
— Прошу вас… — Майер попытался остановить его.
— Нет уж, сэр, позвольте мне досказать. Вы продолжили работу Эйнштейна и других. Закончить ее никто, кроме вас, не сможет! Никто! А вам необходимы еще несколько лет в любой оболочке, какую может дать наука. Я жалею только об одном что нам не удалось найти более подходящего вместилища для вашего интеллекта. Человеческие тела нам были недоступны, поэтому пришлось…
— Главное — сохранить интеллект, а остальное значения не имеет, — сказал Майер. — Только голова у меня все еще кружится.
— Я помню последнюю вашу лекцию в Гарварде, — сжав руки, продолжил Фельдман. — Сэр, вы были так стары! Мне хотелось плакать, глядя на вас. Такое усталое, дряхлое тело…
— Хотите что-нибудь выпить? — спросил Кэссиди, держа в руке бокал.
— Боюсь, что для такой посуды мое новое лицо не подходит, — усмехнулся Майер. — Уж лучше миска.
— Вы правы, — сказал Кэссиди. — Мы дадим вам миску. О боже!
— Сэр, простите нас, — вмешался Фельдман. — Нам крепко досталось. Ужасное напряжение… Целую неделю мы не выходили из операционной, почти не спали; временами у нас просто руки опускались, сэр…
— А вот и ваша миска! — воскликнул Лупович. — Сэр, вам виски или джин?
— Простой воды, пожалуйста, — попросил Майер. — Могу я встать, как вы думаете?
— Только не волнуйтесь. — Лупович снял его со стола и осторожно опустил на пол.
Профессор пошатнулся, но все же устоял на всех четырех ногах.
— Браво! — раздалось вокруг.
— Мне кажется, завтра я смогу начать работать, — сказал Майер. — Но для того, чтобы я смог писать, нужно придумать какой-нибудь механизм, думаю, это будет не очень сложно. Разумеется, возникнут и другие трудности. У меня в голове не все прояснилось.
— Самое главное — не торопиться!
— О, нет! А где здесь ванная?
— Зачем? — переглянулись молодые люди.
— Заткнитесь, идиоты! Вот сюда, сэр. Я помогу вам открыть дверь.
Оценивая на ходу преимущества передвижения на четырех конечностях, Майер последовал за врачом.
Вернувшись, он обнаружил, что в комнате идет разговор о технических подробностях операции:
— …впервые за миллионы лет!
— Я не согласен. Можно сказать…
— Мальчик, не читай лекции. Ты же знаешь, одна неприятность лезла на другую. Нам просто повезло!
— Ну уж нет! Из этих биоэлектрических изменений некоторые…
— Тише, он идет!
— Слишком много ходить ему пока не следует. Ну, малыш, как ты себя чувствуешь?
— Я вам не «малыш», — ответил профессор. — Я достаточно стар, чтобы быть вашим дедушкой!
— Простите, сэр, но мне кажется, что вам пора спать.
— Да, я еще слаб, — вздохнул профессор, — и голова еще кружится.
Кент поднял его и положил на койку. Улыбаясь, очень довольные собой, они окружили его и обхватили друг друга за плечи.
— Что бы вы еще хотели, сэр?
— Вот ваша миска с водой, сэр!
— Отдыхайте, сэр, — нежно произнес Кэссиди, и непроизвольно, почти машинально, потрепал профессора по его длинной поросшей гладкой шерстью голове.
Фельдман что-то нечленораздельно выкрикнул.
— Простите, сэр, я совсем забылся, — смущенно пробормотал Кэссиди.
— Нам нужно следить друг за другом. В конце концов он же человек.
— Конечно, конечно, я знаю, но это, должно быть, от усталости… И все же он так похож на собаку, что можно забыть…
— Быстро убирайтесь отсюда! — приказал Фельдман, вытолкнув всех за дверь, и вернулся к Майеру.
— Сэр, что вы еще хотите?
Майер пытался заговорить, но слова застряли у него в горле.
— Даю слово, что это больше никогда не повторится, сэр. Ведь вы — профессор Майер.
Тело профессора вздрогнуло, и врач быстро накрыл его одеялом.
— Не расстраивайтесь, сэр, все будет хорошо, — увещевал Фельдман, стараясь не глядеть на койку. — Ведь прежде всего — ваш интеллект! Ваш мозг!
— Разумеется, — согласился профессор Майер, великий математик, — только, знаете, мне самому очень страшно, но… не могли бы вы… не могли бы вы почесать меня за ухом?
Перевод с англ. Л. Дейч
